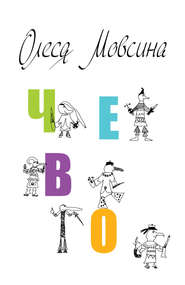По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Всемирная история болезни (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– В таком случае, я жду вас завтра, в это же время, вижу, что вы еще не готовы, – с морщинками легкой досады закивал интеллигений.
– Ну, с самого начала я вам рассказать не могу, иначе нам придется обратиться аж к самому приятелю Адаму, – на следующий день беседа пошла поживее. – Мы выбрали вас, одного из немногих, дабы поселить в этом доме, потому что вы нам подходите, – говорил симпатичный отец Елизар, садясь и подкладывая себе под спину давешнюю красную подушку.
– Что у вас здесь – общество, секта, масонская ложа? – Матвей почувствовал себя способным на вопрос.
– И то и другое, называйте, как хотите. Для вас теперь этот дом – просто Дом. Здесь мы обеспечим вас всем, что необходимо для жизни, размышления и творчества. Мы предоставляем и гарантируем вам массу свободного времени, богатейшую, я бы даже сказал, уникальную библиотеку, лесные прогулки, беседы и споры с коллегами, даже изюминку абсурда и перчинку страдания, столь необходимые для творчества, – миловидно усмехнулся Интеллигений.
Матвей протянул руку к паузе:
– И что я должен взамен?
– Вот молодец, – обрадовался отец Елизар, ибо пауза как раз и была предназначена для этого вопроса. – Взамен, уважаемый, вы просто должны делиться с нами результатами своего творчества, своими мыслями, изложенными в удобочитаемой форме. Роман, либо там философский трактат – это уж как пожелаете.
– Это называется эксплуатацией мозгов с, возможно, последующей спекуляцией?
– Ну, Матвей Ильич, вы колоссально продвинулись в вашем духовном развитии по сравнению со вчерашним днем. Но всё-таки это называется немного иначе. Люди, собранные нами здесь, работают в первую очередь для себя, они свободно творят, а мы им только помогаем, создавая самые благоприятные условия. Мы не делаем на этом денег. Никто и никогда не продаст, не напечатает ни единого вашего труда ни под вашим, ни под чьим-либо другим именем, ни одна рукопись не покинет стен этого Дома. Только мы, руководители, ваши коллеги и последователи смогут прикоснуться к вашим драгоценным творениям.
– А если я не захочу ничего писать? – спросил Матвей и тут же странным образом почувствовал, что захочет. – Ну, хорошо, а если я просто уйду отсюда, если мне понадобиться уйти?
– Милый мой, нас окружают сотни километров леса, и если вы не хотите повторить подвиг своего собственного батюшки, – с намеком улыбнулся отец Елизар и впервые показался Матвею отвратительным, – то…
– Так вы мне угрожаете? Значит, это все-таки банальное насилие!
– Как это мелочно, Матвей Ильич. Вы же сами нас выбрали, сами пришли сюда, мы вам нужны даже больше, чем вы нам. Считайте, что мы просто командируем вас выполнять необходимую и интересную работу. Отправляясь в своего рода метафизическую разведку, вы поможете нам, поможете человечеству на несколько шагов приблизиться к Истине.
Матвей одурело смотрел на вещавшего:
– Зачем это вам, лично вам нужно?
– В свое время мы поговорим и об этом. И оставьте в покое свою Фенечку, как Кьеркегор оставил Регину. Можете вдохновляться ее образом, но живая женщина для вас – это конец поиска. Кстати, тут у всех наших питомцев есть что-то вроде подпольных имен, ну, так удобнее. Я бы предложил вам называться Кьеркегором, слишком уж много сходного в характере и судьбе у вас с этим мыслителем. Как вам нравится, а? Простенько и со вкусом.
И когда ото всего этого бардака у Матвея снова запрыгали желтые чертики в глазах, он поймал свои веки руками и простонал последний вопрос:
– Что у вас… Чем вы меня… Что у этого горбуна во фляге?
– А, у Псевдо-Квази? – засмеялся где-то за спиной, а потом и под ногами у Матвея голос Интеллигения, – а пусть он вам сам об этом однажды расскажет.
И желтые чертики, наглые, выпили все звуки.
24
Возвращаясь со спецзадания в тайное шпионское берлогово, ротвейлер Сумрачный как-то странно загрустил. Бесчувственную Жучку он сложил аккуратненько под кустом, потом разнюхал обстановку на площадке перед клубом собаководов, и вот уже отважно трусил мимо тридцать третьего дома одному ему ведомыми тропами, как вдруг запах небывалого волнения ударил в его правую ноздрю. Сумрачный вспомнил, как беспомощно скатилась Жучкина черная башка с его плеча, когда он перепрыгивал через лужу. И в тот же момент суровый служака увидел, что наступила весна.
В шпионском берлогове все было спокойно. Инфаркт Миокардович мирно, по-домашнему, строил коварные планы, баба Яга искала у бассета блох, а Жиров, Белков и Углеводов играли в контурные карты и ели черно-красную икру. Они уже съели так много этой икры, что начали икать, то есть говорить каждое слово через и краткую.
Но Сумрачного почему-то обуяло презрение к происходящему, и он не пошел, как делал это обычно, на доклад к начальству, а сразу заснул тревожным, растрепанным сном. Проснулся он перед рассветом, совсем больной и печальный, и захотелось ему совершить подвиг, чтобы унять внутреннюю маяту. Тут-то и пришла в голову ротвейлеру мысль провести первый допрос заключенной без санкции на то начальства (прямо-таки, скажем, дурацкая мысль).
Так или иначе, он стырил у Миокардыча заветные ключи и, не замеченный никем, пробрался в камеру Евовичи. Проплакав все глаза, девочка безропотно мотала свой сырок. Дело в том, что ужин ей выдали сухпаем, в виде плавленых сырков «Дружба», а у нее с детства была на них аллергия. И вот, чтобы отвлечься от голода, бессонницы, мрачных мыслей и вредной привычки ковырять в носу, Евовичь вытягивала один за другим желтые кубики в струнку и наматывала их на железную решетку, в изобилии растущую вокруг. Получалось красиво.
При виде сумрачно появившегося ротвейлера она взвизгнула и вспрыгнула на нары, как от крысы.
Не боись, я тут это… Несколько вопросов, – Сумрачный вляпался в, – не в службу, а в дружбу, скажи, вот ваша Жучка, – и окольными путями понес такую околесицу, такую собачью чушь, что Евовичь и правда бояться перестала. И о том, сколько было у нее щенков, и о том, «Педикгриль» она предпочитает или русскую сахарную косточку, и не мечтала ли она в детстве полететь в космос, и, наконец, как относится к предложению клуба собаководов демонтировать памятники Павлову в некоторых городах.
Евовичь, хоть и была малоопытной девчонкой, никого, кроме брата, в своей жизни не любившей, всё ж таки смекнула, что Сумрачный просто-напросто влюбился в Жучку как щенок. Василиса-наша-премудрая, воспользовавшись этим открытием, расположила к себе раскисшего врага и выяснила следующие факты: Жучке временно удалось бежать, саму Евовичь тоже скоро отпустят, но всей семье продолжает угрожать какая-то опасность. Какая именно, тут ротвейлер опомнился и замолчал с чувством собственного достоинства и прилипшего к лапе сырка.
Часы допроса пролетели незаметно для обоих. Из камеры ротвейлер вышел не чуя под собой ног: его как пьяного качала из стороны в сторону классицистическая дилемма: быть или не быть, борьба страсти и долга заботливо сверлила его мозги. В комнате Связи он застал Бабу Ягу, которая вязала что-то для бассета на полуспицах, Хозяина и трех разбойников, прослушивающих какие-то пленки с видом обделенных наследников. Сумрачный только услышал голоса, произносящие ее имя. Он не понял, о чем речь, но, набравшись наглости, чтобы скрыть смущение, протянул:
– А-а, Жучка, а мы только что о ней говорили. Долго жить, значит, будет.
– Жучка умерла, – огрызнулся Белков на это, в который раз ощупывая свой раздувшийся живот.
– А жучок? – ротвейлер произнёс фразу, которую, по его мнению, должен был произнести разведчик, не замеченный в морочащих связях. А сам подумал: «Вот и всё, вот и всё!» – и побежал отлеплять сырок.
А что жучок?..
И надо вам сказать по секрету (раз уж мы обнаружили у себя в повествовании этот мотив секретности), что начсмены завода футбольных мячей Яромир Кашица очень давно не имел, но очень хотел иметь собаку. Он не мог купить себе породистого щенка, потому что втайне считал куплю-продажу слишком грязным фактом для начала высоких отношений, а подобрать на улице бездомную дворнягу не позволяло дяде Ярику врожденное чувство брезгливости и почти маниакальной чистоплотности. Он мечтал о каком-нибудь выходящем за рамки обыденности случае. Бессонными ночами ему представлялось, как он спасает от пожара или наводнения мохнатое, беззащитное существо, всё вокруг них рушится, а оно благодарно подвывает в его объятиях и… И подобная хрень – в самых красочных деталях.
Сегодня судьба посылает ему – прямо-таки, скажем, воздушный поцелуй. История – куда уж романтичней: только он один может спасти Жучку, благородную дворнягу Сиблингов! Но, увы, он надует, как мяч, ее прекрасное тело, но не сможет вдохнуть в неё жизнь. И, увы, ему еще раз – в любом случае собаку придется вернуть хозяевам.
Хотя насчет последнего обстоятельства была у Кашицы кой-какая мыслишка. Хорошо, что сегодня как раз воскресенье, рабочих на заводе нет, а ключи от клонировочной можно выиграть у Ворошиловского в честном бою. Охранник с удовольствием поставит на кон вверенную ему связку ключей, так как в последний раз продул последний пятак и едва удержался, чтобы не бросить предательский взгляд на своего трехствольного друга.
Яромир Кашица очень давно не имел, но очень хотел иметь собаку
Дело в том, что по ночам молодой контрразведчик и пожилой начсмены, оставаясь вдвоем в огромном здании Секретного завода, загадывали друг другу загадки.
25
(Еще из дневника).
Когда родился мой мальчик, я поняла, как похожи друг на друга жизнь и смерть. Нет, неправильно – рождение и умирание. Знак поменялся с минуса на плюс, но неподъемное для человеческого рассудка чудо снова заставило меня задыхаться и искать поддержки у кого-то более сильного. Но таковой среди людей ни в первый, ни во второй раз так и не нашелся.
А я хотела знать, что произошло, как так у человека получается исчезнуть, превратиться в ничто и – наоборот. Почему из пустоты появляется новое существо с всезнающими, самодостаточными глазами? (У моего Матвея были именно такие глаза с первых же дней.)
И главное, что указало мне на их сходство, – это моя роль. Роль человека, самого близкого тому, кто умер, и тому, кто родился. Я давно перестала быть беспечной и безответственной школьницей, но только теперь – впервые и сразу дважды – почувствовала свою незаменимость на земле. В том смысле, что нельзя попросить кого-то, чтобы он за тебя временно пожил, пока ты будешь отдыхать. С ума сходя от усталости, отрывая свинцовое тело от постели, чтобы в пятый раз за ночь накормить и успокоить орущего младенца, я чувствовала только одно: это должна сделать я, это только я могу сделать, и никто… Даже если бы за детской кроваткой стоял целый сонм бабушек и нянюшек, всё равно – никто бы не исполнил роли вместо меня. Не схалтурить, не увильнуть, ни на секунду не обмануть заходящуюся криком неотвратимость.
Такое же чувство было несколько месяцев назад, когда я спрашивала, почему это случилось именно со мной, когда искала хоть какой лазейки для успокоения и не находила. Эдак стояла перед железной стеной, билась в нее головой, а уйти со своего места не могла, потому что уйти с него просто невозможно.
Конечно же, теперь было счастье. Но это было очень трудное счастье. Когда-то, в детстве, а особенно, наверное, в ранней юности – для радости не нужно было прилагать усилий. Как дыхание: оно – мне, а не я – ему. Всё, кажется, плыло навстречу, и что-то удавалось схватить, а что-то плыло дальше само по себе. Теперь каждая минута радости стала стоить мне титанического труда. То, что раньше двигалось само, теперь приходилось заводить и толкать вручную. Но странно и прекрасно – радость, достигнутая таким путем, ничуть не искажалась и не умалялась. Дотащившись через весь день до вечера, вытащив любимого человечка из-под бремени мокрых пеленок, массажей и болей в животике, я зависала над кроваткой как зачарованная. Судорожно смеялась, касаясь щекой спящего личика, а его молочно-карамельный запах, кажется, щекотал мне самое сердце.
И было только одно чувство, превосходящее по силе этот нежный дрожащий восторг. Было, оно же и осталось, чувство – страх. Вообще я утверждаю, что материнство – это что-то сродни болезни разума, измененное состояние сознания, непостижимое для непосвященных.
С первых дней жизни моего сыночка мне стало казаться, что так или иначе я его потеряю. Спрашивается – с какой стати? Но это спрашивает здоровый рассудок, может быть, исключительно мужской. Болезни, несчастные случаи, какие-то невиданные катастрофы материализовались в кошмар и начали всюду преследовать меня своими наглыми глазами. Нервы оголились: я боялась, что не смогу защитить, я боялась, что со мной самой что-нибудь случится, а он останется один, я боялась даже застрять в лифте или поскользнуться в темноте. И при этом понимала глупость своего истеризма. Но избавиться от него не могла.
Возможно, это чувство знакомо всем, особенно молодым, мамашам. Другое дело, у меня оно усугублялось страшным опытом: еще незабытой, такой неожиданной и уж совсем не объяснимой гибелью любимого мужа.
(Да-да, надо будет написать об этом статью, не забыть, нашему редактору подобные вещи нравятся.)
26