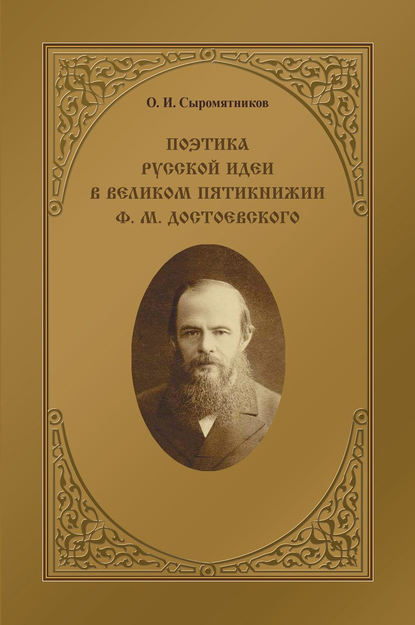По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Поэтика русской идеи в «великом пятикнижии» Ф. М. Достоевского
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Эта мысль – оправдание униженных и всеми отринутых парий общества» [20; 28] – и является содержанием внешней идеи романа.
Здесь же Достоевский намечает и основные подходы к созданию формы этой идеи, стремясь за счёт криминальной канвы сюжета придать ей яркость и «занимательность»: «Это – психологический отчёт одного преступления». Время романного действия актуально: «Действие современное, в нынешнем году». Ясно обозначен главный герой и его социальный статус: «Молодой человек, исключённый из студентов университета, мещанин по происхождению…», провинциал (мать живёт в уезде). Указаны основные причины, толкнувшие его на преступление: «крайняя бедность» и его заражённость «некоторыми странными «недоконченными» идеями, которые носятся в воздухе», и его цель: «сделать счастливою свою мать», «избавить сестру, живущую в компаньонках у одних помещиков, от сластолюбивых притязаний главы этого помещичьего семейства», «докончить курс, ехать за границу и потом всю жизнь быть честным, твёрдым, неуклонным в исполнении «гуманного долга к человечеству», чем, уже конечно, «загладится преступление» [28, 2; 136]. Задана основа системы образов: положительные персонажи (мать, сестра) и отрицательный (сластолюбивый помещик), вступающие в конфликт друг с другом. Задуманное преступление должно совершиться «и скоро и удачно», «никаких подозрений нет и не может быть». Но «неразрешимые вопросы восстают перед убийцею, неподозреваемые и неожиданные чувства мучают его сердце. Божия правда, земной закон берёт своё, и он – кончает тем, что принуждён сам на себя донести» [28, 2; 137].
Писатель ясно и однозначно указывает на главную причину преступления своего героя – оно стало следствием действия «странных, недоконченных» идей, завладевших душой молодого человека. Причём кавычки Достоевского – «недоконченные» – в письме к такому деятелю, как М. Н. Катков, могли означать не только незавершённость этих «идей», но и то, что их надо «докончить» (т. е. побороть и уничтожить) раз и навсегда. И сделать это должны противоположные им идеи – «Божия правда» и «земной закон», содержание которых Достоевский не раскрывает, так как оно напрямую связано с его личными мировоззренческими установками и с главной идеей его творчества.
На наш взгляд, этот замысел воплотился в романе полностью. Незначительные изменения не имеют принципиального характера: опущен социальный статус главного героя[8 - Рассматривался вариант – «дворянин» [7; 186].]; от преступления до признания – не «почти месяц», а всего десять дней. Более важным представляется то, что наказание начинается ещё до преступления. «Неразрешимые вопросы»: «Тварь ли я дрожащая или право имею?»; «неподозреваемые и неожиданные чувства»: «Да неужели ж, неужели ж я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп… буду скользить в липкой, тёплой крови, взламывать замок, красть и дрожать; прятаться, весь залитый кровью… с топором… Господи, неужели?» [6; 50] «восстают» перед главным героем ещё до преступления. С православной точки зрения Раскольников стал преступником не тогда, когда поднял топор, а когда сознательно и свободно «позволил своей совести перешагнуть через кровь». Однако в словах героя заметен самообман – следствие работы ослеплённого гордыней разума, который, используя «отточившуюся как бритва казуистику», зарезал живую душу Раскольникова и «придушил в ней нравственное чувство» – совесть. Совесть человека стоит на страже нравственного закона и потому не может желать его нарушения, а уж тем более испрашивать на это санкцию у разума. Помимо изложения содержания внешней идеи романа (преступление и падение человека), Достоевский указывает и на возможную форму внутренней идеи. Нужно отметить, что уже сама архитектоника письма к Каткову говорит об ясном различении писателем внешней и внутренней идеи его романа: изложив внешнюю идею отдельным абзацем, он с красной строки начинает рассуждать о возможных путях воскресения своего героя (внутренней идее романа). Достоевский прямо указывает на обстоятельства этого воскресения («Неразрешимые вопросы восстают перед убийцею, неподозреваемые и неожиданные чувства мучают его сердце, <…> чувство разомкнутости и разъединённости с человечеством…») и его основные движущие силы («Божия правда, земной закон берет своё, <…> закон правды и человеческая природа взяли своё»). Важно помнить, что писатель рассуждает о внутренней идее романа, которого к моменту написания письма не существовало даже в черновике, и её невыразимость сразу проявляется в тексте. Многие слова последних строк абзаца, содержащего изложение формы внутренней идеи, неразборчивы, писатель словно сомневался в необходимости дописывать их: «Закон правды и человеческая природа взяли своё, убежд<ение?> внутреннее<?> даже без сопр<отивления?>.
Преступн<ик> сам решает принять муки, чтоб искупить своё дело» [28, 2; 137]. Здесь Достоевский начинает повторять сказанное выше, а потому прекращает попытки выразить внутреннюю идею романа: «Впрочем, трудно мне разъяснить вполне мою мысль. Я хочу придать теперь художеств<енную> форму, в которой она сложил<ась>. О форме <не закончено>» [28, 2; 137]. Действительно, говорить об окончательной форме внутренней идеи можно только после синтеза идейного содержания внешней.
По замыслу писателя, Раскольников должен был стать «одним из членов нового поколения» [7; 149], которое живёт в обществе, не имеющем ясного идеала, объединяющего людей и определяющего цели их деятельности. Реформы 1860?х годов были необходимы, но их следствием стало разложение традиционного уклада семейной и хозяйственной жизни, девальвация духовно-нравственных ценностей, утрата чётких жизненных ориентиров и идеалов. Молодёжь оказалась представлена самой себе. Позади – отвергаемое и презираемое прошлое, впереди – неясное будущее. Онтологическая неустойчивость молодого поколения подчёркивается писателем в письме к Каткову («Молодой человек, по шатости в понятиях…») и подбором для него «говорящей» фамилии – «Шатов» [7; 93].
Мысли о будущем русской молодёжи не оставляли Достоевского ни на минуту: «У наших же у русских, бедненьких, беззащитных мальчиков и девочек, есть ещё свой, вечно пребывающий основной пункт, на котором ещё долго будет зиждиться социализм, а именно, энтузиазм к добру и чистота их сердец» [28, 2; 154]. Этот процесс отрыва русской молодёжи от почвы и вовлечения её в «социализм, коммунизм, атеизм – самые лёгкие три науки» [24; 300], в своем единстве образующие нигилизм, постоянно находится в центре внимания писателя. Тем более что общественное мнение, на его взгляд, недооценивает развращающую силу нигилизма, вследствие чего в литературе «у нас чрезвычайно много напускных нигилистов» [28, 2; 61]. Достоевский открыто иронизирует над этим пережитком романтизма – «всеми нашими поэмами и романами с героями с «раздвоенною жизнью и высшим прозрением»» [23; 141] – и ставит перед собой задачу показать нигилиста настоящего, решительного, проповедующего учение «встряхнуть все par les quatre coins de la nappe[9 - Буквально: четырьмя углами скатерти (франц.).], чтоб, по крайней мере, была tabula rasa для действия» [28, 2; 154]. На примере развития идей нигилизма в сознании одного человека писатель показывает процесс «нигилизации» всего общественного сознания России. Поэтому судьба главного героя символизирует судьбу всей русской молодёжи.
Сохранившиеся подготовительные материалы, дневниковые записи и письма Достоевского этого периода позволяют с большой степенью достоверности представить весь процесс воплощения идеи романа: от замысла до последних авторских поправок. Это, в свою очередь, даёт возможность точно указать момент идейного синтеза[10 - Идейный синтез представляет собой важнейший этап создания художественного произведения, без которого невозможно появление содержания его внутренней идеи. Главная идея стремится к гармонии с объективным содержанием произведения, и автор ищет способ выразить её так, чтобы избежать тенденциозности и сохранить реалистичность уже созданных образов. При этом, несмотря на объективное значение идейного синтеза, крайне важна и оценка его результатов самим автором, потому что её итогом могут стать изменения в системе образов и композиции произведения.], значение которого Достоевский прекрасно сознавал: «Идеи смолоду так и льются, не всякую же подхватывать на лету и тотчас высказывать, спешить высказываться. Лучше подождать побольше синтезу-с (курсив наш. – О. С.); побольше думать, подождать, пока многое мелкое, выражающее одну идею, соберётся в одно большое, в один крупный, рельефный образ, и тогда выражать его» [28, 1; 210]. Две первые попытки воплощения первоначального замысла не удовлетворили писателя, так как их форма не привела к синтезу содержания уже готового материала. Писатель так сообщал об этом А. Е. Врангелю 18 февраля 1866 года: «В конце ноября было много написано и готово; я всё сжёг; теперь в этом можно признаться. Мне не понравилось самому. Новая форма, новый план меня увлёк, и я начал сызнова» [28, 2; 150].
Опираясь на даты в рабочих тетрадях Достоевского и учитывая характер содержащихся в них записей, можно определить хронологические рамки идейного синтеза «Преступления…» с достаточной точностью. Его началом следует считать записи в рабочей тетради, свидетельствующие об окончательном определении формы будущего произведения: «Перерыть все вопросы в этом романе. Но сюжет таков. Рассказ от себя, а не от него», а также метода его создания: «Предположить нужно автора существом всеведующим и не погрешающим <…>. Полная откровенность вполне серьёзная до наивности, и одно только необходимое» [7; 148–149]. «Перерыть» – значит, не только выделить главный вопрос, указывающий на основную проблему романа, но и определить возможные пути его разрешения – наметить форму внутренней идеи. Дальнейшая работа приводит Достоевского к окончательному утверждению имён персонажей и мест их жительства [7; 153] и завершается кульминацией идейного синтеза, результат которого отражают записи от 2 января 1866 года. В силу особой важности приводим их факсимильный вариант [7; 75], так как построчное изложение [7; 154] значительно искажает смысл:
Тщательно продуманная архитектоника текста отражает кульминацию идейного синтеза, чётко фиксируя последовательность его стадий. Обращает на себя внимание отсутствие запятой в оригинале после слов «Православное воззрение», указывающее переход от определения идеи романа («православное воззрение») к авторской задаче – показать, «в чём есть православие». Заметим, что никто из известных нам писателей никогда не ставил перед собой столь грандиозной задачи. Думается, что её блестящее выполнение и подняло творчество Достоевского на ту недосягаемую высоту, на которой оно находится сейчас. Становится ясна и причина непонимания Достоевского: без сердечного усвоения истин православной веры восприятие творчества православного писателя неизбежно превращается в его неприятие.
Определив, таким образом, внутреннюю идею романа, Достоевский делает отчерк и записывает ниже: «Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием. Таков закон нашей планеты…» [7; 154]. Это суждение перекликается со словами Сони Раскольникову в записи от 7 декабря 1865 года: «А в комфорте-то, в богатстве-то вы бы, может, ничего и не увидели из бедствий людских» [7; 150], – и непосредственно восходит к содержанию внешней идеи, как оно было сформулировано в письме к Каткову[11 - В тексте романа эту идею выражает Порфирий Петрович: «Тут дело фантастическое, мрачное, дело современное, нашего времени случай-с, когда помутилось сердце человеческое; когда цитуется фраза, что кровь «освежает»; когда вся жизнь проповедуется в комфорте» [6; 348].]. На следующей странице утверждаются идеи образов Раскольникова («Непомерная гордость») и Сони («Она ведёт ему напротив») [7; 155]. И уже после этого следует конкретизация черт характеров Разумихина, Свидригайлова, Лужина и других персонажей, заканчивающаяся записями, относящимися к середине февраля 1866 года.
Таким образом, границами идейного синтеза следует считать записи «Перерыть все вопросы в этом романе…» и «СИМВОЛ ВЕРЫ….» [7; 148 и 161], что составляет временной промежуток от конца ноября 1865 года до середины февраля 1866 года. Кульминация идейного синтеза, результатом которой стало определение внутренней идеи романа («Православное воззрение…»), произошла 2 января 1866 года.
Следует отметить особое обстоятельство, повлиявшее на ход работы над романом и её результат. Предлагая «Русскому вестнику» ещё не написанный роман, Достоевский сообщил о своём крайне бедственном материальном положении и получил аванс, в результате чего оказался в полной зависимости от издателя. Вскоре обнаружилось, что идеологическая позиция Каткова хотя и не враждебна писателю, но и не вполне близка, что выразилось в требованиях переделать некоторые сцены романа. Между тем, приступая к работе, в декабре 1865 г. Достоевский писал: «Я люблю мою теперешнюю работу, я слишком много возложил надежд и <…> на этот роман мой», «с любовью занимаюсь моей работой и дорожу впечатлением на публику…», а потому «покорнейше прошу редакцию «Русск<ого> вест<ника>» не делать в нём никаких поправок. Я ни в каком случае не могу на это согласиться» [28, 2; 145, 146, 147].
Эта просьба была проигнорирована, и 25 апреля 1866 г. Достоевский пытается объясниться с Катковым: «Откровенно говорю, что я был и, кажется, навсегда останусь по убеждениям настоящим славянофилом, кроме крошечных разногласий, а следовательно, никогда не могу согласиться вполне с «Московскими ведомостями»[12 - Эта газета также издавалась Катковым.] в иных пунктах» [28, 2; 154]. Он подробно излагает свои взгляды, ставшие внутренней идеей романа: «Учение «встряхнуть всё par les quatre coins de la nappe, чтоб, по крайней мере, была tabula rasa для действия», – корней не требует. Все нигилисты суть социалисты. Социализм (а особенно в русской переделке) – именно требует отрезания всех связей. Ведь они совершенно уверены, что на tabula rasa они тотчас выстроют рай. Фурье ведь был же уверен, что стоит построить одну фаланстеру и весь мир тотчас же покроется фаланстерами; это его слова. А наш Чернышевский говаривал, что стоит ему четверть часа с народом поговорить, и он тотчас же убедит его обратиться в социализм. <…>. Но все эти гимназистики, студентики <…> так чисто, так беззаветно обратились в нигилизм во имя чести, правды и истинной пользы! Ведь они беззащитны против этих нелепостей и принимают их как совершенство. Здравая наука, разумеется, всё искоренит. Но когда ещё она будет? Сколько жертв поглотит социализм до того времени? И наконец: здравая наука, хоть и укоренится, не так скоро истребит плевела, потому что здравая наука – всё ещё только наука, а не непосредственный вид гражданской и общественной деятельности. А ведь бедняжки убеждены, что нигилизм – даёт им самое полное проявление их гражданской и общественной деятельности и свободы» [28, 2; 154].
Многие из этих мыслей были, безусловно, близки Каткову, но свои требования к роману он не смягчил. Наибольшие нарекания вызвала сцена чтения Евангелия и последующий разговор Сони с Раскольниковым. По требованию редакции Достоевский неоднократно изменял её первоначальный вариант, и наконец 8 июля 1866 года он пишет редактору «Русского вестника» Н. А. Любимову: «Переделал и, кажется, в этот раз будет удовлетворительно. Зло и доброе в выс шей степени разделено, и смешать их и истолковать превратно уже никак нельзя будет. Равномерно, прочие означенные Вами поправки, я сделал все и, кажется, с лихвою <…>. А теперь до Вас величайшая просьба моя: ради Христа – оставьте всё остальное так, как есть теперь. Всё то, что Вы говорили, я исполнил, всё разделено, размежевано и ясно. Чтению Евангелия придан другой колорит. Одним словом, позвольте мне вполне на Вас понадеяться: поберегите бедное произведение моё, добрейший Николай Алексеевич!» [28, 2; 164].
Об осложнившихся отношениях с «Русским вестником» писатель с тревогой сообщает А. П. Милюкову: «В расчете Любимова <…> была ещё и другая <…> мысль, а именно: что одну из этих, сданных мною 4?х глав, – нельзя напечатать, что и решено было им, Любимовым, и утверждено Катковым. Я с ними с обоими объяснялся – стоят на своём! Про главу эту я ничего не умею сам сказать; я написал её в вдохновении настоящем, но, может быть, она и скверная; но дело у них не в литературном достоинстве, а в опасении за нравственность. В этом я был прав, – ничего не было против нравственности и даже чрезмерно напротив, но они видят другое и, кроме того, видят следы нигилизма. Любимов объявил решительно, что надо переделать. Я взял, и эта переделка большой главы стоила мне, по крайней мере, 3?х новых глав работы, судя по труду и тоске, но я переправил и сдал. Но вот беда! Не видал Любимова потом и не знаю: удовольствуются ли они переделкою и не переделают ли сами? То же было и ещё с одной главой (из этих 4), где Любимов объявил мне, что много выпустил (хотя я за это и не очень стою, потому что выпустили место неважное). Не знаю, что будет далее, – но эта, начинающая обнаруживаться с течением романа противоположность воззрений с редакцией начинает меня очень беспокоить» [28, 2; 166]. Наконец, 19 июля 1866 г. Достоевский лично обращается к Каткову: «Что же касается до переделок и выпусков, сделанных Вами, то некоторые из них, как замечаю теперь, конечно, необходимы, но других выпусков (в конце) мне жалко. <…> Об одном бы выпуске попросил Вас, на странице 786 (отметил на полях карандашом NВ) – нельзя ли восстановить? Тут ясно для читателя, что если он говорит: я счастли<в>, то уж, конечно, не потому, что любуется своим поведением. Впрочем, если нельзя, то нечего делать» [28, 2; 166–167]. Просьба писателя осталась без удовлетворения. Особое значение для понимания идейного содержания литературного произведения имеет оценка его самим автором. Достоевский писал о романе: «Надо заметить, что роман мой удался чрезвычайно и поднял мою репутацию как писателя. Вся моя будущность в том, чтоб кончить его хорошо» [28, 2; 156]; «Одним словом, мне бы хотелось кончить роман так, чтоб подновить впечатление, чтоб об нём говорили так же, как и вначале» [28, 2; 170] и т. д. Думается, это удалось вполне, потому что, работая над отдельным изданием романа (1867), Достоевский, по наблюдению Л. Д. Опульской, «никаких добавлений (кроме отдельных слов и фраз) <…> не внёс, а напротив – сделал сокращения, устранив длинноты и сняв второстепенные детали»[13 - Опульская Л. Д. Комментарий к Полн. собр. соч. Ф. М. Достоевского в 30 томах. – Л.: Наука, 1973. – Т. 7. – С. 328.].
Внимание читателей и исследователей всегда привлекала социальная проблематика романа, особенно те её детали, которые представлены писателем в традициях «натуральной школы», а также «психологизм», под которым обычно понимается описание душевных переживаний героев. Известно, что сам Достоевский выступал против такой оценки. Картины внешней (в т. ч. и социальной) действительности и душевного мира человека в его произведениях всегда служат для проникновения в духовную реальность и вхождения в символический уровень повествования, выражающий русскую идею. На этом уровне личная судьба героя развертывается до соборной судьбы всего народа.
Эту особенность романов Достоевского ещё в 1970 году тонко почувствовал В. Я. Кирпотин: ««Преступление и наказание» нигде не перестаёт быть художественно-индивидуализированным рассказом о Раскольникове, о его внутренней жизни, о его идеях и замыслах, о его преступлении, о его наказании, о его судьбе. Но в рассказе само собой складывается общее, из рассказа сам собой выступает смысл, который в конце концов один только и важен был Достоевскому, потому что он горел всеми горестями мира и с неистово спешащей тревогой искал средств для его исцеления. Личность Раскольникова и всех сопровождающих его лиц <…> даже тогда, когда <они> не думают об этом, двигают историю. Даже тогда, когда они обсуждают и решают свои собственные дела, они обсуждают и решают те самые проблемы, над которыми бились русские люди в ту замечательную пору шестидесятых годов, значение которых перелилось и за национальные границы»[14 - Кирпотин В. Я. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова. – М.: Сов. писатель, 1970. – С .7.].
Исследователь почувствовал проблематику русской идеи: «Старые идеалы были низвергнуты, новые себя не оправдали, а истинный идеал или ещё не народился, или ещё не был осознан ни отдельными людьми, ни целыми народами. Это ещё более расширяло и ещё более обобщало подтекст романа»[15 - Там же. – С. 9–10.]. При этом «никто, кроме Достоевского в его романах, не умел с таким художественным тактом указать на всемирно-исторические рамки своего повествования. Да, это только один роман, казалось, говорил он, но это страница, важная для выбора пути в будущее всем человеческим родом»[16 - Кирпотин В. Я. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова… – С. 10.]. Кирпотин отмечает и особый профетический пафос слова Достоевского, поставившего перед собой «задачу, как выполнить роль не только художника, но и пророка – указать путь в обетованную землю гармонии и счастья»[17 - Там же. – С. 13.]. Однако из верных наблюдений делается неверный вывод: «Достоевский <…> не мог не признать, что жизнь наверху и внизу, в глубине народных масс, сдвинулась по какому-то иному, не «почвенническому», неожиданному для него и жестокому пути»[18 - Там же. – С. 12.]. Об этом же и с такою же уверенностью писал уже в 2010 г. В. К. Кантор: «Путь религиозного переустройства мира, единения интеллигенции с народом на основе православия оказался утопией»[19 - Кантор В. К. «Судить Божью тварь». Пророческий пафос Достоевского: очерки. – М.: Рос. полит. энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – С. 219.], и потому «русский ветхозаветный пророк не был принят своим народом»[20 - Там же. – С. 403.]. Скажем, что теоретическая почвенническая программа Достоевского действительно оказалась слабее его вдохновенных художественных открытий. И хотя Кантор не прав в отождествлении Достоевского с ветхозаветными пророками, он всё же прав в том, что Достоевский действительно пророк, то есть человек, которому Бог поручил выразить свою волю о народе, к которому он принадлежит.
К сожалению, наблюдения Кирпотина и других исследователей не двинулись в направлении осмысления связи русской идеи с поэтикой романа. Единственным таким упоминанием считаем указание С. В. Белова о символическом смысле имени главного героя, также не нашедшее своего дальнейшего развития. Однако не случайно В. В. Розанов назвал этот роман «самым совершенным романом Достоевского». Он – наиболее точное пророчество Достоевского о судьбе России. Точнее – самое ближайшее, сбывшееся пророчество: Россия соблазнилась мечтой о «земном рае», согрешила, совершила множество страшных и бессмысленных преступлений, а затем нашла путь к возрождению.
Раскольников отражает собой идеи всех других героев романа, что и создаёт так называемый «эффект двойничества», а точнее – идейной полифонии. В его образе сошлись несколько линий: духовная, психологическая, эстетическая, социальная. В последнее время интенсивно исследуется духовная линия (падение и восставание человека[21 - Значительный вклад сделан Б. Н. Тихомировым в его основательной работе ««Лазарь! гряди вон». Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» в современном прочтении: Книга-комментарий». – СПб: Серебряный век, 2005. – 472 с.]), но символический уровень (уровень русской идеи) остаётся нераскрытым. Между тем внутренний мир Раскольникова связан с другими героями множеством неразрывных прочных нитей духовного родства. При этом не важно, сознаёт это человек или нет, но связь эта есть, и разрушить её может лишь смерть. Так, Раскольников инстинктивно узнаёт в Соне подобное себе существо: «Мы вместе прокляты, вместе и пойдём! <…> Разве ты не то же сделала? Ты тоже переступила…» [6; 252]. Напомним, что через эту близость Раскольников оказался связан и с Лизаветой – духовной сестрой Сони, а через неё – и со своей главной жертвой. Особое внутреннее расположение к Раскольникову чувствуют Разумихин, Мармеладов, Катерина Ивановна, Свидригайлов, уличная проститутка Дуклида и другие персонажи романа.
Идея Раскольникова раскрывается на индивидуальном и символическом уровнях. Индивидуальный включает в себя нравственные, психологические и эстетические переживания героя и его интеллектуальные размышления, но главным всегда остаётся духовное пространство, в котором происходит падение и восставание Раскольникова. Символический уровень служит для выражения русской идеи Достоевского. Здесь индивидуальная судьба героя прообразует историческую судьбу всей России. Поэтому в романе не одна (как утверждалось ранее), а две кульминационные сцены. На индивидуальном уровне это сцена чтения Евангелия Соней, с которой начинается преображение Раскольникова, а на символическом – это сцена у постели Раскольникова, где происходит столкновение славянофильской (Разумихин) и западнической (Лужин) точек зрения на судьбу России. Заметим, что одним из первых на историософский контекст этой сцены обратил внимание В. Я. Кир потин[22 - Кирпотин В. Я. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова… – С. 8–16.], однако размышления исследователя остались в плоскости социально-истори ческой действительности, не получив символического обобщения.
* * *
По словам Н. А. Бердяева, «в конструкции романов Достоевского есть очень большая централизованность. Все и всё устремлено к одному центральному человеку, или этот центральный человек устремлён ко всем и всему. Человек этот – загадка и все разгадывают его тайну»[23 - Бердяев Н. Миросозерцание Достоевского. – М.: ЗАХАРОВ, 2001. – С. 28.]. Речь идёт о центральном герое, осуществляющем сюжетообразующую и композиционную функцию, тогда как главный герой обеспечивает идеологическое наполнение романа. В «Преступлении и наказании» эти функции совмещены в образе одного персонажа – Раскольникова.
Система образов романа, состоящая из персонажей (героев) и картин, построена по принципу концентрических кругов, в центре которых находится главный герой. Первый круг образуют персонажи, оказавшие на его судьбу непосредственное воздействие: Соня и Порфирий Петрович. Второй круг составляют персонажи, деятельность которых связана с главным героем, порой обращена непосредственно на него, но он не зависит от неё: члены семейств Раскольниковых и Мармеладовых, а также Свидригайлов, Лужин и Лебезятников.
Третий круг состоит из персонажей, одни из которых присутствует в романе только на вербальном уровне, подобно «голосу за сценой», а другие имеют краткие словесные или визуальные портреты («полуголоса» – по Бахтину). Персонажи этого круга не связаны непосредственно с главным героем, а в своей совокупности образуют фон, на котором действуют он сам и персонажи первого и второго круга. Некоторые персонажи третьего круга несут на себе статичную негативную авторскую оценку, проявляющуюся, прежде всего, в нарочито комичных и пародийных чертах их внешности, а также в присвоении им неблаговидных социальных ролей (содержательницы публичных домов Дарья Францевна и Луиза Ивановна, хозяйки квартир и «углов» Амалия Ивановна Липпевехзель и Гертруда Карловна Ресслих и пр.)[24 - Большую часть этих персонажей составляют немцы, которые, как показывает С. В. Белов, «в 1869 г. <…> были самой большой инородной прослойкой населения столицы Российской империи; из 667 207 человек жителей Петербурга немцев было 46 498» [23; 50], а также «чухонцы», которые «после немцев <…> были самым большим по численности нерусским населением Петербурга» [23; 107], четыре поляка, и один еврей.].
Четвёртый, самый большой круг, – круг Петербурга. Он образован городскими и пригородными пейзажами, описаниями цвета, света, запахов и звуков летнего города, его отдельных мест, домов, переулков, трактиров и т. п. В описаниях города Достоевский следует традиции Пушкина и Гоголя, в которой город является не декорацией для основного действия, а полноправным героем. Он исподволь, но непреодолимо и властно управляет жизнью своих жителей: «Редко где найдётся столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге. <…> Вы выходите из дому – ещё держите голову прямо. С двадцати шагов вы уже её опускаете, руки складываете назад. Вы смотрите и, очевидно, ни перед собою, ни по бокам уже ничего не видите. Наконец, начинаете шевелить губами и разговаривать сами с собой, причём иногда вы высвобождаете руку и декламируете, наконец, останавливаетесь среди дороги надолго» [6; 357]. Это наблюдения Свидригайлова за Раскольниковым, но так ходит и Соня – «спеша, ничего не замечая…» [6; 187] – и многие другие петербуржцы в сочинениях Достоевского и писателей «петровского периода» русской литературы.
Город, где происходит действие романа, наполнен удушливой атмосферой безверия, нигилизма и разврата. Человек, не имеющий крепкого духовного иммунитета, рано или поздно заражается злом, растворённым в его атмосфере, постепенно перестаёт различать добро и зло и в конце концов гибнет. Это участь Раскольникова, Миколки и всего «отравленного поколения» России. Поэтому, замечает С. В. Белов, «Петербург такой же виновник преступления Раскольникова», как и он сам. Более того, он – главный его виновник, так как «он заражает Раскольникова преступной идеей»[25 - Белов С. В. Петербург Достоевского. – СПб: Алетейя, 2002. – С. 14.]. В самом облике Петербурга «как по книге, прочтёте все наплывы всех идей и идеек, правильно или неправильно залетевших к нам из Европы и постепенно нас одолевавших и полонивших»[26 - Там же. – С. 27.]. Наконец, он представляет собой «административный центр всей России, и характер его должен отражаться на всём» [6; 357]. В романе это выражается постоянной нехваткой воздуха для жизни новых живых сил, мечтами Разумихина о деятельности на «общую пользу», ожиданиями Порфирия Петровича реформ законодательства и надеждами Лужина на перестройку российской жизни по европейскому образцу.
Идею образа Петербурга писатель выражает особым художественным средством – картиной в форме духовного пейзажа. Раскольников смотрит на Петербург с Васильевского острова: «Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина…» [6; 90]. Как справедливо замечает С. В. Белов, «все, даже краткие, описания Северной столицы в «Преступлении и наказании» всегда имеют особый, часто неуловимый на первый взгляд смысл»[27 - Белов С. В. Вокруг Достоевского: Статьи, находки и встречи за тридцать пять лет. – СПб: Изд-во С.-Петербургского университета, 2001. – С. 208.]. О том, что это не простой пейзаж, а самостоятельный образ с глубоким символическим значением, говорит процесс работы над романом. Первая редакция: «Есть в нём (в пейзаже. – О. С.) одно свойство, которое всё уничтожает, всё мертвит, всё обращает в нуль, и это свойство – полнейшая холодность и мертвенность этого вида. Совершенно необъяснимым холодом веет от него. Духом немоты и молчания, дух «немой и глухой» разлит во всей этой панораме. Я не умею выразиться, но тут даже и не мертвенность, потому что мертво только то, что было живо…» [7; 39–40]. Вторая редакция: «Необъяснимым холодом веяло на меня от [этого вида] этой великолепной картины [духом немоты и какого-то отрицания]. Дух немой и глухой разлит в этой панораме» [7; 125]. Г. К. Щенников раскрывает символическое значение этого образа, говоря: «Сравните определение сатаны в Евангелии: «Дух немый и глухий»…"[28 - Щенников Г. К. Целостность Достоевского. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. – С. 216.]: Действительно, в Евангелии от Марка читаем: «Иисус <…> запретил духу нечистому, сказав ему: дух немой и глухой!» (Мк. 9:25). Это означает, что настоящим господином Петербурга и «автором» идей, наполнивших его атмосферу, является сатана (дьявол).
Главным (и одновременно – центральным) героем романа является Родион Романович Раскольников. Наиболее яркая, бросающаяся в глаза черта его личности – раздвоенность, расколотость сознания и, как следствие, слов и поступков: «Уже в следующую минуту это становился не тот человек, что был в предыдущую» [6; 147]. Разумихин замечает: «Точно в нём два противоположные характера поочередно сменяются» [6; 165] и т. д. Причину этого явления исследователи объясняли по-разному: Г. К. Щенников видел её в «личном несоответствии утверждённому Богом вселенскому ладу», порождающему «страшную раздвоенность человека, в душе которого уживаются идеалы Мадонны и Содома»[29 - Щенников Г. К. Целостность Достоевского… – С. 202.]. А В. Эмрих считал, что «художественные антиномии <…> являются одновременно антиномиями самого общества»[30 - Emrich W. Das Problem der Symbolinterpretation. Werkinterpretation. – Darmstadt, 1967. – S. 196], а потому и нецельность личности главного героя связана с объективной расколотостью общественного сознания.
Мы полагаем, что причина всего происшедшего с Раскольниковым кроется в особенностях его личности. Несмотря на то что в письме к Каткову Достоевский характеризует своего героя как «одного из нового поколения», уже первые подходы к созданию его образа показали намерение автора изобразить не «одного из многих», а исключительного, необыкновенного человека, способного с максимальной полнотой выразить идею автора. Поэтому Раскольников наделён многими достоинствами, бесспорность которых признают не только близкие (мать, сестра, Разумихин), но и посторонние люди (товарищи по университету, Соня, Порфирий Петрович и т. д.). Необыкновенность Раскольникова связана с особо острой восприимчивостью им несовершенства мира и полубессознательным ощущением призванности к какому-то великому делу. На мессианские черты сознания героя обращали внимание многие исследователи. Р. В. Комина замечает, что «Раскольников <…> всецело охвачен предощущением своей исключительной судьбы»[31 - Комина Р. В. Текстуальный анализ романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» (первый сон Раскольникова). – Пермь, 1980. – С. 4.].
В романе мессианизм личности главного героя особо ярко подчёркнут словами Порфирия Петровича: «Я ведь вас за кого почитаю? Я вас почитаю за одного из таких, которым хоть кишки вырезай, а он будет стоять да с улыбкой смотреть на мучителей, – если только веру иль Бога найдёт. Ну, и найдите, и будете жить. <…> Ещё Бога, может, надо благодарить; почём вы знаете: может, вас Бог для чего и бережёт. А вы великое сердце имейте да поменьше бойтесь. Великого предстоящего исполнения-то (курсив наш. – О. С.) струсили. Нет, тут уж стыдно трусить. Коли сделали такой шаг, так уж крепитесь» [6; 351]; «Станьте солнцем, вас все и увидят. Солнцу прежде всего надо быть солнцем» [6; 352].
Объективный мессианизм личности Раскольникова отражается и в его сознании. Это проявляется в его реакции на упрёки окружающих в жестокости и бездушии, вызванные непониманием его поступков и слов: он не ссорится с ними, не обижается и даже не сердится на них, «точно времени у него на такие пустяки не хватает». Характерно, что эти сцены всегда заканчиваются не просто миром, а ещё большей уверенностью близких в исключительности Раскольникова [6; 172, 326, 338]. Она имеет эсхатологическую природу и связана с надеждой, что именно Раскольников каким-то лишь ему одному известным способом раз и навсегда прекратит несправедливость существующего порядка вещей и укажет путь к счастливой жизни, к Новому Иерусалиму.
Наконец, Раскольников никогда не прибегает ко лжи, потому что чувствует, что это недостойно необыкновенного человека, призванного к великому подвигу. Объясняя мотив своего преступления Соне, он скажет: «Я лгать не хотел в этом даже себе!» [6; 322]. Он действительно может жить, обходясь без лжи, тогда как «обыкновенные» люди без неё обойтись не в силах. Эту мысль впоследствии ярко выразит герой рассказа «Бобок» (1873): «На земле жить и не лгать невозможно, ибо жизнь и ложь синонимы…» [21; 52]. Даже Разумихин оправдывает ложь благородными целями: «Враньё всегда простить можно; враньё дело милое, потому что к правде ведёт» [6; 105]. Ради этих же целей кривят душой мать и сестра Раскольникова, что вызывает у него неудержимый приступ гнева [6; 212]. И только Порфирий, «познав Раскольникова», во время их последнего разговора не прибегает к «психологии», а предлагает поговорить «прямо», понимая, что этим достигнет своих целей кратчайшим путём.
Мессианизм личности Раскольникова ищет выражения в предметной деятельности. В поисках её герой приезжает в Петербург, однако цели, достойной масштабов его дарований и притязаний, Раскольников не находит. При этом он остро сознаёт несовершенство окружающего мира и невозможность его исправить: «Лет через десять, через двенадцать (если б обернулись хорошо обстоятельства) я всё-таки мог надеяться стать каким-нибудь учителем или чиновником, с тысячью рублями жалованья… <…>. А к тому времени мать высохла бы от забот и от горя, и мне всё-таки не удалось бы успокоить её, а сестра… ну, с сестрой могло бы ещё и хуже случиться!..» [6; 319]. А кроме матери и сестры, ещё девочка на бульваре, сломанный жизнью Мармеладов, Соня, больная Катерина Ивановна и её голодные дети и много других: «Бедные, кроткие, с глазами кроткими… Милые!.. Зачем они не плачут? Зачем они не стонут?..» [6; 212].
Раскольников чувствует в себе силы исправить этот мир, но не знает, как. Поэтому, указывает В. Я. Кирпотин, он «мечтает не только о наполеоновской власти, но и о миссии искупителя, спасителя, о предначертании Мессии»[32 - Кирпотин В. Я. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова… – С. 192.]. Действительно, власть над «дрожащей тварью» и «всем муравейником» нужна Раскольникову лишь как средство осуществления своего предназначения, которое он видит в служении людям: «Я сам хотел добра людям…» [6; 400], «О, если б я был один и никто не любил меня, и сам бы я никого никогда не любил!..» [6; 401].
Герой ищет средства освобождения людей от страдания, горя и гибели, но не находит их: «А что же ты сделаешь, чтобы этому не бывать? <…> Ведь тут надо теперь же что-нибудь сделать, понимаешь ты это? <…> Чем ты их убережёшь, миллионер будущий, Зевес, их судьбою располагающий?» [6; 38]. Последние слова указывают на важнейшую черту личности главного героя, уже присвоившего себе право по своему усмотрению «располагать» чужими судьбами. Эта черта – гордость. По словам Ю. Н. Давыдова, «она-то и была истинным источником «теоретического раздражения» сердца, то есть софистически-казуистического помрачения совести, и всех тех «идей» – страстей, что возникли в результате этого в сознании Раскольникова, включая и фоновую «идею» – переживание «утраты высшей правды»»[33 - Давыдов Ю. Н. Этика любви и метафизика своеволия: Проблемы нравственной философии. – М.: Молодая гвардия, 1982. – С. 138.]. Эта мысль соответствует замыслу Достоевского, в котором гордость должна была стать главной чертой личности героя: «В его образе выражается в романе мысль непомерной гордости, высокомерия и презрения к этому обществу. Его идея: взять во власть это общество»[34 - Первоначально далее следовало: «…чтобы делать ему добро» [7; 155].]. Эта запись, сделанная в момент идейного синтеза, следует через страницу после определения внутренней идеи романа («Православное воззрение…») и является продолжением предыдущей разработки основной идеи образа главного героя: первая редакция – «нестерпимая гордость» [7; 89]; вторая – «демонская, полная, бесконечная» [7; 132, 138, 139]; третья – «бесовская, непомерная» [7; 147, 155].
Соединение в одной личности «демонской» гордости и благородных побуждений и стало причиной той раздвоенности, расколотости, которая явилась наиболее заметной чертой образа Раскольникова. Подчеркнём, что в православной онтопоэтике Достоевского понятие «гордость» имеет однозначно отрицательное значение, о чём говорят эпитеты в приведённых выше примерах. Православие считает гордость (гордыню) главной страстью, ведущей человека к гибели и управляющей другими страстями. Именно она стала причиной падения великого и могучего ангела Денницы, возомнившего себя равным Богу, низвергнутого за это в ад (Ис. 14:12) и ставшего сатаной. После этого всеми его действиями руководила ненависть к Богу, но так как навредить Ему сатана не может, он стремится разрушить творение Бога и его лучшую часть – человека, ибо «он был человекоубийца от начала…» (Ин. 8:44). Православная экзегетика считает этот сюжет символом падения любого человека, подчинившего свою волю и разум страсти гордыни[35 - В романе эту мысль выражает Свидригайлов: «Разум-то ведь страсти служит…» [6; 215].].
Гордость выражается в неспособности человека признать существование где-либо чего-либо более великого, чем его собственное «я». В своём развитии она приводит к отрицанию Бога и утверждению на Его месте человека. Гордость связана и с невозможностью признать собственное несовершенство, зато она стремится к исправлению несовершенства других людей и окружающего мира. В этом она опирается не на голос совести, выражающий присутствие образа Божия в человеке, а на разум, обманывая его иллюзией всемогущества. Поэтому Раскольников, который «по примеру всей молодёжи» [6; 263] ценит разум превыше всего, даже сознавая неправду своей «теории», всё равно заставляет себя верить в неё.
Конфликт между сердцем и разумом осложняется тем, что сердце никогда не лжёт, тогда как разум способен и обманывать, и обманываться. Поэтому сколько бы ни совершенствовался и ни изощрялся разум, он не способен уничтожить совесть до конца. В результате между ними возникает борьба, внешним отражением которой и является «странное» поведение Раскольникова. Стремясь построить свою жизнь на «разумных началах», в реальной жизни он, как правило, подчиняется сердцу, являющемуся в гуманистической этике Достоевского основным способом познания жизни человеком: «Можно ошибиться в идее, но нельзя ошибиться сердцем…» [28, 1; 209]. Так и его герой все свои добрые поступки совершает по первому сердечному импульсу: помогает Мармеладовым и девочке на бульваре, спасает сестру от Лужина, защищает Соню и т. д. И уже только потом разум начинает инсинуировать: «Чтобы помогать, надо сначала право такое иметь…» [6; 174]; «Тут у них Соня есть, а мне самому надо» [6; 25]; «Оставьте! Чего вам? Бросьте! Пусть его позабавится (он указал на франта). Вам-то чего?» [6; 42] и пр. Эти неоднократные переходы от сердечной к рассудочной жизни подчёркнуты Достоевским внезапными сменами душевных состояний Раскольникова (от радостного прилива жизненных сил до мрачной угрюмости и подавленности) и его внешне немотивированными, а порой и явно противоречивыми поступками. Долго переносить такое состояние человек не может, и Раскольников решает разом прекратить эту внутреннюю борьбу, приняв позицию одной из сторон. Впоследствии он так скажет об этом Соне: «Я… я захотел осмелиться и убил… я только осмелиться захотел, Соня, вот вся причина! <…> Я просто убил; для себя убил, для себя одного: а там стал ли бы я чьим-нибудь благодетелем или всю жизнь, как паук, ловил бы всех в паутину и из всех живые соки высасывал, мне, в ту минуту, всё равно должно было быть!..» [6; 321–322]. Уже из этих слов ясно, что он выбрал сторону горделивого разума, а не живой совести.
Однако преступлению предшествовала искренняя попытка героя найти иной путь. Подчиняясь «нравственному чувству», он уходит из города, бросается на землю и обращается с мольбой к Богу: «Господи! <…> покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой проклятой… мечты моей!» [6; 50]. Это обращение к Богу является мобилизацией всех остатков жизни в душе, задавленной гордыней и верой во всемогущество разума. Но гордыня воспрепятствовала Раскольникову понять волю Бога, открытую во сне «о лошади», в котором был зримо показан как собственный путь Раскольникова (защита всех униженных и оскорблённых), так и то, что итогом развития страсти гордыни обязательно станет бессмысленное, жестокое и кровавое преступление. Но Раскольников не понимает и не принимает откровения Божия, а лишь требует: «Покажи мне путь мой…». О причине этой духовной слепоты догадывается Соня: «От Бога вы отошли, и вас Бог поразил, дьяволу предал!» [6; 321]. Раскольников действительно отошёл от Бога, не видя проявлений Его воли в окружающем мире, полном торжества лужиных и неискуплённого страдания «вечных Сонечек». Поэтому он «решил осмелиться» стать богом и установить в мире справедливость, но использовал для этого те средства, которые предложил ему сатана[36 - Эта попытка Раскольникова самому стать богом («Я захотел осмелиться…» [6; 321]) предваряет принцип Кириллова («Бесы»): «Если нет Бога, то я – бог» [10; 470] и выбор Великого инквизитора: «Мы давно уже с ним…» [14; 234].].
С того момента, как Раскольников позволил мысли о допустимости «одного злодейства ради тысячи добрых дел» стать частью своей души, он попал под власть сатаны и «всем существом своим вдруг почувствовал, что нет у него более ни свободы рассудка, ни воли и что всё вдруг решено окончательно» [6; 52]. Происходящее подействовало на него «почти совсем механически: как будто его кто-то взял за руку и потянул за собой, неотразимо, слепо, с не естественною силой, без возражений. Точно он попал клочком одежды в колесо машины, и его начало в неё втягивать» [6; 58]. Эта сила привела его на Сенную, куда «ему было совсем лишнее идти» [6; 50], и подвела к разговаривающей Лизавете. Она же дважды уводила дворника из дворницкой. И именно благодаря ей в ворота старухиного дома «въехал <…> огромный воз сена, совершенно заслонявший его всё время, как он проходил подворотню…» [6; 60]. Именно она оставила открытой дверь, через которую вошла Лизавета, а после увела от неё Коха и выгнала красильщиков из подъезда на улицу, а затем помогла уничтожить улики и спрятать похищенное. Раскольников догадывался, кто именно помог ему осуществить задуманное: «Не рассудок, так бес!» [6; 60]. Но только совершив преступление, он до конца понял происшедшее: «Это когда я в темноте-то лежал и мне всё представлялось, это ведь дьявол смущал меня? <…> …Я ведь и сам знаю, что меня чёрт тащил» [6; 321]; «Чёрт-то меня тогда потащил, а уж после того мне объяснил, что не имел я права туда ходить…»; «Старушонку эту чёрт убил, а не я…» [6; 322] и т. д.
Достоевский не снимает со своего героя ответственности за происшедшее. В духе православной антропологии он исключает из мотива преступления Раскольникова фатализм, сохранявшийся вплоть до последней редакции романа («Я – кирпич, который упал старухе на голову, я – леса, которые над ней обвалились» [7; 128]). Теперь яснее звучит мотив свободного выбора героя: «Я вот тебе сказал давеча, что в университете себя содержать не мог. А знаешь ли ты, что я, может, и мог? Мать прислала бы, чтобы внести, что надо, а на сапоги, платье и хлеб я бы и сам заработал; наверно!
Уроки выходили; по полтиннику предлагали. Работает же Разумихин! Да я озлился и не захотел. Именно озлился (это слово хорошее!). Я тогда, как паук, к себе в угол забился» [6; 320]. Достоевский подчёркивает истинный мотив героя: «Проходить мимо всех этих ужасов, страданий и несчастий хладнокровно не могу» [7; 181]. Он движим любовью: «О, если б я был один и никто не любил меня, и сам бы я никого никогда не любил! Не было бы всего этого!» [6; 401]. Видя несовершенство мира и чувствуя своё мессианское предназначение («Зачем Ты мне дал силы?» [7; 133]), Раскольников ищет средство изменить этот мир, но сатана уловляет его, предлагая в качестве такого средства власть: «Чтобы помогать, надо сначала право такое иметь…» [6; 174].
Раскольников оказывается в ситуации, некогда преодолённой Христом[37 - См.: Мф. 4:1–11.], Которого искушал сатана в пустыне: мысли Твои праведны и чисты, Ты хочешь добра людям, так стань для них властелином и делай им добро. Чтобы делать его, надо власть иметь, и не важно, что эту власть дам Тебе я, ведь цели Твои добры. Люди слабы и немощны, они не в силах сами найти своё счастье, и только Ты – великий и могучий, взяв над ними власть, можешь сделать их счастливыми. Их счастье в малом – обрати камни в хлебы и накорми их.
Выбор Христа определён любовью к людям и верой в безграничную мудрость и благость Отца Небесного: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. <…> Не искушай Господа Бога твоего. <…> Отойди от Меня, сатана; ибо написано: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи»» (Мф. 4:4, 7, 10). А у Раскольникова вместо этого – абстрактная любовь к человечеству и слабая вера, подавленная «непомерной гордостью». Поэтому он делает выбор, о котором позже Великий инквизитор скажет Христу: «Мы давно уже не с Тобою, а с ним, уже восемь веков» [14; 234]. Однако Раскольников, хотя и поддался искушению и преступил закон Божий, но, в отличие от Великого инквизитора, дальше не пошёл, «на этой стороне остался» [6; 211], ужаснувшись содеянному и увидев, что дальнейшие шаги на этом пути неизбежно приведут к смерти.
Раскольникова задержало, но не остановило в падении несоответствие цели и результата. Достоевский записывает в рабочей тетради вариант его ответа на призыв Сони исполнить главную заповедь Христа (Мф. 22: 39): «Соне. Возлюби! Да разве я не люблю, коль такой ужас решился взять на себя? Что чужая-то кровь, а не своя? Да разве б не отдал я всю мою кровь? если б надо? <…> Перед Богом, меня видящим, и перед моей совестью, здесь сам с собой говоря, говорю: я бы отдал!» [7; 195]. В окончательном тексте романа эта идея жертвы собой ради других приобрела более скрытый (в том числе и для самого Раскольникова) характер. Так, прощаясь с сестрой, но внутренне словно отвечая на призыв Сони, Раскольников вдруг обнаруживает главную причину содеянного им: «Я сам хотел добра людям…» [6; 400]; «О, если б я <…> никого никогда не любил! Не было бы всего этого!» [6; 401]. Движимый любовью к людям и ощущая в себе могучие силы, Раскольников решает исправить несовершенство мира. Но любовь к людям, соединившись с гордыней, приносит окружающим лишь страдания, и топор, поднятый им против зла, сокрушает образ Божий, хранимый душой каждого человека.
Полагаем, что в образе главного героя выразилась одна из основных мыслей христианской антропологии Достоевского, входящая в его главную идею: зло в человеке и в окружающем его мире возникает как результат сознательного нарушения человеком установленного Богом миропорядка, стремления противопоставить Его воле свою собственную. Само это желание уже является преступлением против Бога и влечёт за собой неминуемое наказание, которое тем сильнее, чем более тяжкое преступление совершил человек. Достоевский показывает, что тяжесть содеянного обусловливается масштабом человеческой личности, способностями и талантами, которые она получила от Бога, ибо «от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут» (Лк. 12:48). Писатель предостерегает, что эту «даром полученную над собой силу» нужно ещё оправдать непрерывным подвигом нравственного совершенствования, без которого она неминуемо превращается в гордыню, способную разрушить не только самого человека, но и окружающий его мир. А процесс совершенствования подразумевает наличие идеала, представление о котором невозможно без ясного осознания человеком своих недостатков, – то есть смирения. Однако Достоевский, называя смирение «самой страшной силой» [14; 289], всегда подчёркивал, что эта сила может принести благо, лишь соединившись с исполнением заповедей Божиих, главная из которых есть любовь к Богу и ближнему. Писатель уверен, что знание этого главного закона человеческой жизни имманентно каждой человеческой душе, а исполнение его зависит лишь от свободной воли человека. Высший гуманизм Достоевского состоит в его уверенности в том, что осуществить этот свободный нравственный выбор может абсолютно любой человек. Он должен сам встать на путь, ведущий к Свету, и тогда на этом пути он обязательно получит Его благодатную помощь. Эту помощь Достоевский в письме к Каткову представил в виде синергийного взаимодействия «Божией правды» и «земного закона».
Последовательность этих сил указывает на их иерархию в онтопоэтике писателя. Об этом говорит и то, что «Божия правда», несомненно, ближе к содержанию внутренней идеи романа («Православное воззрение»), чем «земной закон». О том же свидетельствует и весь процесс создания романа. Один из вариантов жизни преступника после убийства Достоевский представлял так: «Ободриться совершенно, погрузиться в занятия, работать <…>. Прожить без людей. Умереть гордо, заплатив горой добра и пользы за мелочное и смешное преступление юности» [7; 90][38 - В окончательном варианте нечто подобное «пропишет» своему пациенту доктор Зосимов: «Вам без занятий оставаться нельзя, а потому труд и твёрдо поставленная перед собою цель <…> очень бы могли вам помочь» [6; 171].]. Однако такая жизнь немногим будет отличаться от смерти, а Достоевский ищет для своего героя путь к жизни. Он пишет далее: «Развитие любви к дочери Мармеладова сбивает его с толку» [7; 90], то есть с логической уверенности в непогрешимости своей «теории». Так, уже в первой редакции романа образу Сони Мармеладовой предписывается главная роль в деле возрождения героя к жизни. Характерно, что эта идея оставалась неизменной до самого завершения работы над романом, тогда как её образ-выразитель претерпел значительные изменения, связанные с поисками адекватной ему формы, а потому длительное время оставался бесплотным (не было портрета и сколько-нибудь конкретных психологических черт).
Первоначально мысль Достоевского была направлена не столько на то, кто будет выражать идею любви, сколько на то, как она будет выражена. Уже в черновиках первой редакции романа он записывает: «(NB) О любви нет между ними ни слова. Это sine qua non»[39 - Непременно (лат.).] [7; 88]. Несколько позже, во второй редакции: «Ни слова о любви» [7; 138]. Здесь речь идёт ещё об отношениях Раскольникова с молодой девушкой Сясей, дочерью Лизаветы, образ которой будет постепенно вытеснен образом Сони Мармеладовой и в конце концов заменит его полностью. Писатель ставит перед собой задачу показать любовь, не говоря о ней прямо, а только указывая на её присутствие.