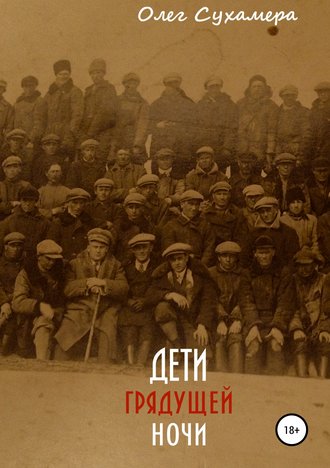
Дети грядущей ночи
Хлопнула тяжелая рассохшаяся дверь, и лишь теперь Стас смог позволить себе обхватить руками ставшую вдруг чугунной голову и заскрипеть зубами, подавляя вспучившуюся черными волдырями ненависть к себе, к брату, к начавшемуся их страшному размежеванию, где любая уступка – тактический маневр, где любой договор – вранье и уловка в войне за женщину, на которой клином сошелся свет.
Комната вдруг поплыла. Булат почувствовал, что легкое утреннее недомогание, которое списывал на вечный недосып, превращается в нечто более серьезное. Прислушался к себе, было жарко, по спине катились холодные струйки пота, а внезапно высохший язык стал чужим и едва ворочался во рту.
Стас поморщился, уж очень некстати подкралась болячка, но взял себя в руки – какие такие болезни могут быть у бравого краскома? – поплелся к ведру с водой, стоявшему у самой печи.
Пил жадно, большими глотками, но вода не приносила облегчения. Кое-как доковыляв до узкого топчана, свалился на него, закрыл будто засыпанные мелким песочком глаза, чувствуя, что задыхается. Попытался дышать глубже, но в воздухе словно не стало кислорода.
Сознание мутилось, мысли запутывались в странный клубок, в котором смешалось все и вся: и Сергей с Мирой, и яркие нездешние цветы, и совершенно белая мертвая Вера, восседающая отчего –то на его любимце-коне.
Карусель из красок и впечатлений вращалась все быстрее и быстрее, закручиваясь спиралями, складываясь в непредсказуемые замысловатые узоры.
Последнее, что Стас запомнил, прежде чем впасть в беспамятство, жутковатое ощущение падения в огненное жерло вулкана.
* * *Дом, который всегда был для Мишки временным пристанищем их молодежной микрокоммуны, после недавнего заточения показался родным.
Уже не раздражали, а казались милыми потеки на стенах, в которых при определенном уровне фантазии можно было рассмотреть все – от древнегреческих баталий до сказочных драконов и принцесс.
– Миша, что ты молчишь? Скажи что-нибудь. Уставился в потолок… все же прошло. Забудь. Все нормально. Я рядом. Я всегда буду рядом. Поговори со мной. Не молчи.
Мишка с трудом оторвался от созерцания подмокшего потолка и, разорвав такую спасительную для больной души пелену фантазий, приподнялся на локте, тяжко поморщившись от заскрипевших пружин продавленной тахты. Глядя сквозь участливо сгорбившуюся Владку, кисло выдавил:
– Все. Собирай шмотки. Уезжаем.
Владка насторожилась, еще не веря ушам, но тут же вскочила и от радости, что любимый в первый раз после ночного возвращения из подвала подал голос, быстро затараторила:
– Да! Я быстро! Сейчас! А куда едем? Впрочем, какая разница! Поедем в Минск, там у меня родня, я там почти все знаю! Большой город… Мы так там заживем… Пусть все обзавидуются. Пылинки с тебя сдувать буду.
– Угу. С Полиной только надо. Решить.
Суетившаяся Влада вдруг остановилась, словно натолкнувшись на одну ей видимую каменную стену. На глаза навернулись давно сдерживаемые слезы, и она заговорила горячо, так, как могут говорить лишь одержимые своими переживаниями люди, выплескивая на собеседника всю накопившуюся боль и страдание:
– Нет. Поедем просто. Без прощаний! Свадьба у них. Не лезь в чужую судьбу. Свою вон чуть не сломал. Второй раз не выкарабкаешься из ада. Я еле Костю уговорила, чтоб он пошел к этому дядьке своему …не хотел ведь. Ненавидит тебя!
– Нормально… его право. А ты? Ты как? Ты же все знаешь про меня, про Полю. Не противно? Готова жить с предателем?
– Да! Готова! Тебя, дурака, любого приму. Пьяного, сгулявшегося, паршивого, хромого, косого. Мне без разницы. Не ожидал? Знай! Все стерплю! Только ко мне возвращайся, – Влада встала на колени перед сидящим Мишкой, жарко обняла, вжалась в него. Потом так же неожиданно отхлынула и, приподняв крупными кистями рук тяжело опущенную Мишкину голову, ловя его ускользающий взгляд, начала приговаривать, будто малому ребенку:
– Мишенька! Ребеночка тебе рожу! Беременная я! Пожалей! Ты мой! Ничей больше! Никому, слышишь, не отдам тебя. Люблю тебя, Миша, прости меня, дуру! Едем со мной! Плюнь и разотри. С чистого листа, увидишь, как жить легче!
Губы Влады мелко затряслись, а из крупных навыкате глаз быстрыми струйками выбежали слезы.
Мишка смотрел на перекосившееся, ставшее красным и непривлекательным лицо девушки, на ее опухший нос, на вялые безвольно дрожащие губы, на крепкое, будто налитое яблоко, тело. Всматриваясь в каждую черточку, он пытался осознать, что в этом прикипевшем к нему намертво человеке? Испытывает ли он к этой девушке хоть каплю чего-то, сравнимого лишь с одной мыслью о Полине? Его чужой Поле?
Мишка лихорадочно копался в своих эмоциях, как роется обезумевший от бушующего внизу пожара хозяин, в панике пытающийся отыскать хорошо припрятанное сокровище на заваленном кучами хлама пыльном чердаке…
Увы, Мишка не находил в себе ничего. Только равнодушие, опустошение и брезгливое желание, чтобы все это слезливое представление закончилось поскорей.
Странно, но вместо благодарности к этой искренне любящей женщине или чего-то вроде радости от огорошивающего известия – вместо всего этого людского сквозь пепел сгоревших эмоций обжигающими угольками вспыхивали картины недавней страшной ночи.
* * *За железной дверью был свет. Скудный, моргающий желтыми всполохами эдисоновской лампочки, он ослепил и ввел Мишку в ступор. Глаза после недели полумрака мгновенно заплыли слезами, и фигуры, поджидавшие узника за порогом, текли и струились размытыми серыми очертаниями. Мишке показалось на мгновение, что он уже умер и эти двое, не то бесы, не то ангелы, встречают его, чтобы препроводить на Страшный суд.
Впрочем, когда Мишка инстинктивно протер глаза почти чистым рукавом, наваждение рассеялось: один из бесплотных оказался все тем же опостылевшим и страшным Хароном, вторым был дядя Кости, Степан Макарович Крылов.
– Здрасьте, – сказал Мишка и тут же проклял себя за это глупое, вырвавшееся испуганным воробьем тупое, ничего не значащее и, более того, страшно неуместное на пороге собственной смерти приветствие.
– Здорово, молодежь… – неожиданно бодро отозвался предреввоенсовета и совсем по-дружески, ободряюще, похлопал по сгорбленным Мишкиным плечам, ожидающим удара.
Робкая, предательская искорка надежды вспыхнула в кромешной темени Мишкиной души. Была она микроскопически маленькой, не идущей ни в какое сравнение с той бездной отчаяния, посреди которой довелось ей воссиять. Но светилась так ярко, что все мысли Мишки полетели ей навстречу, как глупые летние мотыльки, тучами стремящиеся к жаркому губительному свету керосиновой лампы.
«А что если? Вот и случилось! Ребята наверняка похлопотали! Полина надавила на Костю. Он ведь любит ее. Если сам Крылов вот тут встречает из подвала мучений? Неужто, чтобы расстрелять? Конечно же, нет! Потому что он разобрался с этой страшным недоразумением!»
Мишка даже позволил себе вопросительно, а на самом деле скорее просительно, по-собачьи, исподлобья глянуть в мертвые глаза Степана Макаровича.
Тот, видимо, уловив cлом, едва заметно ухмыльнулся и, протерев платочком потную лысину, взял Мишку под локоть.
– Идем, парень. Чего покажу…
В словах Крылова не было ни тени угрозы, лишь смертельная усталость замученного рутиной человека, но Мишка шестым чувством уловил, что после показанного его существование на этой земле уже никогда не будет прежним.
Сделали буквально пару шагов, до соседней железной двери-близнеца, закрывающей скорее всего вход в точно такое же подвальное помещение, из которого только что достали Мишку.
– Быков, открывай.
Харон, доселе уверенный, неожиданно сдулся. По тому, как вяло он ковыряется в увесистой связке в поисках нужного ключа, понятно было, что ему не хочется показывать начальству то, что пока скрыто от любопытных глаз.
Харон все возился с замком, а Крылов, дыша Мишке в ухо ядреной смесью лука и перегара, журчал еле слышно:
– Ты хороший малец, Мишка. Глянулся мне сразу. Юмор люблю. Только родная жилетка ближе к телу. Племяш мой, Костя… хоть и щегол сопливый, но родня. С пеленок этого дурня помню. Мамка его перед смертью просила приглядеть за мелким… обещал… вот и приходится, ты уж извини.
Степан Макарович, уловив, что вожканье с ключами превышает все лимиты его личного терпения, отвернулся на секунду от Мишкиного уха и гаркнул, будто огрел плетью неловкого Харона:
– Мля! Хули копаешься? Я чо?! Час тут стоять должен?
Харон дернулся нервно, посмотрел взглядом побитой хозяином псины, вздохнул и одним ловким движением открыл замок, тут же потянув дверь на себя.
Запах, хлынувший из двери зловонной волной, выбил из Мишки все мысли. Тошнотворная волна подкатила к горлу, он сгорбился, хотелось стошнить, но в желудке ничего не было. Тело Мишки задергалось в спазмах, пытаясь справиться с забивающей все силой запаха мертвечины, скрючившей, сложившей его пополам, как детский перочинный ножик.
Крылов приложил платок к носу, сморщился – видно было, что тошнотворная волна даже его, повидавшего виды вояку, едва не сбивает с ног.
– Мля! Быков! Ты чо? Неделю не вывозил?!
Харон, набычившись, словно нашкодивший школяр, лениво оправдывался:
– Дак транспорта нету! сдох. Ну, все одно, телегами не навозишься. Рапорт писал, шоб с антомобилью подсобили. Ни ответа ни привета. А приказы никто не отменял, товарищ председатель. Ждем-с… обещали транспорт. Ничаво-ничаво, када пообвыкнешься, оно нормально. С большего… как бэ.
– Идиот… Свет! Включай!
Щелкнул выключатель. Пыхнула лампочка. Мишка почувствовал, как короткая, но сильная Крыловская лапа схватила его за шиворот и вздернула кверху в вертикальное положение. Степан Макарович истерически заорал прямо в ухо:
– Смотри, Вашкевич. Смотри и выбирай, сцучонок! Либо сюда к этим!!! – так же неожиданно, как начал орать, Крылов, почти по-отечески взъерошил Мишкины волосы и многозначительно закончил: – либо… Так и быть, нравишься мне. Отпущу. Совет: вали подобру-поздорову, у людей свадьба, им и без тебя, мля, тошно…
Увиденное потом неоднократно возвращалось к Михаилу с ночными кошмарами, заставляя просыпаться от собственного крика и курить-курить-курить в ожидании спасительного рассвета.
Посреди подвала, почти до самого потолка, громоздилась огромная куча человеческих тел, кое-как прикрытых ставшим почти черным от многочисленных пятен крови, заскорузлым брезентовым полотном.
Это уже были не отдельные трупы людей.
Куча, сплетаясь руками и ногами в нечто единое, презревшее пол, возраст, социальное положение, напоминала огромный лесной выворотень, выпятивший бесстыдно свои доныне спрятанные под землей, спутавшиеся в клубок, обвисшие белесые корневища-руки; но хищный, готовый в любой момент жадно поглотить новый материал для своего страшного роста.
Мишка чувствовал, как мозг, будто издыхающая от перенапряжения электрическая лампочка, вспышками выхватывает кадры дьявольского синематографа.
Щелк – рыжая, аккуратно перехваченная атласной лентой, тонкая, как крысиный хвостик, гимназическая косичка, торчащая из черного месива головы. Щелк – гипсовая, идеальная женская фигура с бесстыдно разбросанными в стороны ногами. Темнота. Вновь – вспышка – и страшное: ладонь, беспомощно сжимающая раздавленные очочки в модной красной бакелитовой оправе, вывернувшаяся откуда-то из-под чужого раздувшегося, пошедшего трупными пятнами тела.
Мишка поплыл, теряя сознание. Мозг засверлил почти явственный голос владельца очочков: «Господи. ГОСПОДИ!» Слышать эту застрявшую заезженной пластинкой мольбу соседа-доктора было невыносимо. Мишка зажал руками уши, чтобы не слышать, как внутри него, наплевав на его свободную волю, вырываясь наружу, кто –то чужой и незнакомый истерически вопит.
– Я… я все понял. Я уеду! Отпустите меня, пожалуйста! – ноги Мишки подогнулись, и он кулем обвалился вниз, прижался мокрой от слез щекой к чужим, пахнущим скипидаром и кровью яловым сапогам. Ему так страстно захотелось жить хотя бы для того, чтобы дышать этим вонючим воздухом, быть униженным, раздавленным, но теплым, живым, что он обнял, ухватился за чужие сапоги, как за спасительный круг, рыдая взахлеб:
– Я… больше не буду! Отпусти…
– те
ме-ня
пожа-луйста!!!
* * *– Тише-тише… – ладонь Миры мягко прикрыла рот Стаса.
Затаив дыхание, он думал, как странно, откуда и каким образом оказалась на нем эта обнаженная, текущая струйками горячего пота, мягкая, жаркая женщина? Как так вышло, что вот сейчас прямо над его носом упруго колышутся эти груди?
Булат пытался всмотреться в ее полузакрытые от вожделения глаза, надеясь найти ответ в ее взгляде, но лицо Миры пряталось за спутанными мокрыми волосами, и вопросы так и остались вопросами.
Дышать сквозь тесно прижатую к губам ладошку не выходило, Стас попробовал втянуть воздух сквозь ноздри – ничего.
Чувствуя, что вот-вот задохнется, он попытался освободить руки из-под округлых елозящих по нему бедер женщины, но не тут-то было. Руки не слушались, словно омертвели и налились чугуном. Булат дернулся, пытаясь извернуться как-то, чтобы сбросить эту навалившуюся, трясущуюся в сладких конвульсиях самку, не признающую здесь и сейчас никого и ничего, кроме собственной похоти. Только Мира была в сотню раз тяжелее и сильнее, чем можно было бы представить. Стас закричал, но получилось только зашипеть, выдавив из легких последние остатки драгоценного воздуха. Мира же, будто почуяв предсмертную агонию, ускорилась, впечатывая его в постель резкими движениями.
С ужасом осознав, что сдохнет сейчас так глупо, так постыдно для воина, в постели, да еще под извивающейся озабоченной женщиной, Стас что было силы впился зубами в запершую дыхание ладонь, пытаясь выгрызть свое право на глоток воздуха. Мира лишь захохотала, будто боль раззадорила ее, и сладко выгнулась назад, отбрасывая с лица пряди длинных пропитанных потом волос. Булат обмер. Увиденное не помещалось в воображении. Вместо лица у стонущей в оргазме женщины была все та же гладкая, покрытая мелкими пупырышками и легким пушком, как на ее плоском животике, кожа. Запаниковав впервые в жизни, Булат выдернулся из-под страшной безликой твари, теперь лишь отдаленно напоминающей его возлюбленную. Заглотил спасительный воздух и тут же, со слизью и болью исторгнув его из легких, заорал.
И проснулся.
– Тише-тише. Что ж так орешь, батька? – расплывчатая тень у изголовья сгустилась и приняла очертания Войцеха. Булат задышал с наслаждением, часто, жадно. Боец заулыбался всей своей хитрой рожей. Был он в исподнем и, судя по худобе, черным кругам под глазами и торчащим клочьям на обкорнанной наспех голове, только начал поправляться от серьезной болячки.
– Вот и чудо. Слава те Господи. Выкарабкался. Не чаяли уже. Фелдшер еще третьего дня говорил «не жилец», а поди ж ты. Организм, значить! Великое дело. Тифозная вша не выбирает. Эпидемья, однако. Да… надо ж как угораздило… Водички?
– Угу, – попробовал улыбнуться Стас.
Тут же у губ образовалась серая жестяная кружка с чистой колодезной водой. Пил жадно, ощущая, как с каждым глотком вливается внутрь капелька силы. С трудом оторвавшись от холодной влаги, Стас повел глазом, осматриваясь. Глядя на покрашенную белой известью мебель, понял, что находились они в импровизированном полковом лазарете.
– Войцех.
– Ну? Вашбро… тьху ты, товарищ командир.
– Давно я тут?
– Дней девять. Такие дела. Грешным делом думали, мерку снимать придется. За неделю душ десять из полка оградкой обросли. Я ж брату вашему так и сказал: не допущу, чтоб командир мой боевой там без меня сгинул. Сказать по правде, так и сбег. Как думаешь, батька, мне за дезертирство расстрел полагается?
Не дождавшись ответа, Войцех почесал кое-как остриженную голову и горестно вздохнул:
– Приехал, чую, худо мне тож. Озноб. Далее помню плохо. Сам вот чуть не сгорел. Дело известное – эпидемья! Дохтур меня к вашбродию, тьху ты, к вам, короче, не хотел пущать. А я ему: «зараза к заразе не липнет!» Резонно, говорит. На том и порешили. Скажем прямо, уговорил коновала нашего на том, что желаю, чтоб друга моего сердечного в последний путь самолично проводить. Не серчай, Булат.
– А полк? Тут? Где?
– Ну, такое дело, значит… – Войцех неуклюже попробовал соскочить с неприятной для него темы. – Навару? Мигом соображу! Курица по двору шастает. Наглая такая, давно пора с ней это самое… в щи!
– Полк! Мой. Где… Командование. Кто?
– Вот любишь ты, батька, в нахрап, аллюр три креста. Где-где… в этой самой… тута! Рядом! Недалеча, верст сто. Мира твоя всем заправляет. Командир-то при смерти, вот и взяла поводья в свои лапки! Приказ, грит, с самого верху. Ох, ну, давай писать губерния! На деревенских батарею развернули …что б им… Постами и разъездами всю гмину оцепила! Мышь не проскочит. Поля с пшеницей жечь закомандовала. Говорит, подождем, когда крестьяне с голоду дохнуть начнут. Небось, говорит, пусть думают впредь, как супротив Советов бузотерить. Темные силы бунтуют, грит, против нашей власти рабочих и крестьян. Без жалости, со всей пролетарской ненавистью душить эту собственническую гидру. А чтоб совсем веселей было, мать ее, заложников понабрала! Детей да баб! И ультиматум им, срок два дни, чтоб главные повстанцы самолично в плен посдавались. Сука. Не вовремя ты, Булат, хворать вздумал, ох, как не в дугу!
– А Сергей?
– Комотряда? Что он? Как теля возле мамки, бают, куды титька, туды и он! С ума рехнулся. Я так мыслю, комиссарша наша ведьма поди. Тебя вона и других… Таких бравых вояк охомутала. Тут без колдовства никак. Не обижайся, товарищ командир, но такие слухи давно по полку ветер носит.
Стас поджал губы, новости ранили прямо в сердце. Самое обидное, что прав был этот бесхитростный, преданный ему до мозга костей, друг. Сказал, как нарыв вскрыл. Зачаровала чертова баба. Сладостью своей как подпоила, заставляя думать только о ней.
Вот и сейчас проклятый чертик сомнения, подселенный ведьмой, зашевелился в еще не совсем ясном сознании.
Нет, не о мерзкой карательной экспедиции стучал он острым молоточком в темя. Первая мысль была о ней. «Как же так? Почему не проведала? С кем она? Только ли с братом? А что, если еще с кем?»
Войцех, как будто прочитав по лицу командирские думки, тяжко вздохнул.
– Брось ее, батька. Плюнь да разотри. Думаешь, только твоя? Как бы не так. Мужики они хуже баб языками чешут порой. Давеча пулеметчик Жовнерович хвастался, как комиссаршу на сеновале драл. Мишка Батон, ну, тот, который по байкам спец, тоже такое с ней замутил, что слушать стыдно было, право слово… а казаки, которые свояки, Михеевы которые, те так вообще… эх, шлюха, одно слово.
– Закрой пасть. Достаточно! – Стас вскочил с постели, но тут же покачнулся и едва не упал обратно, ноги были чужими и отказывались держать иссушенное тифом тело.
Стас не сдался, схватившись руками за спинку кровати, кое-как выпрямился и, застыв натянутой струной, скривив брови в болезненной гримасе, железным, не терпящим возражений тоном, приказал:
– Поехали. Форму тащи. Форма где?!
– Знамо где. Спалилася вместе с моей.
– Разыщи, братка, одежду и транспорт. Мне в полк надо. Срочно…
– Да как же… батька? Ты ж мертвый, почти…
– Боец! Мне повторить? – голос Стаса был тих, но от того не менее страшен.
Войцех быстро кивнул клочковатой башкой, да и выскочил пробкой, как будто какая-то неведомая сила выперла его из лазарета.
* * *Проснулся Васька от того, что отлежал руку. Попробовал пошевелить ставшей будто чужой конечностью, но куда там, рука не слушалась. Пытался и так и сяк, но проклятая правая рука была ватной и совершенно не подчинялась. Ваське ничего не оставалось, как взять и, осторожно согнув в локте, положить лентяйку на грудь.
Полежав с полминуты и покумекав над странностью, Васька решил, что виной всему вчерашняя самогонка и что пора как-то завязывать с этим делом. Вслед за угрызениями совести в память незваным гостем проникли воспоминания сегодняшней страшной ночи. Мысли были тяжелыми, как жернова, и безрадостными, как похороны близкого. Мельтешили они в Васькиной чугунной башке произвольно, как вихрь из холодных снежинок, перескакивали с события на событие, путаясь, заставляя ежиться в жутком недоумении « как так могло выйти-то?». Васька попытался уловить какую-то логику и последовательность роящихся страшных картинок, но быстрый доселе мозг будто взбесился, не только отказываясь давать оценку, но и осмысливать произошедшее. Все еще ничего не соображая, сетуя на проклятую руку, решил встать, чтобы опорожнить переполненный мочой пузырь, да только не тут-то было: правая нога тоже была чужой. Чувствуя, как липкий страх расползается по телу, он снова и снова, настойчиво, как заведенный, пытался приподняться с тахты, но не мог даже сдвинуться с места: половина туловища стала неудобным, тянущим книзу мертвым куском мяса. Страх рос, множился, стучал в виски и хватал за горло жесткой волчьей хваткой. Не в силах справиться с ним, почувствовав себя беспомощным и маленьким, Васька залился слезами, заорал что было мочи то единственное слово, которое приходит в те самые мгновения, когда с ужасом осознается, что все прежнее существование исчезло, рассыпалось и расползлось по швам, оставив после себя отныне никому не нужную пустую шелуху воспоминаний:
– Мама! Ма-моч-ка! МАМА! АААА!!! – вопил Васька, в сотый раз пытаясь приподняться, чтобы стряхнуть с себя невидимые оковы. Но искусанные в кровь губы почему-то бубнили дурацкое: «Та-та-та-тата. ТАТАТА-тата!!!! Млять…»
Васька орал и дергался, ссать хотелось невыносимо. Ему показалось на мгновение, что еще чуть-чуть – и подпершая снизу жидкость вырвется наружу, пробив пульсирующим напором хрупкую крышку черепа. Задница вдруг стала мокрой, Васька почти обрадовался, почуяв, как потекла под спину теплая жидкость, принеся долгожданное облегчение.
– Тататата! – выругался Васька.
Скрипнули половицы, на шум в комнату зашла полуодетая Софья.
Женщина втянула воздух ноздрями и брезгливо поморщилась, неодобрительно рассматривая растекающуюся по полу зловонную лужу.
– Опять нажрался, что ли? А? Зятек дорогой…
– Пошла ты на хер, старая дура! Не твое собачье дело, коза тупорогая!!! – сказал, как плюнул в физиономию тещи, Каплицын и с ужасом услышал, как идиотский язык старательно выстукивает вместо тирады все ту же пулеметную трель: тататтата! Тататататата!!!
Софья, пока не веря собственным ушам, перекрестилась. Потом, всмотревшись в выпученные от ужаса глаза и съехавшую набок Васькину рожу, зло сплюнула прямо на пол перед тахтой.
– Удар, что ли? Ох ты, батюшки святы, – перекрестилась Софья. – Точно он! Ну… слава те Господи! Услышал мои молитвы…
– Тататтататата!!! Та-та! Млять!!! – в бессильной злобе зарыдал Васька.
* * *Телега ерзала по раскисшей дороге, то и дело пытаясь соскользнуть деревянными ободьями колес в топкую, заполненную грязной осенней жижей, колею.
Стас подоткнул себе под бок ком ароматного сена и старался смотреть в свинцовое небо да на спину своего спутника, Войцеха, выряженного, как и он сам, в лохмотья, в то, что удалось найти. Войцех, почуяв взгляд, обернулся и, будто прочитав мысли товарища, заметил:
– Да… видок у тебя, батька. Хотя… Беглецу все к лицу.
Стас глянул на свои прохудившиеся на коленях парусиновые портки и усмехнулся недавним воспоминаниям. Идиот доктор, видимо, испугавшись расстрела, грудью встал, не давая уехать недолеченному командиру. «Одно дело, если вы тут помрете! А совсем другое, если узнают, что я вас отпустил! Пожалейте, Христа ради, у меня дети…»
Вот так и вышло, что бравый краском выглядит, как жабрак: ноги босые и грязные, на лице рыжая двухнедельная щетина. «Ничего-ничего, вымоемся-поскоблимся, нам бы только до штаба добраться».
Как ни отводил Стас глаза от окрестных пейзажей, но проклятый глаз все ж цеплялся то за иссине-черный выжженный горизонт полей, то за ряды обугленных печных труб, грозящих несправедливым небесам укоризненными черными перстами. «Клятая баба. Палит деревни. Дорвалась до власти, чертовка. Точно, ведьма. Или не ведает, что творит?»
За грустными раздумьями, под мерный топот клячи и недовольное ноканье Войцеха, незаметно подкрался вечер. Решили проехать еще пару верст и, соорудив костер, расположиться на ночлег. Рассудили по-простому, что пусть по темени и не езда, но поспать на пустое брюхо особо не получится, так что остановка в большей степени предназначалась для недовольно фыркающей кобылы, чем для двоих изможденных хворью беглецов.
У костра их нашел полковой разъезд.
Четверо всадников на фоне фиолетового неба выглядели жутковато, но Войцех – доверчивая душа – вскочил и, замахав шапкой, сам позвал ехавших служивых к замаскированному по фронтовой привычке огнищу.

