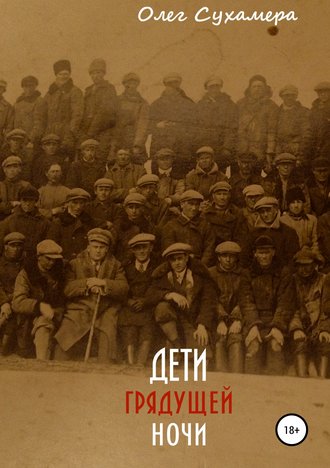
Дети грядущей ночи
– Второй раз – по крышке гроба. Все в курсе.
– Лады. Прощаю. Кстати, ты тоже приглашен. Так и быть, могу взять тебя с собой.
– Мне статью в «Нашу ниву» через день сдавать. Так что извини, Адонис, не буду затмевать твою природную красоту своим присутствием.
– Хозяин-барин! Влада огорчится, конечно, но это никак не повлияет на наше с Полиной романтическое свидание.
Мишка с силой захлопнул толстый том «Истории словесности».
– Чего? С кем свидание? Прыщ! И ты молчал?! Это Полина пригласила? Нас обоих? – Мишка вскочил с софы и забегал по комнате. – Где утюг?! У меня рубаха не свежая! И с чего такая уверенность про «наше с Полиной»? А Влада? Тоже очаровательная девушка!
– Вполне! Сплошное обаяние, природная мощь и красота. Но не чета моей Полине.
– Вот фиг ты угадал!
– Дурачок. Ты ничего не понимаешь в женщинах. Влада уже зависла на тебе, и всех нас это устраивает. Уж, прости, но прекрасная Полина – бутон, который судьбой предназначено сорвать твоему покорному слуге.
– Зубенко, тебе никто не говорил, что ты злобный, ничтожный карлик? Батон тебе в рот, а не Полину!
Костя вздернулся, словно невидимый кучер перепоясал его кнутом через спину. Побелевшее лицо в мгновение ока перекосилось, от мирного расположения духа не осталось и следа.
– Повтори…
– Извини, Костя, погорячился. Просто я хотел сказать, что ты злобный прыщ с наполеоновским комплексом. И не видать тебе Полины, как собственного микроскопического зада!
– Ладно. Вот как, значит … Убью суку!
Словно разъяренный бык, Костя бросился к товарищу, хаотично размахивая кулачками. Так как приблизиться к длиннорукому Мишке не особо удалось, Зубенко ничего не оставалось, как молотить воздух, яростно брызгая слюной.
– Урою козла! Дай подойти!
– Уроешь. Успокойся, ты ж не хочешь идти на свидание с разбитым носом. Полина не оценит…
– Я тебе сам череп раскрою! Чья Полина?! Давай разберемся!
– Пока что ничья. Так устроит?
– Нет, не устроит! Чем тебе Влада не нравится?
– Не нравится ничем. Давай так. Определимся на месте. Если Полина расположена к такому красавчику, как ты, Костя, то, видит Бог, я не встану на пути вашего счастья.
– Серьезно? – мигом остыл Зубенко. Мысль о том, что кто-то может соперничать с ним в привлекательности, никогда не закрадывалась в его вихрастую голову. – Ладно. Ты уже проиграл! Извинись, и я прощу.
– Прости. А кёльнская вода? Тут же было полбутылки? Где?
– Тут! – Костя с гордостью ткнул на влажные от одеколона волосы.
– Понятно. Ладно, твоего аромата для нас двоих будет более чем достаточно.
* * *Шевелятся, манят к себе в глубину зеленовато-серые мягкие водоросли. Полоски света змеятся по пушистому растительному ковру. Где-то там, на границе света и тени, мечутся странные силуэты, прячась от любопытного взгляда. Рыбы? Нечисть? Или, переливаясь радугой, сам водяной царь выпучил яблоки глаз, вглядываясь, что за нежданный гость? Сам уйдет, или оставить его тут? Нести службу с другими неприкаянными душами.
Странная смесь впечатлений: чуждая, враждебная красота, убаюкивающий, дарящий покой страх. В глубине озера Обстерно ты не зевака, скорее, вор, которому на короткий миг удалось взглянуть на дом подлинных хозяев этого мира. Задержись хоть на одно мгновение, позволь очарованию спокойствия заманить тебя чуть дальше, вниз – все, не жилец. Защекочут русалки, утомят холодной лаской, выпьют кровь, да и бросят посреди колышущихся в воде лохматых холмов.
Дзынь… дзынь…Что за звук? Зачем он? Так не хочется выныривать на поверхность из теплой, как погожий летний денек, глубины.
Дзынь!
Сергей не проснулся, нет, скорее, пришел в себя. Сном это наваждение назвать было сложно. Вспомнилось бабушкино слово «навь». Есть явь – то, что реальное, где живем, а есть обратная сторона – мир теней и духов, призрачный, но от того не менее настоящий. Говорила бабка Клавдия, что злой ведун при помощи трав или слов, ему подвластных, может навести на душу христианскую тень обратного мира. Так и сказала, коль человек соприкоснулся с миром духов, то вернется не весь, часть его души так и будет маяться там, где свет не свет, а тьма не тьма.
Пошевелил языком. Подметка, а не язык, сухой, жесткий. В голове звенят сотни мелких колокольчиков, и боль от этого звона такая, что хочется выть. Попробовал обхватить башку руками, ан нет, связаны. Резлепил стопудовые веки, попытался осмотреться, но картинка плыла. По запаху – вроде подвал. Сырость, гниль и еще что-то знакомое.
Кровь?!
Ч-черт, попили водички. Уж больно любезен был старый бандит. С чего б ему предлагать пленникам? Нет. Не из жалости. Подтравил, скот. Точно, Мира сразу же откинулась, а сам покарабкался сознанием чуть дольше, но тоже сдался. Теперь вот здесь. В подвале самого Беса, как следует понимать. Неплохое начало. Неплохое начало конца.
Дзынь!
Кто-то серый и бесшумный суетился за спиной. Увидеть его не получалось, лишь волосами на затылке ощущалось легкое движение, тень перекладывала с места на место что-то металлическое.
– М-м-м-м-М-М-М-М!!!
Господи, Мира! Ее голос… Страшно бедняжке. Как же? Как же я так?! Пусть бы один вляпался, ее зачем? Надо было настоять, обмануть, убедить… Но это Мира, убить можно, переубедить – никогда.
Тень за спиной быстро-быстро задышала. В воздухе ощутимо повис ужас, в желудке у Сергея похолодело. Он внезапно осознал, что сейчас случится что-то страшное, непоправимое, такое, что будет приходить кошмарными снами всю оставшуюся жизнь. Еле двигая деревянным языком, он просипел, не узнавая собственный голос:
– Эй! Ты! Слышишь меня, Бес?!
Что-то опять звякнуло. Сергей представил, как Тень насторожилась.
– Хм…
– Слышишь, значит, ссученыш. Это хорошо! Мы ж по делу к тебе, доктор! По делам приехали, в гости. Так коллег по партии не встречают… А, Беськов? Нехорошо!
Тень опять чем-то звякнула, по ее разочарованному вздоху Сергей понял, что попал пальцем в небо.
Почти бесшумно, мягко, словно кот, охотящийся на мышей, Бес подкрался к самому затылку Маруты и, почти касаясь холодными губами уха, зашептал невыразительно:
– Добро пожаловать, гости дорогие. Кха-кха-кха, – говорил Бес безжизненно, почти без интонаций, словно механическая кукла.
Вашкевич, не подавая виду, что слегка струхнул, нарочито бодро затараторил, как когда-то учила банда уличных шулеров: «Главное, заговорить зубы, перегрузить мозги лоха информацией, чтобы взять контроль над ним, чтобы не он, а ты двигал тему! Смекаешь? Лепи языком что на ум придет, чем больше дури, тем лучше. Как из пулемета, без остановки, качай! Глядишь, какое-нибудь из словечек и заденет больную струнку. А она у каждого имеется. Спроси у цыганок, они с таких фокусов веками кормятся».
– Здоровочтомывстретились! Товарищ Гвоздев, которому ты на каторге задолжал, так и сказал: обязательно найти Беса, который окажет всемерное содействие, обогреетприютит, даст денег, переправитчерезлиниюфронта…
– Кха-кха-кха. Яшка, что ли? Вот идиот. Вон оно что. Говори.
Тень мягко всплыла из-за спины, и перед Сергеем возник человечек лет сорока, небольшого роста с поразительно квадратным лицом (ему б Щелкунчика играть) и аккуратно прилизанной плешью на остроконечной макушке. На тонкой переносице покоилось чеховское пенсне, а под ним двумя бусинами блестели глазки, заставившие даже такого тертого калача, как Сергей, поежиться от омерзения. Во взгляде Беса было не больше эмоций, чем во взгляде гадюки. За синими радужками глаз притаился холод – холод безумия.
Сергей мгновенно смекнул, нет, обычное заговаривание зубов с таким типом не прокатит, тут надо искать нарыв в слизи, что у этой твари заменила душу. Надо качать, искать его, а потом давить! Давить на больное нещадно, пока Бес не начнет захлебываться в фонтане переполняющего больной разум гноя.
– Что ж так? А, Бес? Вместо того, что б помыть, причесать, спать положить, привязал вот к стулу. Шалишь, брат?
– Ага, шалю. Немножко. С твоей подружкой поиграюсь. Потом с тобой. Вы смешные.
– С Мирой, что ли? А где она? Неправильно как-то. Я тут, она там.
– Да. Неправильно. Смотри. Так будет веселее развлекаться. Всем, – с неожиданной для щуплой фигуры силой Бес одним движением развернул стул с Сергеем на сто восемьдесят градусов.
Зрелище, открывшееся Сергею, заставило сердце подпрыгнуть до самой глотки, по телу побежали полчища холодных мурашек, а лоб покрылся холодной испариной.
Обнаженная Мира лежала на железном хирургическом столе, видимо, давно, так как ее запястья, привязанные к каркасу, посинели и отекли, а щеки опухли и раздулись от огромного тряпичного кляпа.
– М-м-м-м… – задергала конечностями женщина. Бес часто-часто, по-птичьи, похлопал веками. Ноздри его расширились, он шумно втянул воздух, будто пробуя на вкус сгустившийся в нем запах ужаса. Тонкие губы доктора растянулись в некоем подобии улыбки, и он, точно пародируя интонации Миры, промычал в ответ:
– М-м-м-м…
Сергей подумал, что положение голой беззащитной Миры пугает его не так, как разложенные у изголовья стола хирургические инструменты, недвусмысленно намекающие о планах сумасшедшего.
Чтобы как-то отвлечь начавшего заводиться Беса, Сергей снова затараторил.
– Операция? Что будем лечить? Давно ли практикуешь? А лицензия на врачевание в приватном порядке имеется? Эй, Бес, к тебе обращаюсь!
– Тсс. Не шуми. Ты же портишь все. Что? – Бес явно прислушивался к чему-то, слышному ему одному. В голосе доктора Марута уловил просительные интонации, потому заговорил громче и быстрее. Вот она тема! Теперь, только бы развить…
– Ты же слышал! Отпусти их! Тебе ж ясно сказали, Бес! Ты же не такой дурак, чтобы спорить?!
– Что? – доктор опять дернул головкой, но на этот раз в направлении Сергея. – Ты тоже? Слышишь?! Нет. Они не это сказали.
– Конечно, слышу! Только ты отвлекся. Дрянь! КАК ТЫ СМЕЕШЬ ОТВЛЕКАТЬСЯ, когда тебе говорят важные вещи?!
Бес замер, но уже через мгновение фальшиво запричитал:
– Я не хотел… я не хотел. Прости! Простите меня! Я буду очень внимательным! Я буду послушным мальчиком! Снова увлекся. Мне было так плохо…
– Развязывай давай!
Доктор сложил на груди ладони и начал заворачивать пальцы в замысловатые фигуры.
– Не-е-е-е-т… не-е-е-т… уговор… это мое! Добыча! Договаривались. Не-е-е-т!
Сергей, подавляя внутреннюю тошноту, вперился в бессмысленные глаза душевнобольного и, собрав в кулак остатки самообладания, попытался подавить волю безумца жесткими презрительными интонациями.
– Дрянь! Мерзкий мальчишка! Это не твоя добыча! Попробуй ослушаться и… Помнишь?! Вспоминай!
Лицо Беса вдруг превратилось в маску, разгладилось и стало совсем детским. Он приоткрыл рот и задышал часто-часто. Чувствовалось, что в его больном мозгу разворачиваются какие-то неприятные воспоминания.
Бес закатил глаза и вдруг начал крутиться вокруг собственной оси. Вращаясь все быстрее и быстрее, он дергался в конвульсиях и тонким мальчишеским голоском всхлипывал:
– Я большенебуду, я большенебуду, ябольшенебуду, ябооооольшеееенееебуууудуууааааааааа!!!!
Бес остановился и словно сомнамбула мягко переместился к лежащей Мире. Лицо доктора начало мелко-мелко подрагивать. Бес деловито осмотрел набор щипцов, сверл и скальпелей. Глаза Миры увлажнились, по щекам потекли слезы, тело ее задрожало и покрылось гусиной кожей.
Легким, несколько артистическим движением Бес перекинул в ладонь длинный ампутационный скальпель и опять замер в раздумьях. Сергей сглотнул слюну, орать было бесполезно, оставалось лишь уповать на везение и случай.
– М-м-м-м-м… – жалобно простонал Бес голосом Миры и одним, почти незаметным, взмахом чиркнул скальпелем по запястью жертвы. Сергей облегченно перевел дух, под железный стол с распятой на нем женщиной упала разрезанная надвое веревка. Но что-то в небесной канцелярии пошло не по плану. Облегчение и надежда тут же уступили место ужасу: на обрывки веревки начали капать бордовые капли крови.
– Бес! Дрянь! Не твоя! – Сергей даже не орал, почти визжал, захлебываясь словами.
Бес обернулся импульсивно, как дикое животное, в свете керосинки блеснуло пенсне, и Марута содрогнулся от силы нахлынувшего на него страха. Это был другой человек. Пустые глаза сделались разумными, но во взгляде не было ни капли человеческого, один лишь бешеный азарт и предвкушение любимой игры.
– Ням-ням, – доктор быстро облизнул губы.
– Сука! Умри, тварь! Это не твоя добыча! Сдохни! – Сергей выгнулся, мышцы свело судорогой от неимоверных усилий, но веревка, опутавшая его, лишь впилась тугими кольцами в тело.
Доктор захихикал, будто услышав непристойную шуточку, и отрицательно закачал головенкой, отчего стал похож на фарфорового китайского болванчика.
– Моя. Добыча. М-м-м-м…
Вдруг счастливое лицо Беса вытянулось от изумления, а через мгновение исказилось гримасой боли. Доктор схватился за горло, явно пытаясь ухватиться за что-то убегающее.
Сергей замер. Чувства его парализовало, ужасаться он уже не мог, словно какие-то предохранители перегорели в душе. Оставалось отрешенно наблюдать, как между холеными пальцами Беса проступают красные полоски, которые тут же сливаются в ручейки, расплывающиеся по белой манишке алыми пятнами, похожими на цветущие маки. Еще секунда, и сквозь туго прижатые ладони Беса кровь окрасила его физиономию в красный цвет. Бес покачнулся и растянул тонкие губы в некое подобие улыбки.
– Ням-ням! – Медленно, будто поваленное дерево, он рухнул лицом на цементный пол. Что-то хрустнуло с противным звуком, и доктор замер.
Мира полусидела на железном столе, смотрела на скальпель в своей кровоточащей руке и выла.
Сергей так и не понял, смеется она или рыдает.
Глава третья
Близ есть, при дверех…
(1937)
Такое простое желание: закрыть веки, на секунду, на мгновение. Нет. Нельзя. Все же боль от направленной прямо в глаза яркой лампы можно терпеть, в ней нет унижения. Душе не так больно, как от примитивных оплеух и пинков яловыми сапогами по почкам.
«За что? Все ж не последний автор. Столько искренних слов рождено для родной советской литературы, чуть ли не живой классик. Как так можно? Кому понадобилось растоптать все человеческое, свести работу ума до примитивного, животного – избежать позор от унизительных побоев.
Почти сутки одно и то же. Затекшие, стонущие от неподвижности мышцы; балансирование на краешке прикрученной к бетонному полу табуретки; удары при малейшем желании пошевелиться; робкие попытки спрятать слезящиеся глаза под набрякшими веками; очередные выверенные тычки остроносых сапог».
Михаил покачнулся и тут же, уже инстинктивно, вжал в плечи гудящую от побоев голову. Неясная тень человека (человека ли?) там, за ярким световым пятном, чиркнула спичкой и глубоко вздохнула, запахло дымом.
– Курите, Вашкевич? – Михаил даже удивился. Часов десять или больше тень просто молчала, скрипела изредка тоненьким перышком по бумаге, покуривала каждые полчаса, кряхтела, сморкалась, сопела, старательно выводя буковки, шелестела документами, но не разговаривала. Не хотела говорить. Поначалу Михаил попробовал «навести контакт», ляпнул что-то навроде «здравствуйте», но тут же, получил урок – хлесткие, по-мясницки отточенные пинки от маячившего сзади солдатика в фуражке с малиновым околышем. Уроков было много, все болезненные и унизительные. Экспериментальным путем выяснилось, что двигаться, моргать, шевелиться нельзя. Можно сидеть на остром ребре табуретки исключительно прямо, не пытаясь отвести взгляд от мерцающего карболитового «гуся» казенной лампы.
– Не бойтесь. Отвечайте. Можно.
– Да. Наверное, – Михаил едва сдержался, чтоб не дернуться: из болезненного светового пятна ловко выскочила маленькая, почти детская ладонь с аккуратно отполированными ногтями на гладких пальчиках, между которыми была зажата папироска.
Внутренне радуясь хоть какой-то смене обстановки, Михаил неловко взял набитую табаком гильзу, привычным движением смял кончик, сунул в рот, поморщился, разбитые высохшие губы саднили. Из-за лампы всплыла горящая спичка, пальчики поднесли колышущийся огонек к папиросе, и, чуть подождав, пока Михаил затянется, спичка затухла от резкого взмаха и растворилась в сполохах жаркого электрического света.
– Курите-курите, Михаил Иванович, когда еще придется… – голос человека с другой стороны света был странно знаком. Даже не голос, интонация. Было в ней что-то личное. Обида, что ли? Или затаенная вражда?
Михаил жадно затянулся, наслаждаясь не столько терпким привычным дымком, сколько сменой мучительной картинки.
«Вот оно, человеческое нутро. Минуту назад – страх, безнадега и отупение, и, поди ж ты, пару затяжек – и снова хочется жить. Господи, чего б я не отдал сейчас, чтобы это был просто сон. Проснуться, открыть глаза и сбросить с себя ночной кумар. Слава Богу, всего лишь кошмарный сон… Через пару дней Новый год. Тридцатый. Дожить бы…».
Невидимый человек нетерпеливо постучал по столу костяшками и, посчитав прелюдию законченной, начал вкрадчиво вещать:
– Следим за вашим творчеством. Изучаем. Мощные есть вещи. Серьезно. Весь этот ваш гуманизм, боль за судьбу маленького человека… трогает. Я не о себе. Там, наверху, так считают. Рады?
– Чему радоваться? Я ж здесь. В чем меня обвиняют?
– К этому придем. Поверьте, Михаил Иванович, ситуация более чем серьезная. Судьбоносная. Кха-кха, для всей нашей национальной, так сказать, литературы. Ну и для вас лично, увы. Так вот о творчестве. Есть мнение, что вам надобно более пристальное внимание уделять не самокопанию, а, например, прославлению успехов социалистического строя. Мы не настаиваем, конечно, но… Лирика она хороша для буржуазного общества. А у нас – передовые свершения. Люди труда. Руководители. Не дурачки, которых вы выписали в этой своей пьеске, а вожди. Мудрые. Дальновидные. Как считаете?
Михаил горько поморщился, надо же, там, в светящемся круге поселился знаток его творчества, людоед-литературовед. Вслух же выдавил, подыгрывая вкрадчивому тону:
– Считаю, все верно. Ошибался. Вы скажите, этот допрос из-за …моей оплошности в творчестве?
– Что вы! Допрос даже не начинался! А вот тот факт, что наша дружеская беседа состоялась, это да. Если смотреть вкупе, безусловно. Цепочка неверных шагов, и – оп-ля – вы на краю обрыва. Открою тайну. Внизу – бездна. Что касается нашего ведомства, мы за чистоту рядов, как по нам – падайте, не заметим. В общей, так сказать, яме, будете «один из». Но …наверху, увы, вас читали. И посчитали не безнадежным. Не врагом. Заблудшим. Это везение. Большая удача. Поверьте, знаю, о чем говорю.
– Понятно. Отпустите меня? Или…
– Отпустим-отпустим… Одна формальность. Малость. Подписать надо. Заявленьице. Прошу прощения, что казенным языком от вашего имени, вы ж у нас литератор. Не переживайте за стиль, для документооборота сойдет. Почитаете?
Ладошка ткнула в лицо Михаилу стопку стандартных листиков, испещренных аккуратным убористым почерком. Михаил попытался читать, но буковки расплывались, вместо текста перед глазами плясали витиеватые зайчики, как нити накаливания от злосчастной лампы. Следователь же елейно продолжал журчать, но теперь с легкой издевкой в голосе:
– Может, я какие-то фамилии упустил? Михаил Иванович, вы уж гляньте, пожалуйста, дорогой. Пустячок, список шпионов германской разведки, маскирующихся под белорусских поэтов и писателей. Одна незадача. Все – ваши друзья-приятели. Бывшие, естественно. Благодарим, что выводите этот гадюшник на чистую воду. Все верно. Так их, негодяев! Сепаратисты. Националисты. Отребье. Ни одного порядочного человека. Спасибо, как говорится, вам большое от органов за своевременный сигнал. Ах, да…Вот ручка. Прошу не сомневаться, наши информаторы известны только нам. Ну-с. Ваш автограф – и… Свобода! Вперед, как говорится, к новым творческим высотам!
Михаилу почудилось вдруг, как голос старика Еленского прошептал в самое ухо «… остаться человеком при любых обстоятельствах…».
Обидно, что вот он – последний день на земле, так неожиданно, не вовремя, на взлете. Все надежды, разочарования и планы вдруг скукожились, стали смешными и глупыми на фоне этой дохнувшей холодом предстоящей вечности небытия. Так, оказывается, сложно «остаться человеком». Михаил с сожалением утопающего, отпускающего спасительный круг, разжал пальцы, и бумажки мягко спланировали на стол.
– Подите… к черту…
Повисла жутковатая пауза, во время которой Вашкевич успел почувствовать себя маленькой песчинкой, проваливающейся в узкую горловину гигантских песочных часов. Каждая клеточка тела замерла, ощущая момент падения туда, вниз, к отцу, к пану Еленскому, к миллионам таких же, как он сам, душ, время существования которых тоже когда-то истекло.
– С-сука! Думаешь, мне не хочется раздробить каждую твою косточку?! Да у меня другой мечты нет, только чтоб ты, тварь, сейчас слизывала собственную блевотину с моих сапог!
Из-за светового ореола пулей вылетел неожиданно мелкий, обрюзгший от ночных бдений человечек, завопил кукольным голоском. Михаил автоматически сжался, предполагая, что это визжащее и брызгающее слюной существо сейчас толкнет табурет и теперь уже на пару с охранником будет выбивать из него то немногое человеческое, что еще теплилось в душе.
Но нет, почти карлик просто визжал, сверля ухо пронзительным дискантом:
– Думаешь, я не умею?! Еще как! Не таких, как ты, сволочь интеллигентская, переламывал! Если б не отмашка сверху… Ты, говно, умирал бы у меня каждый день! По чуть-чуть, по капле! Ты умолял бы меня о смерти, но нет… Я бы дождался, пока ты, бумагомаратель доморощенный, не сойдешь с ума. Подождал, пока от твоей поганой личности не осталось и следа! А животное, которым ты бы стал, не грех и прикопать в общей яме, полуживым… За все. За Полину. За все, что ты, паскуда, наделал!
Михаил едва не привстал от удивления. Так вот откуда знакомые интонации!
– Зубенко? Как же?!
– Для тебя, вша тюремная, я сейчас гражданин начальник! Подпись! Это я тебе в общих чертах обрисовал, не завидую, если придется узнать, КАК оно на самом деле будет!
* * *– …Ты сидишь у камина и смотришь с тоскою,
Как печально дрова догорают,
И как яркое пламя то вспыхнет порою,
То бессильно опять угасает…
Костя сделал вид, что половчее перехватывает гриф гитары, на самом же деле попытался взглядом оценить эффект от свежевыученного романса.
Дядя, Степан Макарович Крылов, отрешенно жевал, погруженный в тяжкие начальственные думы председателя Витебского реввоенсовета. Полина и Влада кисло улыбались, делая вид, что им все нравится. Разгильдяй Мишка демонстративно позевывал.
Пробуя как-то переломить творческий провал, Зубенко сильнее тренькнул по струнам и завыл во всю мощь писклявого голоса, внося в припев драматические нотки, коих в оригинале не было отродясь.
– О, поверь! Что любовь – это тоже дрова!
Что сгорают, как лучшие грезы!
И вся разница в том, что любовь дорога…
– Но дрова нынче вдвое дороже! – неожиданно ляпнул очнувшийся Мишка. Девушки дружно прыскнули в кулачки. Степан Макарович одобрительно хмыкнул, махнул рюмочку беленькой и одним вялым жестом заставил племянника заткнуться.
– Так говорите, молодежь, тяжко в Питере… Угу. Только от революции не сбежишь. Вы – сюда, а она уже тута.
Костя отложил гитару и на правах организатора группы беженцев дипломатично попытался увильнуть от скользкой темы.
– Мы, дядя Степан, в большей степени, сменить картинку. Учебы нет, с работой тоже никак. Вот и решили. Ты ж обещал устроить…
– Тебя – да. При мне будешь! У-у-у… Костя, племяш мой любимый! Человека с тебя сделаю. В комиссию по раскулачиванию нам как раз надо. А с друзьями твоими… ну… Звиняй, прямо не знаю, что и придумать.
Влада вдруг вспыхнула, встала и выпалила, бросив на обеденную тарелку вилку, что аж воздух зазвенел.
– А мы не набиваемся в родственники! Я шить могу. Мишку с руками любая газета оторвет. Полина в театр устроится, у нее талант. Справимся сами. Не нужно нам ваше участие!
Степан Макарович вытер платком лысую голову и, подумав, неспешно налил себе еще рюмочку. Выпил махом, крякнул от удовольствия и, вытерев щегольски подкрученные усищи, глянул исподлобья на Владу, которая тут же осеклась и села, пытаясь слиться с пестрыми шпалерами, обвисшими за ее спиной.
– Сами, так сами. С усами, б-г-г… Гордые они. Слы, Костик, ты это секи. С такими друзьями радости мало в наше время, а вот горя хапнуть легко.
– Дядя Степан, это Влада так, не подумав, сказанула. Если есть какая-то возможность посодействовать…

