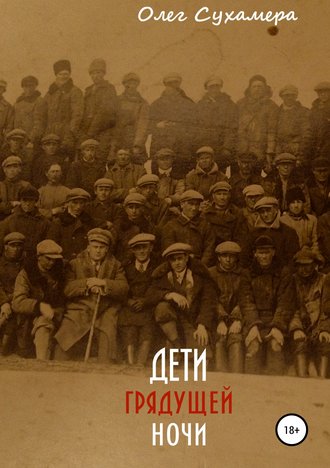
Дети грядущей ночи
Время вдруг стало вязким и тягучим, зависло, заморозив ощущения на одной звенящей от напряжения паузе. Громадный медведеподобный мужик в проходе и замершие в ужасе пассажиры, и даже вагон – все превратилось в одну мертвую, застывшую декорацию.
Сергей смотрел, как глаза «медведя» наливаются кровью, как дуло винтовки неотвратимо поднимается, выцеливая место где-то на уровне груди. Марута с сожалением осознал, что не успевает выдернуть спасительный наган: не хватает жалкой доли секунды, которая решает, кому из них двоих остаться в живых, а кому свалиться, превратившись в бесполезную кучу мяса и костей.
Неожиданно из-за спины здоровяка кто-то беззаботно произнес:
– Тит, остынь. Мой кореш это.
Мужичина удивленно замер и, не отводя от Сергея винтовку, растерянно ответил:
– Серьезно? А чего он братьев завалил?
– Их дела. Видать, было за что. Так, Марута?
Из-за спины Тита юрко выпрыгнул ладно скроенный смуглый паренек лет двадцати пяти. Мягким движением опустил оружие напарника и улыбнулся опешившему от такого поворота событий Сергею одними глазами, в которых сверкали до боли знакомые озорные проблески.
– Здорово! Братюня! Вот так встреча! Скажешь, не признал? Деревня! А кто тебя, дурня, в карты шпилить учил? Ну?! Припоминай!
Сердце Сергея снова начало биться, будто мокрая жаба отпустила его из мерзких холодных лап. Пружина мира разжалась, запуская ход событий в привычный жизненный ритм.
– Ромка? Цыганенок?! Братка, не представляешь, как я рад!
«Медведь» озадаченно почесал затылок, на секунду задумался и изрек тоном, не терпящим возражений:
– Цыган, это самое. Дружба дружбой, а корешей наших твой знакомец ухайдакал! Я б его тут шлепнул, но из уважения к тебе давай его к Бесу отведем. У атамана голова большая, пусть он решит, как быть по понятиям.
Сергей поежился, увидев, как по лицу старого приятеля, надувшего его в Браславе в три карты, черт упомнит, в каком году, пробежала легкая тень. Было понятно, что Цыган быстро что-то соображает и, судя по его недовольной гримасе, то, что надумал, не слишком радует. Изображая безмятежность, Ромка тряхнул залихватски закрученным чубом, сплюнул и фальшиво-бодро проговорил:
– Говно вопрос, Тит. Твоя правда. Бес разберется, – Цыган развел руками, как бы говоря Сергею «извини, браток, вот такая несложуха получается». – Ну, чо, Марута? Не ссы, главное, все будет пучком. Лично за тебя зуб дам атаману. Авось кривая вывезет. Пошли?
Сергей покорно кивнул головой, соглашаясь, и медленно побрел к выходу, с трудом протиснувшись между перегородкой и дородным Титом. Не оглядывался специально, а в душе молил Бога, чтобы стукач «конторщик» не вспомнил о Мире. Походя так взглянул на языкастого, чтобы у того сомнений не осталось – еще одно слово, и ты труп. Мужичонка, почуяв опасность, покраснел и демонстративно отвернул вихрастую голову к окну.
В спину дышал Тит, «подбадривая» трехлинейкой Сергея, который слегка расслабился: слава Богу, пронесло, все в порядке, главное, с Мирой ничего не случится. Вот он, выход на откос дорожного полотна. Сойти, уводя опасность от любимой женщины, а дальше как карта ляжет. И вдруг именно в этот момент неожиданным ударом в спину прозвенел не терпящий возражений голос любимой:
– Эй! Господа, бандиты! Постойте! Я с ним. Мы вместе ехали. Вместе и выйдем.
* * *«Конь – огонь. Высокий, стройный. Умные влажные глаза, длинные ноги, стать, все при нем. Одно слово – ахалтекинец. Послушный каждому движению, ласковый, как кот. Но не лежала душа к нему. Жалкое подобие моего Серко. Машина для передвижения, не более. Или очерствел настолько, что не могу привязаться к кому-то, кого можно потерять безвозвратно? Наверное. Не конь виноват. Сам стал другим».
В легкой досаде на себя за то, что поддался самокопанию, Стас слегка пришпорил жеребца. Тот всхрапнул удивленно и перешел с шага на рысь. Булату даже пришлось натянуть поводья, удерживая излишнее рвение послушного животного. Ротмистр почти физически ощутил, как привстали в стременах бойцы особого отряда. «Что не так? С чего командир прибавил ходу?»
«Правильно. Две недели по немецким тылам дают о себе знать. Тут на каждый шорох за наган хвататься будешь. Нерасторопные и задумчивые остались там, под наспех сколоченными березовыми крестами. Странное дело. Разъезд стал не то чтоб привычным делом, а событием, которое ждешь. Навроде синематографа, только жестче, ярче, острее по впечатлениям. Сам не заметил, как втянулся. Служба без войны – тоска смертная. В ней одно испытание – терпение. И все понятно, терпилка выросла до небес. А в разъезде – другое дело. Кровь не бежит, скачет по жилам! И воздух другого вкуса, каждое мгновение становится ценностью, ведь одному Господу известно, на кого сегодня укажет его карающая длань. Смерть заслужили все. Кого ни поскреби в отряде, каждый грешник и душегуб, но фортуна – странная девица. В месиве осколков от немецкой гаубицы, когда деревья ложатся рядом с тобой, как скошенные, кому-то – хоть бы царапина. А бывает и так, что матерый боец, а, поди ж ты, на ровном месте – покойник.
Как Леха Дедов, например. Вот тебе и георгиевский кавалер, казак-пластун, мастер отличной рубки, зубы съевший на военном деле, одних «языков» перетаскавший из вражеских окопов вагон и маленькую тележку. Ни штык не брали, ни пуля, ни снаряд. Целехонький с четырнадцатого года.
Чего, спрашивается, дурачился, показывая молодняку чудеса вольтижировки? Никто и не понял, как это можно? Ну, упал с лошади. И на старуху бывает проруха. Но сломать шею? Насмерть… Не в бою. Как так?!
Скучно было без драки, вот и погнался за ощущениями. Да… Кто-то скажет, дурак и погиб по-дурацки, а я по себе чую: когда смерть тебя обходит, начинаешь сам ее искать, даже там, где ее быть не должно.
Что ни говори, душу война перекроила на свой лад: самый сладкий запах – дым от пороха, самый сладкий сон – под обстрелом чужой артиллерии, самое счастье, когда ты выжил нечаянно, вопреки всему, а враг твой, вот он – у ног, пускает кровавые пузыри с синих губ. Какая мирная жизнь после этого? Спиться и забыться только. Тот, кто попробовал свежую кровь, сдохнет, а падаль жрать не будет. Нет и не будет таким, как мы, покалеченным войной душам, покоя и пристанища. Для тех, кого война переехала, есть лишь две дороги. Не повезет – сума, тюрьма, приютная койка, а там и канава под забором. Повезет, прилепишься к светлому сердцу, такому доброму, что твоя грязь – тьфу, пылинка – будет на его чистоте. Бывают женщины, сам не заметишь, как отмякнешь с ней рядом. И там, под углями, вот оно, прорастет, зашевелится что-то новое, живое! Есть такие. Должны быть. Да хоть Вера, например. Дожить бы. С ней и скука мирная не заест. Поймет, поможет. Чего загадывать? Будет время. А там кто знает? С такой общее пепелище отстраивать только в радость».
За раздумьями время летит незаметно. В долгих переходах наработалось у Стаса умение нырять от тягостной действительности в глубь своего сознания, анализируя, сопоставляя себя прошлого с собою нынешним. Так и не заметил, как впереди замаячили огоньки деревеньки с расквартированным родным полком.
Мельком отметил странный взгляд, которым его окинул курносый рязанский мужик, стоящий в карауле возле ловко сколоченного из сухих олешин шлагбаума. Какой-то нездоровый интерес: смесь любопытства, жалости и брезгливости. Мужик смотрел на Стаса, как смотрят на собаку, которую ненароком переехал локомобиль.
«Видно, хреновые мои дела, – подумал ротмистр. – Что ж за неприятности нарисовались?»
– Чего смотришь, боец? Не узнаешь?
– Никак нет! Вашбродие! – вытянулся во фрунт старый солдат. – Узнал-с! С возвращеньицем!
– И на том спасибо. Что нового? – попробовал прокачать его Булат.
Неожиданно солдат поник головой и, пряча глаза долу, совершенно по-детски соврал:
– Дак, обныкновенно, – и, пожевав желтый ус уголком рта, расстроено добавил. – Я то чо? Короче, вашбродие, узнаете. Это самое. Вот.
Из-за короткого разговора движение конной колонны застопорилось. Уставшие в недельных боях и перемещениях люди возмущались, мечтая скорее добраться до сносного ночлега.
– Эй! Ну, ё-мое!
– Что за дела? Пропускай, дурень деревенский!
– Эй, пехота! Пусти – пожрать охота!
– Не задерживай, крыса тыловая!
Стас едва заметно кивнул караульному, благодаря за намек на нерадостные новости, пришпорил скакуна и бодро загарцевал по дороге, всем видом давая понять бойцам, что он в порядке и никакие дурные мысли не пролезли украдкой в душу.
Вояки не любят новостей, потому что за всяким новым следует тяжкий труд, ночные бдения, «болотные марши», а чуть погодя предсказуемые кровь, смерть, потери.
Вести хороши из дому, и то не все. Что хуже, читать письмо о том, что жена не справляется с хозяйством, а жить стало голодно? Меньше знаешь – спокойней спишь.
Отчаяние от того, что не в силах помочь родным, сгубило не одну лихую голову, лишив рассудка и бросив в самое пекло, туда, где выжить помогут только расчет и осторожность.
Радуются солдатики серым конвертам искренне, а вскрывать не спешат. Черт его знает, что там под казенной оберткой? Мало ли какая бяка приключилась? Случается, что после первых приятных строк, как ждут не дождутся любимого, родненького с фронта, нет-нет да и вылезет гадючье «не хотели тебе писать, но уж лучше мы, чем кто еще…»
Потому поживший, пообтертый окопной житухой вояка не торопится узнать новое, не дергает почтальона и распоряжения начальства предпочитает узнавать не с вечера, а поутру, чтоб переночевать спокойно с мыслями о том, что завтра будет пусть плохо, но всяк не хуже, чем теперь.
Страх. Не тот, что в атаке, вздергивающий мышцы и вспенивающий кровь, а дробный, тягучий, скользкий и холодный, как гадюка, притаившаяся под подушкой. Именно его ощутил Стас, когда увидел темные окна избы, где квартировала Вера. Что такое? Заболела? В лазарете задержали нежданные дела? Хоть бы так. Надеялся, а внутри уже вовсю бухал набат, который никогда не подводил: беда, брат. Беда. Худо дело.
Сколько раз то ли демон, то ли Ангел Хранитель просыпался именно в тот момент, когда все катилось в тартарары, за минуту до того, как падали изрешеченные подлой пулеметной очередью друзья, и мир скручивался в такую рогожку, после которой не быть ему прежним никогда.
Спешился. Не стал привязывать гнедого. Подошел к низкой грубо сколоченной двери и замер, не решаясь войти. Вздрогнул, как от выстрела в спину, когда сзади донеслось вкрадчивое:
– Вашбродие. Батька Булат. Спирт. Спирт принес вот. Такое дело…
Недоумевая от фамильярного обращения, обернулся и окинул тяжелым взглядом притихшего, оробевшего от собственной наглости Войцеха.
– Спирт, говоришь? Думаешь, надо?
– Надо, вашбродие! Душу подлечить… И вообще. Не сам, ребята послали. Сходи, говорят, к ротмистру, худо ему, наверное. Всякое такое бывает. Война.
Захолонуло в груди, а к горлу подкатила противная тошнота. Стас понял, что вот оно, непоправимое, тут – на пороге. Ухватиться бы за мгновение, когда ничего не знаешь, а лучше – откатить время на день назад, когда все еще с большего было хорошо. Ротмистра качнуло слегка, он выдохнул и обвалился, сел на крыльцо. Пошарив в нагрудном кармане, извлек на свет божий серебряный портсигар с дарственной надписью «От сослуживцев в честь совместного спасения в битве под Гумбиннене», открыл, да так и замер, задумчиво рассматривая ровненькие ряды тонких папиросок.
– Что с Верой? Не тяни жилы. Рассказывай.
– Ой. Так вам не доложили? Как же так?! Ексель-моксель! Как же? Чего я? Я ж думал, вы знаете… Подставили, суки!
– Говори! – вскипев, гаркнул Стас.
– Такое дело. Вы в разъезд, а на другой день, да, точно, на другой, эта история и завертелась.
– Смерти своей хочешь?! С Верой что?!
– Так второй день. Как схоронили. Там. С краю кладбища. Лежит.
Подтверждение нехорошим предчувствиям было получено, но облегчения не принесло. Стас свесил голову на грудь и закрыл лицо обветренными опухшими ладонями, пытаясь как-то уместить в себе нежданно свалившееся горе.
Войцех, сопереживая, хотел погладить командира по спине, но, так и не решившись, отдернул руку и протянул ротмистру зеленоватую бутыль с жидкостью. Стас отхлебнул, не поморщился, отрешенно и сухо просипел:
– Рассказывай.
– Так получилось, что не взяли вы, вашбродие, меня на новое задание по причине моей хворобы. Чирьи проклятые, что им пусто было. Ну, я, это самое, кажное утро, как Вера Петровна наказала, заходил в лазарет, чтоб оне поменяли мне повязку и вскрыли, чего там выпучилось новое. Спасу нет, право слово. Боли такие, что света божьего не вижу, что нарвало – болит, что заживает – чешется. К чему это я? Ага. Только вы уехали, на следующий день захожу, а на медсестре нашей лица нет. Но, дело женское, может, скучать изволят по вашему бродию… Одним словом, не обратил внимания. Тем паче, что когда свои болячки одолевают, до чужих переживаний человек становится глух и неотзывчив. Но все одно отметил про себя, что сестричка наша сегодня «не ах» и что-сь сурьезное ейное сердчишко гложет. Во-о-от…
По ночи ворочался, спать нет никакой возможности, ни на животе, ни на спине, везде эта сыпь, зараза. Как ни повернись, зудит, зараза. В таком разваленном состоянии и вышел во двор поссать, как водится, и перекурить физическое страдание свое. Одну высмолил, там другую, вроде спать хочется, а знаю, что опять, как ни повернись, облегчения нету. Сижу, перекуриваю это дело, как слышу тихонько так «а-а-а… а-а-а-а». Вроде как ребеночек плачет, вашбродие, истинный крест. Из суседнего дома звук, отсель, где мы с вами сейчас сидим, значится. Заинтересовало меня такое событие, что я даже про свою чесотку думать забыл.
Етить-матить! Кто ж там плачет в ночи? Откуда дитя? По любопытству своему не выдержал, заглянул в ваш двор. Гляжу, сестра милосердия Вера Петровна, значит, сидит на крыльце, прям совсем как вы сейчас, и воет-воет… тоненько так, как дитенок, прям слово. И плечики эти худенькие трясутся. Мелко так. Жалостливая картина, я вам скажу. Эт когда баба притворяется, то ее слезы что вода, зрелище глупое и совершенно бессмысленное. А тута… вижу, человек плачет по делу. Бяда с ним приключилась али горе, факт.
Ну, я не будь робок, нарисовался из ночи. Думаю, бабу супокоить надо бы, и по ходу дела мазь про мои чирьи поспрошать. Ну, раз так совпало. Вот.
«Уважаемая наша, Вера Петровна, – говорю. – Прошу прощения, что подслушал ваши личные рыдания, но не убивайтесь уж так, потому смею вам заявить, что все пройдеть прахом и слеза наши и радости, ибо это даже в священном писании так сказано».
А она пуще прежнего… Вот, думаю, незадача на мою голову. Мало мне проблем телесного плана, так на тебе, приходится лезть в чужую душу, которая, как известно, потемки.
Долго ли, коротко. Разговорились. А беда у бабы, кривить душой не стану, приключилася знатная. Прошу прощения, вашбродие, может, слишком подробно? Есть грех, язык мой – враг мой.
– Говори. Не рви душу.
– Ну, добро. Оказалось, прошлой ночью постучался к ней полковничий выкормыш, который адъютант, Алешенька. Открой, мол, раненый я. Не сообразила, дурочка, какие такие могут быть раны при штабе? Разве что перо себе глаз засунет задремавши. Но вы ж знаете Веру Петровну лучше меня. Святой человек. Ей помочь кому, что воды в жару напиться, за счастье было… Всполошилася, открывает, а тот – пьяный, с бутылью шампани под мышкой: «Мадам, прошу излечить раны душевные. Сохну по вам, мочи нет, дозвольте объясниться». Вера Петровна – женщина строгая, не будь дура, казала ему на выход: «вы пьяны, и все такое, проспитесь и забудем этот случай». Но скотина есть скотина, хоть ты его в форму обряди и аксельбанты навесь. Включил, крысеныш, аллюр «три креста», попробовал нахрапом, значит. Ну и схлопотал по дворянской наглой роже. Что там дальше между ними было, не знаю. Постыдилася наша Вера Петровна такое рассказывать, но, судя по печали ейной, ничего хорошего. Только хвастался сучонок по пьяни, что получил он от Веры Петровны полную капитуляцию. Слух такой быстро по полчку расползся.
Сестричка же мне сказала, что крышу у барина ветром сдуло. Был человек, а стал зверь.
При этих своих словах опять заплакала так, что и мне о болячках своих забылось, а душу так прямо всю схолонуло! Как я, говорит, после такого срама в глаза Станиславу Ивановичу смотреть буду?
А я так сказал: «Смотри честно! Нету в том твоей вины! Пусть офицерик зенки свои паршивые прячет! Всем ребятам расскажу. После таких дел шальную пулю прямо в постели схлопочет! Правда подонку должна быть! И отмщение!»
Задрожала, голубка, всем телом. Молчи! Не хочу, что б через меня кому зло было! Сама открыла, сама и виновата. Вот.
А на следующий день… Буравкин пошел подальше погадить в березняке. Глядь, а наша Вера возле березки стоит, головка так набок склонена, белая вся, как снег. Он не понял, подслеповат малость, чего такое? Присмотрелся, говорит, а ножки-то ейные до земли сантиметров десять не достают… Вот как над собой решила, дуреха… Душу свою вечную в самое пекло, – голос Войцеха предательски задрожал, он выдернул бутыль из побелевших рук Стаса, опрокинул узкое горлышко в рот, глотнул, закашлялся, захрипел и неожиданно для самого себя от души разрыдался, причитая совсем по-бабьи, не стесняясь полившихся ручьем слез.
– Как же так, а, батька Булат?! Почему! Где правда на свете? Это ж ангел был в нашем навозе! Она ж косо ни на кого не посмотрела… Эх, сука-жизнь!
Зашумела прихлынувшая к вискам кровь. Стас смотрел, как сгущается пространство перед глазами, закручиваясь в лихие спирали. В ушах звенело, а внутри, словно по чьей-то незримой команде, вспучивался огромный черный нарыв. Он начал расти, пожирая все доброе, превращая волю, сердце, память в один гнойный очаг боли. Булат с ужасом вглядывался в бездну, разверзшуюся в душе, остатками рассудка понимая, что все: случилось, он умер. Не воскреснет прежний Стась Вашкевич: не он, а Булат выкупался в огне, закаляясь и располагаясь по праву сильного в завоеванном месте. Война поглотила прошлый характер, кристаллизовала его замысловатыми стальными узорами. И этот новый жилец не понравился спрятавшемуся в тень прежнему Стасу. Был он сейчас жесток, расчетлив и яростен, как зверь, которого загнали в угол.
…Вдруг перед глазами вспыхнуло. Световое пятно закрутилось в черный смерч, и он потащил, потянул куда-то вверх, накачивая силой ненависти каждую клеточку вспенивающегося яростью мозга. Стас так и не понял, как оказался в расположении штаба. Мелькнула картинка: сверкнувшее лезвие шашки отражается в огромных, расширившихся от испуга зрачках адъютанта Алешеньки. Взмах! И… Вот он плавно, словно нехотя, медленно разваливается пополам. Ползут, вываливаясь наружу, змеиные клубки сизых кишок, а часть разрубленной головы, задорно улыбается, высунув раздвоившийся вдруг влажный язык. Черная кровь, пульсируя, взрывается липким фонтаном, забрызгивая дощатый потолок. Облегчение… Прекрасное зрелище! Стас вдруг с ужасом понял, что этот новый, поселившийся в нем, хочет жрать плоть врага, жаждет вываляться в его слизи и дерьме и орать в исступлении небесам: «Ты этого хотел?! Ты меня сотворил?! Вот он я! Я!!! Я тут решаю!»
… – Чего молчишь, Булат? Мы, люди забитые, понятно, не такое проглатывали от ихнего брата. Но ты?! Батька, неужто и ты попустишь падле? Шашка чего на боку болтается? Неужто для красоты? Идем! Забьем нелюдя! Чем могу, подмогу!
Неимоверным усилием Стас стряхнул нахлынувшее наваждение, скрутил, сжал до невозможности, подавил проснувшегося дьявола, загоняя того в места прежней лежки. Каким-то чудом воспрял из небытия не то что бы прежним, но все же собой. Демон скрутился клубком и уснул до «лучших» времен.
– Знаешь, братка, как немец своим расчетом такие горячие головы, как у тебя, на колья нанизывает?
Часто такое случается, глядишь, колючки три ряда, пулеметные гнезда, рвы с водой – все говорит, не суйся туда, ищи место попроще, как к неприятелю подобраться. Да… Начинаешь нюхать, чего, как, откуда бы. Разведка докладывает: все пучком, в самом тылу – овражек, неприметный, весь кустом оброс, самое то, чтобы проникнуть.
– Знамо дело, не в голом поле, – все укрытие. Тудой и надобно, ночной порой желательно.
– Вот! Сколько таких умных по таким овражкам уютным полегло, что и не сосчитать. Немцы не дурнее нас, из такого и надобно исходить. Не знают они, что в обороне такая вот прореха? Знают, лучше тебя знают. И ждут не дождутся, что б ты через лаз этот укромный людей повел. А задача стоит, ее выполнять надо… Вот и лезут лихие головы на мины, да на пулеметные расчеты, что замаскированы аккурат под теми же укромными кустами. Умный командир быстро такое смекает, опыт есть у него, часто кровавый. И в ловушку, какая она б заманчивая ни была, сам не полезет и другим отсоветует. Лучше уж под световыми ракетами три ряда проволоки резать, чем напрямую в подготовленное пекло лезть. Смекаешь?
– Ну. Так аккуратно, если что б никто не увидал. Прихлопнули гаденыша – и в воду?
– Спасибо. Но нет. Кое-кто только и ждет чего-то такого. Прямо в овраге. Надо ему, чтоб ротмистр Булатов рассудок потерял. Нет, не дождется. Всему свое время, не будем спешить, брат Войцех. Месть – такое блюдо, чем холодней, тем слаще. Говорят, ты в солдатском комитете состоишь?
– При чем тут? Брехня все это. За такие дела – трибунал. Не правда ваша. Откуда такое?
– Слухи, мать их… Сведи меня с ребятами. Дело есть.
– Серьезное?
– Как обычно. Или голова в кустах, или грудь в крестах.
– Ну, раз так, поспрошаю. Выпьем?
– Нет.
* * *Долго ехали, часа три, не меньше. Обоз с награбленным еле тянулся, петляя по узким, поросшим еловником, полузабытым лесным дорожкам. Приваленный хабаром Сергей, всю дорогу пытался ослабить узел, намертво стянувший запястья, но тщетно. Лежащая рядом Мира отрешенно смотрела в небо. Казалось, что ее никак не касаются и это неожиданное пленение, и поездка в логово хозяина разгульной банды.
Очень тихо, чтобы не злить маячащих рядом хмурых всадников, Сергей со всей злостью вынужденного бессилия отчитывал Миру:
– Какого эфиопа? Зачем ты поперлась? Видела же, увожу! Сам бы справился с этими гавриками, а теперь? Что прикажешь делать?
– Марута, ты в самом деле такой дурак, каким хочешь казаться?
– Не понял. Серьезно считаешь себя правой?
– Вспоминай. На кого надо выйти в этих твоих богом забытых едренях? У кого касса? Кто организует нам переход на линию фронта? А?
– При чем тут это? Сейчас задницу спасать надо, а я не могу придумать, как!
– Так я тебе напомню. Доктор Беськов – контакт. Вспоминай, с кем твой Яшка, то есть товарищ Гвоздев, с каторги бежал.
– Да хоть с чертом на метле! Не о том думаешь!
– О том! Доктор Беськов, по партийной кличке Бес. К кому нас везут твои новые друзья?
– Хм… мало ли бесов в округе.
– Человек с криминальными связами, с большими средствами (откуда, спрашивается?) по имени Бес стерпит, чтобы какой-то урка в этих местах порочил его честную кличку? Вряд ли. Если только этот бандит и наш доктор не одно и то же лицо. Или морда, как тебе будет угодно.
– Фигасе, заявочка…
Сергей задумался, поворочался слегка, чем вызвал суровый взгляд трущегося рядом с телегой всадника. Мужик с длинными русыми усами нахмурился и показал плетеную нагайку: тут шалить не надо.
– Дядька, – подобострастно улыбнулся Сергей, – подскажи, а долго ли еще до доктора Беськова ехать? До ветру охота, мочи нет!
– А не твое собачье дело, сынку. Дуй в штаны, коли приперло. Приедем до него, тогда и узнаешь. Совет тебе дам, хлебало свое любопытное прикрой. Не ровен час, перепояшу, плакать будешь.
– Воля ваша, дядька, – притворно вздохнул Марута и перекинулся с Мирой удивленным взглядом.
* * *Рубашка сзади не топорщится? Пятен нет? Можно каплю твоей кёльнской воды?
Мишка от удивления чуть не подавился надкушенным яблоком.
– Зубенко, тебя какая муха укусила? Ты ж брюки не гладишь из принципа, по какому поводу марафет?
– Много вопросов! Как говорил Гёте, во многих знаниях лежит много горя.
– Печали, Костя, печали! Ветхий завет, какой Гете?
– Значит, он слизал с Ветхого! – Зубенко привстал на цыпочки, чтобы его мелкая фигурка влезла в овал зеркальной дверцы шкафа. – Много будешь знать, скоро состаришься. – Костя пригладил ладошкой набриаллиантиненный чуб. Красавчик! – Ну же!? Не слышу восхищения.
– Похож на полового в хорошем заведении, – равнодушно заметил Мишка и вновь уткнулся в раскрытую книгу.
– Что?! На кого? Это ты мне?! Сам обезьяна! Съел?! – Зубенко вытаращил глазки, сжал кулачки и пошел красными пятнами.
– Был не прав. Ты на свете всех милее, всех румяней и белее, – за год совместного проживания Мишка навострился в зародыше гасить истерики ранимого товарища.
– Серьезно?
– А то!
– Ну, ладно… Смотри, если подтруниваешь, то я бью два раза…

