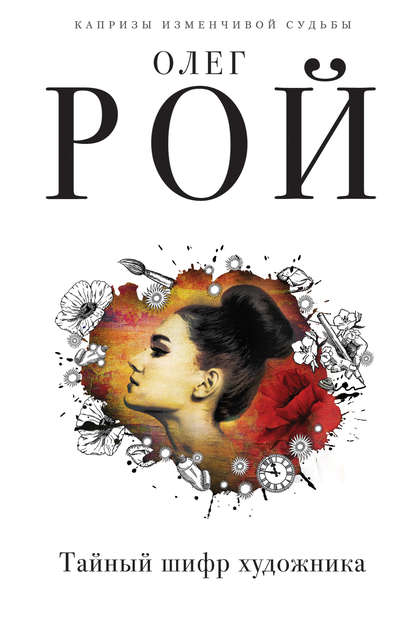По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Тайный шифр художника
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Гвир – он и есть Гвир, – усмехнулся Угрюмый и, встретив мой непонимающий взгляд, объяснил:
– Погоняло у него такое.
И неожиданно добавил:
– Хорошо братва прикинулась, и только мне негде главу приклонить…
Я отвел глаза. С моей точки зрения, жалобы в духе «всем хорошо, я один бедная сирота» в устах человека, который, похоже, деньги вообще не считал, выглядели как-то странно. Впрочем, я ни на минуту не забывал, что это не мое дело.
– А как там Лом поживает? – поинтересовался Угрюмый после долгой паузы.
– Если вы имеете в виду Мякушкина Николая Степановича… – начал я, чувствуя, что уже совсем «плыву» от жары и влажности.
– Грек, хорош мне выкать уже, мы с тобой не у кума на хате. – Угрюмый махнул в мою сторону рукой. – Ты хоть и фраер, но карта так легла, что мы в одной лодке. Так что веди себя по-пацански, заметано?
Я кивнул:
– Мякушкин живет на Урале, недалеко от Свердловска. Вроде как фермерствует.
– Это на Лома похоже, – кивнул Угрюмый. – Мужик – он и есть мужик. А Тихий, могу забиться на что угодно, в попы подался.
– В точку, – сказал я. – Только не в попы, а в монахи.
– Разве не один черт? – удивился Угрюмый.
– Попы, как правило, живут в миру, – ответил я. – И в церкви служат. А Куликов Владлен Макарович, в схиме отец Тихон, живет в Тихвинском монастыре. Правда, официально это не монастырь, церкви его не передали пока…
Угрюмый присвистнул:
– Ишь ты, в Тихвинском… Земля, выходит, не только круглая, но и маленькая. И подумать только, даже в церкви погоняло не поменял. Точнее… – Он хмыкнул. – Ладно. Ты на бумагу-то мне это все, надеюсь, расписал?
– А то, – кивнул я. – Первым делом. Ксерокса, правда, в ментовке не было, ну, в смысле, он там есть, конечно, но мало ли, могли заметить, что я что-то не то копирую. Пришлось от руки данные записывать, а адреса я потом по своим архивным каналам добыл. В Питер запрос посылал, они ответили, ну я сразу и…
– Меня ты тоже срисовал? – перебил меня Угрюмый, причем таким равнодушным тоном, каким спрашивают, не идет ли дождь.
Я посмотрел ему прямо в глаза и кивнул:
– Конечно. А ты сделал бы по-другому?
Он расплылся в улыбке – кажется, моя откровенность ему понравилась:
– Я что, похож на лоха? – Он с видимым удовольствием поводил плечами, точно разминая затекшие мышцы. – Ладно, Грек, не парься. Ну знаешь ты, что меня по паспорту величают как сталинского папашку, и что с того? Ну ходки мои прозвонил, да? Так мне их не западло показать. Я, братишка, хоть и не вор, да законник. Меня сам Мазай, как откинулся, смотрящим назначил. Эх, знал бы ты, как тогда блатные завыли, вертухаевским овчаркам завидно стало… – Угрюмый чуть прихмурился, посерьезнел. – Хороший вор был Мазай, правильный. Царство ему небесное. Несправедливо все-таки… – Тут он взглянул на меня повнимательнее. – Блин, да ты уж спекся! Красный как рак, и глаза мутные. Ну-ка бегом в бассейн, пока не хлопнулся тут!
И потащил меня в бассейн.
Прохладная вода показалась мне настоящим счастьем. «Почему люди не летают, как птицы?» – какая глупость! Почему люди не плавают, как дельфины? Вот так было бы правильно. Легко, спокойно… Я блаженствовал в голубой, отчего-то почти не пахнущей хлоркой воде, а рядом, отфыркиваясь, как тюлень, плавал Угрюмый.
Несмотря на выходной день, точнее вечер, народу в Сандунах было немного. Наплескавшись, мы причалили у бортика, где под водой торчала удобная ступенька, на которой мы и устроились. Угрюмый жестом подозвал суетившегося неподалеку кругленького мужичка с гладкой и сверкающей, как зеркало, лысиной, в которой отражались роскошные люстры:
– Тебя как кличут-то?
– Анатолием, – услужливо откликнулся лысенький и сразу заблестел глазками, почуяв жирного клиента.
– Толян, стало быть. И что тут, Толян, можно изобразить из пива? – осведомился Угрюмый. Толян начал перечислять, и мой спутник велел принести темного чешского. Лысенького как ветром сдуло.
– Лаврентий Палыч Берия вышел из доверия, – а товарищ Маленков надавал ему пинков, – продекламировал вдруг Угрюмый. – Знаешь, сейчас стало модно ругать Иосифа Виссарионовича… Но, поверь, по сравнению с Никиткой он невинный младенец, век воли не видать. Какую тот мясорубку устроил, когда к власти пришел! Мой папашка в эту мясорубку угодил, как говорится, по самую маковку. Следак особого следственного управления, что ты хочешь…
Толян принес пиво, почти ледяное, в наглухо запотевших кружках.
В мягком покачивании воды было что-то убаюкивающее, но я сидел как на иголках – хотелось услышать продолжение истории. Я был почти уверен, что оно будет, и одновременно боялся спугнуть. Очки я оставил в раздевалке, и лицо Угрюмого виделось размытым, как будто мы все еще сидели в парилке.
Сделав глоток, он раздумчиво, точно обращался не ко мне, а куда-то вверх, продолжил:
– Я тогда только-только спецшколу НКВД закончил. Это как суворовское училище, только еще «суворее», как моя бабка выражалась. Никто на мелкость нашу – детишки ведь совсем – скидок не делал. А нам и не надо было, мы прям счастливы были, что нас так строят, каждый из нас, орлят бериевских, хотел стать чекистом… Ну знаешь, «гвозди бы делать из этих людей…» Мы другого будущего для себя не видели. Да вот обломалась нам всем малина… Хотя, может, и не всем.
Он кинул на меня быстрый взгляд поверх кружки и, видимо, прочел на моем лице достаточную степень заинтересованности, поскольку продолжил:
– Короче, положили Иосифа Виссарионовича в Мавзолей, и Хрущ, он ведь Берию до дрожи в коленках боялся, стал всех, кто возле Лаврентия Палыча, частой метлой мести. Папашу моего одним из первых забрали, прям со службы. Как раз накануне моего дня рождения – восемнадцать мне стукнуло. А как-то вечером и к нам на квартиру нагрянули. Отвели меня под белы рученьки на Лубянку и ну прессовать: дашь правильные показания на папашу своего, который под наше государство вместе с Берией подкоп готовил, – будет тебе школа жизни имени Дзержинского. Ну а коли не сдашь, не серчай: нарисуем тебе красивое дело, полетишь красноперкой на строгач…
– Что это значит? – не понял я. Угрюмый невесело усмехнулся:
– А то и значит, что на зоне секретов нет. Каждая свинья будет знать, что я мент… Ну почти что мент, там такие тонкости всем без разницы. На зоне строгого режима такой факт автобиографии – считай, смертный приговор. И нескольких дней можно не протянуть… Но я молчал, как Олег Кошевой на фашистком допросе. Тогда они меня ради профилактики сунули в камеру к блатным. И намекнули, наверное, слегка – кто я есть и из какой семьи, думали, что те меня сразу запрессуют. Если до смерти не изувечат, бери меня после такого пресса тепленьким, и не такие орлята ломались…
Он отхлебнул пива, и его лицо стало жестким, по-настоящему угрюмым.
– С… суки, – процедил он сквозь зубы. – Гестаповцы доморощенные. Если бы не Мамазян, мне тогда бы точно деревянный макинтош надели. Или в овощ бы превратили, невелика премудрость. Но тут Гарик Суренович вмешался. Не знаю, чем я ему так приглянулся, но именно он про «сын за отца не отвечает» напомнил… А если вор в законе говорит, что ты не красноперый, то с тебя и взятки гладки…
Угрюмый отвернулся и хлебнул еще пива. Я пока только пригубил, хотя пиво было знатное.
– В жизни такие дни бывают, – продолжил Угрюмый, – умирать будешь, хрен забудешь. Вот и тот вечер помню так, будто вчера все было. Камера маленькая, три на два, народу в ней человек двадцать набито. Мазай дрых, только пятки босые торчали, а ко мне сразу несколько амбалов лыжи нарезали. Какие мне предъявы кидали, сейчас убей – не скажу, все за красноперость, мол, легавкой на хазе потянуло. Я сразу срисовал, откуда ветер дует и о чем свистит: о том, что хана, что умолять станешь, чтоб по-быстрому прирезали. Но даже крыса, если в углу зажать, огрызается так, что мама не горюй. А я все ж не крыса был, а целый волчонок. Ну и учили нас в спецшколе кой-чему из того, что обычным пионэрам, – он так и сказал «пионэрам», да еще и «э» протянул, – не преподают. Так что двоих качественно приложить успел, пока меня упаковали. Ну тут уж мысленно со всеми попрощался, мамину фотку к груди прижал, калачиком свернулся на цементном полу и приготовился к встрече с райскими вертухаями. Только и просил Всевышнего, хоть и неверующий был, чтоб побыстрее. Что пресмыкаться заставят – вот чего я пуще смерти боялся. И вдруг слышу над собой голос. Мощный такой, гортанный немного, с кавказским акцентом: «А ну, сдали назад, что за кипеж тут развели?»
Ему объясняют, что красноперку, мол, чистим. А он им: «Да какой из него легавый? Он же пацан совсем!»
Я к тому моменту из клубочка-то подразвернулся и глаза кое-как разлепил – отоварили-то меня крепко. Гляжу – стоит посреди камеры хмырь, чьи голые пятки только что торчали, по виду и говору – грузин или армянин. А те, что меня мутузили, перед ним чисто как школьники перед директором, только и того, что без галстуков. Он им как раз слова вождя-то и помянул – у нас, мол, сын за отца не отвечает. Они и заткнулись. Тут выполз еще один мужичонка – худой, как скелет, кожа цветом в чифирь, хотя я тогда про чифирь без понятия был. Этот меня не гнул, наблюдал только. Тоже, видать, законник, но это уж я после все просчитал, а тогда только глядел. Прокашлялся он и говорит: «Что, Мазай, впишешься за фраерка красноперого?»
Тот на него зыркнул, ощерился – едва-едва, но матерому-то волчаре кончик зуба показать достаточно. «Впишусь, – и оглядел всех, точно пересчитал. – Вот вам мое варнацкое слово: мелкопузый у меня на подписке, кто на него наедет, считай, на меня наехал».
«Да на кой он тебе, Мазай?» – спрашивает тот мужичонка.
А Мазай ему и отвечает: «Танкиста себе из него сделаю. Видал, как он этих штемпов грамотно прописал? Отвечаю, правильный будет танкист». И поманил меня пальцем: «Эй, мелкопузый, канай до моих нар, будем тебя на понятия натаскивать…»
– Что еще за «танкист» такой? – поинтересовался я, интуитивно понимая, что задавать такой вопрос можно – будь это что-то постыдное, Угрюмый не стал бы мне рассказывать. И оказался прав.
– Что-то вроде телохранителя, – объяснил мой собеседник. – Боец, в общем. А ты чего пиво-то не пьешь? Не поперло?
– Заслушался, – искренне отвечал я, послушно отхлебывая из кружки.
Рассказчик усмехнулся, помолчал и снова продолжил после паузы.