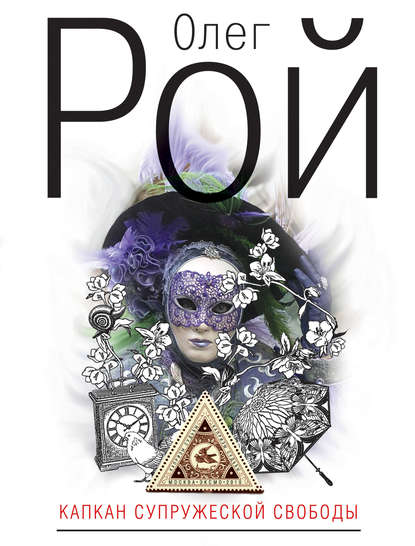По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Капкан супружеской свободы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да? Для нас?.. – иронично подцепила его собеседница на невольной двусмысленности. – В таком случае, конечно, не опоздаю.
И – гулкие, короткие, как недосказанное, оборвавшееся слово, гудки в трубке.
Он, задержавшись на одно ненужное мгновение, положил трубку на рычаг и только теперь заметил, что все время разговора крутил в руках старинную серебряную рамку, из которой с большой черно-белой фотографии – Алексей не признавал цветных пленок, они казались ему раскрашенными лубками – ему улыбалось счастливое, молодое, почти совершенное по чеканности рисунка лицо дочери. Татка была больше похожа на него, чем на мать; она была не просто хорошенькой – в ней ощущались благородство, порода, чистота линий: все то, что люди знающие ценят превыше обычной миловидности, а иногда и превыше красоты. Наверное, княжеская кровь сказывается, усмехнулся про себя Алексей и бережно поставил портрет на место, на одну из полочек деревянного секретера – древнего, резного, с полным письменным прибором на столешнице, – который так аккуратно вписался в их гостиную. Этот секретер, да серебряная рамка для фото, да несколько живописных подлинников известных русских художников, да тонкая связка писем и дневниковых записей, перехваченных узкой розовой ленточкой, – вот и все, что осталось ему от бабушки, которой он никогда не видел и о которой почти никогда не вспоминал. Это – и еще запутанная, темная история, пронизанная страстью, ненавистью, разлукой. История, притягивающая его своим драматизмом и отталкивающая слишком запутанной фабулой, в хитросплетениях которой ему никогда не хватало любви и терпения разобраться…
Часы в гостиной пробили два, и Алексей лениво подумал, что надо бы наконец уснуть. Но ему не спалось, и он снова и снова бродил по квартире, как сомнамбула, нервно втягивая ноздрями последние запахи, последние флюиды, еще говорящие о присутствии жены и дочери. Его взгляд то скользил по строгой и классической в своей изысканной простоте мебели гостиной (обставляя дом в соответствии со своими вкусами и пожеланиями Ксении, он лишний раз убедился, насколько больших денег стоит такая вот простота), то цеплялся за любимые литографии и рисунки на стенах – эскизы к его постановкам, зарисовки различных сцен спектаклей, дружеские шаржи на актеров театра, – то прикипал к брошенной на уютное кресло Таткиной блузке или позабытому женой мягкому халатику. Все в доме сейчас выдавало поспешность женских сборов, многие вещи оказались не на своих местах, и обычно в таких ситуациях Алексей всегда успевал перед собственным отъездом привести квартиру в порядок. Именно так он намеревался поступить и в этот раз – он собирался сделать это завтра, в воскресенье, – но почему-то нечаянно поймал себя на мысли, что ему жаль тревожить хаос милых пустяков и случайных небрежностей, так живо напоминающий ему о семье. Пусть все остается как есть, неожиданно для себя решил он. С удовольствием поживу потом недельку среди этих брошенных, родных и знакомых вещей. А вернутся девчонки – и уберем все вместе. И снова в доме запахнет пончиками, и теплые, сладкие запахи ванильного теста выплеснутся из распахнутых окон, и Наталья непременно зазевается и упустит на плиту кофе, а Ксения, смеясь, будет упрекать ее в безалаберности, и ароматы жилья и жизни перемешаются с их общими воспоминаниями, – а дом оживет и очнется от нынешней спячки, и все пойдет как прежде.
Воспоминания о Ксюшиной стряпне вдруг пробудили в нем зверский аппетит, и Алексей стремительно ринулся на кухню, торопливо соображая, осталось ли что-нибудь в холодильнике такое, что можно было бы перехватить ночью без особого ущерба для фигуры. Пятый десяток – не шутка!.. Еды оказалось более чем достаточно – Ксения превосходно готовила и всегда старалась перед отъездом снабдить остающегося в городе мужа разнообразными вкусностями, – однако ни крупные ломти запеченной осетрины, ни сырные шарики, ни щедро сдобренный приправами и оливковым маслом салат сейчас не показались ему подходящими для скромной трапезы. В конце концов он заварил в любимом фарфоровом чайнике свежий янтарный чай, поставил посуду на поднос вместе со сливочником и сахарницей и, прихватив воровато пару оставшихся от завтрака пончиков, направился в кабинет.
Он прошел туда через коридор и гостиную, сквозь череду плавных, мягко закругляющихся арок. Во время последнего ремонта ему понравилась современная, непринужденная идея заменить тяжелые скучные двери сквозной и легкой анфиладой дверных проемов. Режиссеру Соколовскому никогда не нужны были полная тишина и уединение, если речь шла о его собственном доме. Напротив – творческий импульс, хорошее рабочее настроение ему придавало одно только сознание, что близкие находятся рядом, одна атмосфера присутствия в квартире жены и дочери. Слишком уж часто они бывали в разлуке – его командировки, их экспедиции, – чтобы еще и добровольно замыкаться в себе, находясь в одном городе. Алексей знал, что многие из его коллег не выносят пустопорожних, по их мнению, бытовых разговоров, пустой семейной болтовни, вообще всякого «фонового» домашнего шума. Он мог понять их – но сам был не таков. Работая в кабинете, он то и дело перекликался с Ксенией, спрашивая ее мнения по тому или иному поводу, радовался, слыша Таткин негромкий разговор по телефону, ощущал себя включенным в заботы жены, время от времени улавливая ее реплики в сторону случайно забредшего в дом аспиранта… Вот и теперь, оказавшись среди ночи в своей «берлоге», как шутя называли кабинет его домашние, он тут же удобно устроился в высоком кожаном кресле, водрузил перед собой на столе поднос, от которого подымался аппетитный чайный дымок, и привычно сфокусировал глаза на еще одной фотографии, на сей раз уже семейной, которая привычно украшала собой его рабочее пространство.
И тут же ему стало тошно от собственного благолепия. Ага, сказал он себе. Примерный муж и семьянин, не успев расстаться с женой и дочерью, не спит ночами и оплакивает недолгую семейную разлуку. А в это время ему звонит любовница и предлагает скрасить его одиночество… Стоп, стоп. Что случилось? Откуда эти смешные угрызения совести?! Или впервые он заводит интрижку на стороне? Или есть причины думать, что на сей раз все немного серьезнее, чем обычно? Или… Да нет же, черт возьми! Все как всегда. Прекрасная семья. Прекрасная любовь. Какого же черта тебе еще надо, Соколовский?..
Впрочем, урезонивая и коря себя за нелепые, елейно-супружеские мысли, Алексей все же чувствовал, что повод для них имеется. Во-первых, странный звонок среди ночи – это так не похоже на Лиду. Ох, будут еще, будут у него основания пожалеть, что не смог поговорить с ней сразу и выяснить все, что ее беспокоит!.. Во-вторых, то, что его сердце екнуло и пропустило положенный удар, когда он услышал в трубке ее голос. А признайтесь-ка, господин режиссер, вам ведь хотелось, чтобы девушка появилась в эту ночь в вашей супружеской спальне, а? То-то. Раньше с вами такого не случалось: Богу всегда отводилось Богово, а кесарю – кесарево. И третье… да, что же третье? Но думать об этом уже настолько не хотелось, воспоминания и ощущения были настолько отталкивающими и бездушно-морозными, что Алексей только поморщился и выкинул все это из головы.
Чтобы успокоиться, он нашел глазами два любимых своих полотна – из тех самых, доставшихся от бабушки-дворянки, – которые украшали теперь стены его кабинета и всегда дарили его душе отдохновение и радость. Одно из них принадлежало кисти кого-то из передвижников (подпись была почти неразборчива, и можно было лишь приблизительно определить стиль и эпоху) и изображало трех барышень, совсем девочек, в легкой и светлой беседке яблоневого сада. Выражение лиц, старинные шляпки и платьица, ажурная зелень листвы над их головой, тихая радость летнего дня – все в картине дышало такой юностью, свежестью, незамутненной невинностью бытия, такой навсегда ушедшей от нас доверчивостью к жизни, что у Алексея всякий раз перехватывало горло, когда он смотрел на нее. Россия, которую мы потеряли… И молодость, которую почти успели позабыть.
Зато другое полотно разительно контрастировало с безмятежной наивностью первого. Соколовский считал эту картину бесценной – и было за что. Подлинник Айвазовского, довольно большой по размерам – художник, как известно, любил крупные формы, – с огромной силой передавал бешенство моря, отчаяние гибнущего в волнах корабля, обреченность хрупкой шлюпки, пытавшейся уцелеть среди разбушевавшейся стихии, и – уже у самого берега – незыблемость и непоколебимость огромной скалы, на вершине которой орел терзал когтями свою жертву… Несмотря на то что картина была перегружена деталями и сюжетными намеками, в ней было столько ярости, столько чувства, столько безнадежности и – одновременно – последней надежды, что она никого не могла оставить равнодушным. Понимая это и безмерно гордясь своим раритетом, Алексей повесил картину так, что она прекрасно просматривалась сквозь арку и из гостиной, и даже из коридора – самое яркое пятно в их доме, самый громкий призыв к борьбе и самый – ох, если бы Соколовский только мог догадываться об этом! – самый последний его шанс на спасение…
Однако сейчас он не смотрел на Айвазовского. Ему вполне достаточно было нежных, передвижнических, почти тургеневских барышень. Чай оказался еще крепок и горяч – как он любил, ночь темна и спокойна, тиканье часов было мерным и успокаивающим, и Алексей наконец почувствовал, что этот день действительно кончился. Он прошелся мимо полок с любимыми книгами, раздумывая, не прихватить ли все же какую-нибудь из них в постель, тронул рукой пару статуэток, пристроенных сюда Таткой, обвел глазами ворох милых, добрых и, в общем-то, ненужных ему в кабинете вещей, которыми старались украсить его рабочее пространство жена и дочь, и решительно направился к спальне. Глаза слипались уже по-настоящему; он, собственно, и сам не понимал, что заставляет его изо всех сил цепляться за эту, такую обычную субботу, не давая ей навсегда кануть в небытие. Успев еще спросонья налететь на старую верную Эрику Иванну (так в доме называли его пишущую машинку, на которой он работал, никак не желая поменять ее на пылящийся в углу, навороченный, подаренный какими-то спонсорами компьютер), Алексей наконец добрался до кровати и рухнул на нее, как был, не раздеваясь. Последним, что пронеслось в его сонном мозгу, был голос дочери, услышанный словно наяву: «Пап, пиши всегда на Эрике Иванне! Я так люблю возвращаться домой и слышать твое ворчливое постукивание. Сразу поднимается настроение и хочется самой сделать что-нибудь стоящее… Ты не бросай ее, папка, ладно?» Ладно-ладно, уже во сне проворчал Соколовский. Он и помыслить себе не мог, чтобы писать на компьютере: не доверял современной технике, не мог избавиться от мысли, что достаточно одного неверного движения курсором – и стертым окажется что-то важное, пропадет мысль, испарится вдохновение… Татка сидела в гостиной, в кресле, держа на коленях раскрытую книгу, и наблюдала за ним, работающим, в проем арки. У Татки были глаза девочки с картины передвижника и такая же, как у нее, шляпка… И, улыбаясь дочери облегченно и радостно, Алексей наконец окончательно провалился в сон, в котором не было на сей раз ничего тяжелого или холодного.
Глава 3
Рейс Москва – Венеция задерживался на целый час. Прихватив в маленьком кафетерии уютного зала вылета пиво для себя и кофе для Лиды (что поделаешь, зеленого чая здесь не предлагали), Алексей устроился в новеньких креслах свежеиспеченного международного аэропорта в Домодедове и попытался мысленно еще раз «прогнать» в памяти весь спектакль, чтобы нащупать самые слабые его места и, может быть, придумать, как их исправить. Неторопливо потягивая ледяной пенный напиток из своей кружки, перебирая в голове реплики пьесы, он отсутствующим взглядом скользил по ребятам из труппы, собравшимся рядом с ним в оживленный кружок, видя и не видя их, думая о своем. Он смог в этот раз взять с собой пятерых, только пятерых – но зато лучших из лучших, самых крепких его профессионалов, прирожденных актеров, чувствующих и работающих в унисон с ним. Помимо него самого и ребят, занятых в «Зонтике», здесь были также Володя Демичев (помощник режиссера, правая рука Соколовского, без которого он не мыслил себе никаких переговоров, никаких деловых или административных контактов) и супружеская чета Лариных – отличных характерных артистов, которые в связке с лирическим амплуа Ивана и Лиды образовывали мини-труппу, способную «поднять» практически любую пьесу. У Лены Лариной, правда, был отвратительный склочный характер, а Леонид в последнее время слишком уж увлекался спиртным, раздобрел и обрюзг, стал терять сценическую хватку, и режиссер не раз пытался поговорить с ним с позиций и начальника, и друга, прекрасно сознавая при этом всю тщетность своих попыток. И все же совместный творческий потенциал Лариных был настолько велик, что с этими недостатками приходилось мириться.
Сейчас все они собрались рядом с Алексеем, бурно жестикулируя и обмениваясь последними новостями и сплетнями. Настроение у труппы было приподнятое, как почти всегда перед гастролями: впереди лежала неизвестность, незнакомая публика готовилась освистать или же прославить их, и эта творческая неопределенность будоражила нервы и щекотала актерское самолюбие. А то, что предстоящее им испытание будет проходить в декорациях прекрасной и древней страны, делало поездку еще более притягательной для них.
– Италия, ребята!.. Я давно хотел побывать там, – невольно вслушивался Соколовский в легкий, необременительный треп его соратников. – Представьте себе только: «капуччино», «синьорина» и прочие там «аморе»…
– Не просто Италия, балбес, а сама Венеция! – беззлобно, хотя и грубовато поддел Ивана Леня Ларин. – А что касается «аморе», так на это у тебя времени там не останется. Сначала Соколовский запряжет на репетициях с утра до ночи, потом спектакли, переговоры о новых постановках, потом еще всякие там протокольные фестивальные мероприятия… Скажи спасибо, если успеешь город посмотреть да пару раз в море искупаться.
– Насчет искупаться – не советую, – с видом знатока заявила его жена. Тонкая до неправдоподобия, с узкими и удлиненными пропорциями тела, со змеиной пластикой, эта женщина была одновременно и привлекательна, и нехороша собой, как это бывает с опасными хищниками и двуличными, но притягательными в своей изменчивости людьми. – Официально купальный сезон в Италии начинается только с первого июня, а сейчас вода еще холодная. В отелях народу мало, пляжи пустые… Уж мы-то точно это знаем, да, Ленчик?
Стараясь всеми силами показать, какими опытными путешественниками по заграничным курортам они с мужем являются, Лена, пожалуй, немного перегнула палку, и первым на это веселой усмешкой отреагировал помреж Володя. Соколовский знал и ценил его умение мягко ставить на место зарвавшегося собеседника и теперь с удовольствием ожидал его встречной реплики. Однако в разговор вмешалась внезапно появившаяся Лида, которая на несколько минут отходила «попудрить носик» – ее умение называть не слишком изящные вещи милыми и пикантными именами немало импонировало Алексею.
– Да ладно вам, ребята. И Италию посмотрим, и призы сорвем, и насчет «аморе» не подкачаем. Или мы не молодцы, или мы не русские комедианты?.. Что скажешь, режиссер?
Она подмигнула Алексею, и тот, залюбовавшись поначалу ее стремительной фигуркой и изящной небрежностью каждого движения, тут же невольно рассердился на Лиду за фамильярность. Она никогда прежде не афишировала столь открыто сложившихся между ними неформальных взаимоотношений, и вот пожалуйте вам: Лена Ларина уже скривилась в понимающей ухмылке и бросила мужу нарочито многозначительный взгляд. Что же это такое с девицей случилось, в самом-то деле? Однако актриса явно втягивала его в общий разговор, и на ее вопрос надо было как-то отвечать.
– Скажу, что насчет призов вы, скорее всего, погорячились, Лидия Сергеевна. Желающих, знаете ли, и кроме нас достаточно. А насчет любви, – Алексей намеренно не стал употреблять удалого итальянского термина, который с таким удовольствием произносили его ребята, – насчет любви пусть каждый решает сам. О деле, о деле надо думать, господа актеры! А то болтать-то о победах вы все горазды, а как до работы дойдет… – и он намеренно немного повысил голос, приняв на себя маску отягощенного заботами руководителя и сделав вид, что ему сейчас не до праздного суесловия.
– Получили? – нимало не смутившись, будто отповедь режиссера не имела к ней лично никакого отношения, прищурила яркие синие глаза Лида. – Работать, работать, господа актеры! – и она так удачно передразнила интонацию Соколовского, что маленькая группка дружно расхохоталась, и непринужденные, порхающие реплики вновь понеслись наперерез друг другу в их тесном кружке.
А Лида меж тем незаметно отделилась от друзей и присела рядом с Алексеем, глотнув наконец давно уже принесенный им кофе.
– У, какая гадость, – разочарованно протянула она, отставляя в сторону чашку с остывшей темно-бурой жидкостью. – Мало того, что отрава, да к тому же еще и холодная…
Алексей молчал, выжидая. Лида подавала ему реплику, как партнеру на сцене, но он не хотел подыгрывать ей в неизвестной ему пьесе. В воздухе носилась гроза, что-то непонятное было и в настроении молодой актрисы, и в ее непривычной игривости, и в повышенной нервозности ее поведения, и он чувствовал, что наступает какая-то решительная минута, сложный и, может быть, ненужный ему разговор, от которого, однако, нельзя уклоняться. Он давно допил свое пиво; теперь ему нечем было занять руки, и он подумал с тоской человека, не привыкшего к сценам: «Какая скука!» – и приготовился к худшему. Сейчас он смотрел на любовницу холодно – того требовало его чувство самозащиты, – и холодность эта была вполне непритворной.
Лида тоже помолчала немного, сообразив, что он не станет послушно подавать ей мячи в той игре, которую она затеяла, и наконец – как прыжок в воду – решилась пойти напролом:
– Я хотела с тобой посоветоваться. Дело, видишь ли, не терпит отлагательств…
Подняв бесшабашный взгляд, она ударилась глазами об иронично-отстраненное выражение его лица и споткнулась об это выражение, как о наглухо запертую дверь. Решимость ее мгновенно куда-то улетучилась, и Лида, которую можно было назвать как угодно, но только не глупой, сама уже недоумевала, зачем завела этот разговор перед самой Италией. На самом-то деле она пока явно опережала события, новая ситуация в ее жизни только еще начинала развиваться, и благоразумней было бы пока помолчать, предоставив делу идти своим чередом. Но жадное женское любопытство, стремление поскорее выяснить реакцию Алексея на ее новость заставило ее излишне поторопиться.
Соколовский же, не склонный сейчас помогать ей, все же почувствовал необходимость разорвать неприятную паузу. Чуть поморщившись, он бросил ей снисходительный вопрос, как подачку назойливому попрошайке:
– Посоветоваться – о чем? Я слушаю, слушаю тебя. Не тушуйся, говори, пожалуйста.
Мгновенный прилив злости помог ей выстроить следующую фразу так, как это было бы больше всего неприятно ее режиссеру.
– Меня зовет к себе в труппу… – и она назвала имя прославленного руководителя одного из самых знаменитых московских театров. – Разумеется, речь не идет сразу о ведущих ролях, но то, что он предлагает, несоизмеримо с тем, что я имею у тебя.
У Алексея перехватило дыхание. Потерять Лиду сейчас – прежде всего как актрису, но и как любовницу тоже – вдруг показалось ему невозможно, немыслимо. Но молчать в этот раз было нельзя, и он медленно проговорил:
– Я хорошо вижу, что ты теряешь при этом. Но, извини меня, совсем не вижу, что ты выигрываешь.
– Надеюсь, ты не станешь спорить, что статусы двух театров, о которых идет речь, несопоставимы, – медовым голосом произнесла актриса.
– Но у меня ты играешь главные роли. О тебе говорят в Москве, твоих автографов просят поклонники, ты самая модная актриса молодежной театральной тусовки… И эту известность ты получила благодаря моим спектаклям, не так ли?
Лида усмехнулась. Алексей и сам понимал, как смешно напоминать женщине о собственных благодеяниях, тем более что своей популярностью она все-таки была больше всего обязана собственному таланту. Но такая новость теперь… перед гастролями… когда он сделал на нее ставку, когда ищет спонсоров для новой постановки, рассчитанной прежде всего на ее амплуа… когда уже подобран репертуар для следующего года, который без Лиды рассыплется, словно труха! Черт бы побрал всех этих баб!
– Ты не можешь так поступить со мной, – сказал он еще спокойно, но уже закипая в душе и готовясь дать волю своей ярости, если только она посмеет с ним спорить. Однако девушка спорить не стала, а только вздохнула и сделала еще один глоток из чашки, кофе в которой не стал ни горячее, ни вкуснее за истекшие минуты.
– Самая модная актриса молодежной тусовки… Ты прав, Соколовский, – ее голос, когда она заговорила вновь, прозвучал неожиданно тускло, без выражения, и Алексей почти обрадовался этой нежданной апатии, которая показалась ему признаком того, что Лида готова согласиться с его доводами. – Конечно, прав. Но мне уже… ты помнишь, сколько мне лет, Алеша? О, немного: только двадцать шесть. Но для той молодежной тусовки, о которой ты говоришь, я через пару лет окажусь старовата. И для того чтобы быть звездой экспериментального молодежного театра, – возможно, тоже.
– Ну, только не говори мне, что на новом месте ты собираешься играть старух и вообще мечтаешь остепениться, – ядовито проговорил Соколовский. – И вряд ли новый режиссер сможет дать тебе больше, чем я…
– Он холост, – мягко напомнила Лида. – Я смогу открыто появляться с ним на людях. И он сможет открыто восхищаться мной не только как актрисой, но и как женщиной. Возможно, ты ничего не слышал об этом, но он уже поступает именно так. Вот что он даст мне, Соколовский…
Все, приехали. Этого следовало ожидать. Больше всего на свете Алексею хотелось бы сейчас сказать ей что-нибудь такое, что сразу поставило бы все на свои места и напомнило его любовнице об их негласном уговоре никогда не затрагивать эту тему. С любой другой женщиной он так бы и поступил. Но почему-то сейчас он был оглушен и растерян; он не мог найти нужных слов и почти готов был оправдываться. Лида слишком сильно переплелась в его сознании с его собственным театром; ее успех означал для него успех труппы, ее популярность – известность спектаклей, в которых она участвовала, ее присутствие стало для него символом удачи и радости… И потому он не удивился, когда внезапно услышал свой собственный голос, зовущий к перемирию:
– Ты хочешь о чем-нибудь попросить меня? Подожди, не торопись, быть может, мы найдем выход…
– Я? Попросить? – совершенно искренне и как-то совсем необидно удивилась его собеседница. – Да бог с тобой, Алеша. Это ты всегда просил меня о чем-то, не правда ли? А я никогда ничего не требовала, ни на что не рассчитывала… за это ты и любил меня, верно же?
Она снова помолчала и добавила совсем тихо, как будто не хотела, чтобы он услышал ее:
– Если ты хочешь попросить меня о чем-нибудь, что ж, я готова тебя выслушать. Только поторопись, Соколовский.
– Поторопиться? – пробормотал совсем уже сбитый с толку Алексей, который никак не мог собрать сейчас собственные мысли, предательски разбегавшиеся в разные стороны. – Почему?
– Да вот же, наш рейс объявляют, слышишь? – расхохоталась Лида, точно ни о чем другом они и не разговаривали. – Или ты хочешь опоздать? Ну же, скорее!
И она вскочила с кресел, потянула его за собой, и щебет и гвалт прочих членов труппы закружил и увлек за собой Алексея, и, опомнившись через несколько минут уже на трапе самолета, он сам не мог поверить в то, что Лида действительно хочет бросить его и театр и что весь этот дурацкий разговор ему не приснился там, в удобных креслах аэропорта Домодедово.
* * *