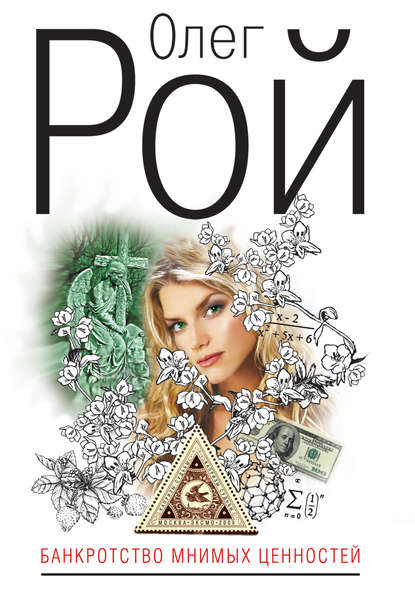По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Банкротство мнимых ценностей
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да, – сказал Женя в пустоту салона, – она была права. Я неудачник, и у меня больше ничего нет. Остался только джип! – Он положил руки на руль, прошелся по его выпуклостям пальцами. Снять автомобиль с тормоза и вырулить на дорогу не позволяли остатки здравого смысла. Не то чтобы он боялся лишиться жизни в аварии – да черт с ней, с такой жизнью! Но от его неосмотрительности могли пострадать другие – а этого Евгений не хотел. Так и остался сидеть в машине, предаваясь невеселым мыслям.
Вдруг вспомнилось, как в середине осени он вернулся домой пораньше и обнаружил, что лифт не работает. Пришлось подниматься пешком. Забавы ради он, как в школьные годы, перешагивал через две ступеньки и на третьем этаже неожиданно столкнулся лоб в лоб с охранником Карины. Похожий на киллера, коротко стриженный Максим в черной куртке-косухе смерил Женю холодным колючим взглядом и, не вынимая рук из карманов, проскользнул мимо, еле кивнув. А ведь они хорошо знали друг друга. Тогда Евгений удивился, но не придал этому большого значения, мало ли к кому мог приходить Макс, приторговывающий наркотиками. Теперь-то ему было ясно как божий день, зачем и к кому тогда заходил этот бугай. Значит, они обе, Маринка и Каринка, полтора года назад познакомившись на его дне рождения, все-таки спелись, нашли себе общее занятие: сначала травка, потом постель.
Коварная память подсунула тотчас и другую сцену. Незадолго до Нового года жена в очередной раз пришла поздно, возбужденная, вся какая-то необычная.
– Ты опять курила травку? – устало спросил он ее. Сил ругаться и скандалить уже не было.
А она в ответ загадочно, как Мона Лиза, улыбнулась, глядя куда-то вдаль, сквозь него, передернула плечами и, уже не таясь, сказала:
– Поддерживаю необходимый уровень эмоционального комфорта.
– Кучеряво изъясняешься, – хмыкнул в ответ Евгений. – И каков же он, необходимый уровень?
– У каждого свой, – Маринка сверкнула глазами. – Не сидеть же мне дома, проливая слезы над твоими проблемами. Так и свихнуться недолго.
– Разве мои проблемы – не твои проблемы?
Марина удивленно подняла брови, как бы говоря: ты это о чем? И подытожила разговор:
– Поэтому, дорогой мой, чем больше проблем, тем и уровень комфорта должен быть выше.
«Значит, я не вошел в ее уровень этого самого комфорта, – мысленно заключил Крутилин. – А ведь я любил ее, угадывал любое ее желание, ни в чем ей не отказывал: хочешь такое платье – пожалуйста, хочешь путешествие – получи, устаешь – не работай, хочешь любви – я могу ночь не спать… Ведь мы были счастливы, я помню ее счастливые глаза, такое нельзя разыграть. И вот сегодня, именно сегодня, когда и грех-то о ком-то плохо думать, узнаешь, что твоя любимая с другой женщиной… Какая мерзость!»
Он поднес к глазам руку с часами. Старая, купленная еще в начале девяностых фальшивая «Монтана» светилась в полутьме зеленоватыми палочками. «Сколько лет, а часы все никак не сломаются, не хотят, видимо, уступать свое. На важные деловые встречи, где «встречают по одежке», он, конечно, надевал другие часы – золотую «бочку» от «Патек-Филипп», но в неформальной обстановке хранил верность старой доброй псевдо-«Монтане». Приятели время от времени поддевали его, но он отшучивался: эти часы, мол, прошли с ним огонь и воду, и негоже отказываться от старого друга, который столько лет служит верой и правдой… Почти минуту Лохнесс тупо смотрел на циферблат, пытаясь понять, который же теперь час. Ему показалось, что стрелки не двигаются, время остановилось. «Черт, и часы меня предали. Даже часы!..» От этой мысли, пронзившей насквозь, стало не по себе. Он замер на какое-то время, а потом снова резко поднес часы к глазам. Минутная стрелка передвинулась, и Женя ясно увидел, что сейчас четверть десятого.
Внезапно он почувствовал, что не может больше сидеть на месте. Выскочил из джипа, резко захлопнув дверцу, со злости пнул колесо соседской «Тойоты», припаркованной слишком близко, и побежал прочь от дома, в котором его жены, обкурившись травкой, предавались любви. Он шел не разбирая дороги, не подымая глаз. Его шаг был стремительным, как будто он куда-то опаздывал. Иногда он срывался почти на бег, мчался, не замечая, что разговаривает сам с собой:
– Что происходит? Почему все так плохо? И почему все против меня?
Мимо пронеслась подержанная «девятка» с тонированными стеклами, и Крутилина обдало, как холодной водой, звучащей из динамиков песней: «…А потом обними, а потом обмани…»
– Обмани, обними… Этого добра у нас навалом, – пнув ногой ком снега, продолжал Женя разговор сам с собой.
Где-то громко залаяла собака.
– Маринка! – Крутилин на миг остановился. – Неужели я – я! – обделял тебя своим вниманием? Ну чего – чего! – тебе не хватало?
Проходящая мимо парочка на всякий случай обошла Лохнесса стороной. А он, не замечая никого вокруг, продолжал:
– А может, как раз оттого, что всего было выше крыши, и захотелось тебе чего-нибудь эдакого. А я-то, дурак, радовался, что нашел свою половинку – милая, ласковая, заботливая… А эта милая и ласковая любила-то не меня, а мои деньги… И Каринку.
Тут он заметил, что стоит на одном месте, и, словно опомнившись, заспешил вперед.
– И сколько же это у вас длилось, интересно? Хотя какая разница, это теперь не имеет никакого значения. – Он снова остановился и, подняв голову наверх, громко закричал-завыл: – Это не имеет никакого значения!
И снова громко залаяла собака.
Евгений и не заметил, как вышел к Яузскому бульвару. Оказавшись на засыпанной снегом аллее, Лохнесс еще раз подивился разительному несходству между его состоянием и окружающей красотой. Казалось, ничего на свете не может быть прекраснее этих одетых в иней деревьев, точно сошедших с рождественской открытки. Смахнув со скамейки целый сугроб, Крутилин плюхнулся на нее и, не чувствуя холода, принялся наблюдать, как неподалеку кучка подростков запускает петарды.
Шипя и свистя, в ясное небо взлетела ракета и распалась разноцветными огнями. За ней последовала другая, затем еще одна. Мальчишки радостно кричали, петарды взрывались, сирены автосигнализаций дополняли ночную радость ребят. Окна близлежащих домов светились, люди праздновали Рождество.
– Люди живут нормальной жизнью, сидят за праздничным столом, поздравляют друг друга, дарят подарки, кто-то на службе в церкви… – Лохнесс тяжело вздохнул: – А я как бездомная собака…
Мороз пощипывал его за щеки, пробирался все дальше, за расстегнутый воротник пальто. Крутилин медленно выдохнул и задумчиво посмотрел на пар, идущий у него изо рта. Затем зачерпнул пригоршню снега и растер им лицо.
«Что дальше?.. Спрятаться бы, как в детстве, в мамины ладони, забыться».
И зачем люди взрослеют?..
Глаза его затуманились, на него вдруг нахлынули воспоминания. Но не о Маринке, не о Карине, черт бы ее подрал, а о далеком детстве, тех летних каникулах в деревне на Урале, перевернувших его жизнь…
* * *
Жене тогда было двенадцать. Он как раз закончил пятый класс, и мама решила на лето поехать с ним на Урал, где в деревеньке под Пермью жила ее дальняя родственница.
До того каждые летние, а часто и зимние каникулы Женя проводил в пионерском лагере «Вымпел» в Подмосковье, недалеко от Звенигорода. Там все было привычно: лес, речка, друзья-мальчишки и симпатичные девочки, знакомые вожатые и отличные повара. Но в ту весну в лагере сгорело два корпуса из-за каких-то неполадок в проводке, и восстановить их не успели. Пришлось родителям решать проблему летнего отдыха кто как мог. Галина Евгеньевна Крутилина собрала все причитавшиеся ей за несколько лет отгулы и махнула с сыном в гости.
То лето Лохнесс запомнил на всю жизнь, с ним закончилось его детство. И, наверное, никогда больше он не испытывал такого пронзительного и всеобъемлющего счастья и такого беспредельного горя, как тогда.
Началось путешествие интересно. Сначала добрались до Перми самолетом, и поскольку Женька летел первый раз в жизни, то был в полном восторге. Потом доплыли, вернее, как говорят матросы, дошли по Каме на «Ракете» от речного вокзала до Сташкова, что тоже показалось очень здорово. Но вот место, где им предстояло жить, Лохнессу совсем не понравилось.
Старый дом, весь покосившийся и пропахший какими-то тяжелыми деревенскими запахами, с низким потолком, маленькими окошками, выцветшими обоями и крашеными половицами, произвел на мальчика угнетающее впечатление. Ему показалось, что везде грязно и неуютно. Хозяйка, Анна Николавна, ему тоже не приглянулась. Была она высокой, слишком широкой в бедрах и какой-то неопрятной. Разговаривала громко, быстро и невнятно, «проглатывая» гласные, а еще – грубовато, не церемонясь с собеседниками и не стесняясь вставлять в свою речь крепкие словечки. К тому же от нее пахло навозом, сыростью и еще чем-то кислым и очень противным.
Пока мама разговаривала с теткой, или кем она там была, Женька осмотрел избу, прошелся по комнатам, деловито подергал двери, изучил огород, заглянул в сарай, в хлев, в курятник. Их родственница жила одна и в одиночку волокла на себе все хозяйство – держала корову, коз, свинью с поросятами и кур.
«И в этом колхозе мне торчать целых два месяца, – мрачно подумал Лохнесс. – Чем я тут, интересно, буду заниматься? Даже телевизора нет…»
Будь его воля, он ни за что не остался бы здесь.
Им отвели небольшую, впрочем, довольно чистую комнатку. В ней помещались колченогий стол да две железные кровати. Такие Женя раньше видел разве что в кино: высокие спинки из полых трубок, с шариками наверху, лоскутные одеяла, и на каждом – гора подушек под кружевной накидкой. Основа у кроватей была пружинная, и качаться на них оказалось очень прикольно, но поднялся такой неимоверный скрип, что Женьке тут же попало от хозяйки. Мама смутилась и, не желая начинать отпуск с конфликта, потащила сына гулять, забыв на время о нераспакованных сумках и чемоданах.
Деревня Сташково раскинулась по обоим берегам Камы. Сторона, где поселился Лохнесс с матерью, была, видно, более старой, с многочисленными бревенчатыми домами. Другая часть, что за рекой, через мост, выглядела поновее, там попадались и кирпичные постройки, среди них магазин, школа и современное здание сельсовета.
Женька с Галиной Евгеньевной перешли через мост, прогулялись по «новой» части, заглянули в магазин, дошли до кладбища и вернулись на «свою» сторону, но не к дому Анны Николавны, а прошли через всю деревню, по берегу, и вышли на огромное поле, за которым виднелась вдали темная полоса леса.
– Гляди, сыночек, какая красота! – восхищалась мама. – Какое разнотравье, сколько цветов! А воздух какой, чувствуешь, как тут дышится? Не то что в Москве! Как же здесь здорово, правда?
И Лохнесс, еще каких-то пару часов назад весьма недовольный новым местом отдыха, сейчас был полностью с ней согласен. Что и говорить, красиво. И в чем-то даже лучше, чем в лагере. Во всяком случае, широченная Кама ни в какое сравнение не идет с Москвой-рекой под Звенигородом. И опять же никаких вожатых, которые вечно не дают ни покупаться вдоволь, ни по лесу погулять…
Довольная мама нежно потрепала его по затылку:
– А ты говорил, тебе не понравится. Настоящая дикая уральская природа! Мы еще за грибами пойдем, за ягодами в лес. Скучать тут не будешь.
Вечером Лохнесс попробовал было разузнать у хозяйки насчет леса, но она решительно оборвала его, объяснив, что местные леса не годятся для развлекательных прогулок.
– Вам, городским, и соваться туда неча! – проговорила она в своей обычной, быстрой и невнятной, манере. – Враз заблудитесь. Гнус опять же тама, клещ цефалитный, а другой раз так и вовсе волки. В том году мужики ажно двух убили.
Маму такой поворот событий огорчил, а Женьку – и не очень, ему и так хватило впечатлений. В тот вечер, только добравшись до подушки, он моментально забылся блаженным сном, спал крепко и на следующее утро проснулся рано и удивительно легко, чего с ним в городе никогда не случалось – всегда приходилось будить по полчаса.