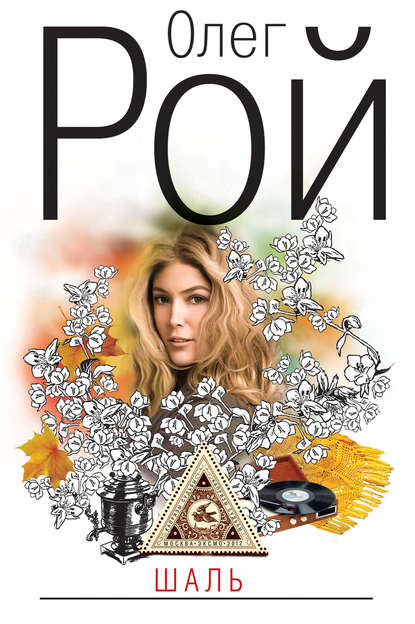По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Шаль
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Знаете, Володя, – можно я вас так буду называть? – раз вам любопытно, значит, это вам нужно. Я расскажу. Действительно, я просила подаяния. И действительно, делала это впервые в жизни. История, в общем-то, простая, житейская.
«Ну, нет, – подумал он, глядя на ее вздрагивающие пальцы, мнущие пластмассовый стаканчик, – не все так просто… как это хочется ей показать».
– Дело в том, – продолжала между тем Зоя Павловна, – что у меня есть внучка. Девочка, как вам сказать… особенная. У нее через две недели день рождения.
– И что? – удивился Володя.
– Да-да, конечно, это не повод, чтобы просить деньги на улице. Дело не в дне рождения… Все гораздо сложнее… Понимаете, Володя, Лизонька – способная пианистка. Ей вот-вот исполнится тринадцать лет. Она учится в хорошей музыкальной школе. Школа платная. И… у нас нет денег на последний класс. В другую школу мы ее перевести не можем… Но это, впрочем, целая история, вам ни к чему.
– Вы живете вдвоем с внучкой?
– Нет, втроем. Мой сын оставил семью.
– И вы живете с внучкой и невесткой?
– Да. Моя невестка – переводчица, берет работу на дом, иногда переводит фильмы или какие-нибудь деловые переговоры. Словом, зарабатывает от случая к случаю… Конечно, денег не хватает. Иногда очень… Моя пенсия, ее неопределенная зарплата, пособие девочки… За учебу надо платить за год вперед. Мы продали все, что можно было продать. Я собрала все, что у меня было… Не хватает шестисот долларов.
Чай из стаканчика расплескался. Зоя Павловна стала промокать лужицу салфеткой.
– А отец? Что с ним? Он что – неплатежеспособен?
«Надо затормозить, не напирать… Что это я, она же не партнер по бизнесу, уклоняющийся от договоренности. Просто незнакомая, симпатичная пожилая дама, немного склонная к истерике. Это бывает. У нее наверняка есть родственники, взрослые дети… Так что не мое это дело», – думал он, тем не менее продолжая задавать вопросы.
Зоя Павловна грустно смотрела на Степанкова и только плотнее куталась в шаль.
Он же злился на себя, но ничего не мог поделать – расспрашивал, расспрашивал, расспрашивал…
А там, через улицу, за стеклом «Пирамиды», грозившей сегодня стать его лобным местом, словно виделся плотный затылок человека, который ждал его.
– Вы торопитесь? – Зоя Павловна успокоилась, разлитый чай впитался в салфетку. – Ничего, все хорошо… Спасибо вам, я высказалась, отвела душу. Теперь понимаю, мой поступок – просто сумасбродный, безрассудный порыв. Мы справимся. Невестка не знает, что я вышла попрошайничать. Ей стало бы плохо. Ведь она запретила мне просить деньги у сына. Говорит, что дано, то и дано.
– Я принесу вам еще чаю.
Потом они пили чай и ели (надо сказать, вкусные) пирожки. Зоя Павловна откинула наконец шаль, мелкими глотками прихлебывала из стаканчика, а Степанков смотрел на ее худые руки с мелкими коричневыми крапинками и видел, что они все еще слегка дрожат. На тонких пальцах со слегка утолщенными суставами нет колец. Такие же руки были у мамы, всю жизнь проработавшей машинисткой в заводоуправлении. Давно не видел он стариковских рук, не разговаривал со старшими. У себя на работе привык командовать. Там в основном были молодые секретарши с яркими ногтями или женщины среднего возраста, чьи руки с пальцами, унизанными кольцами, клали на его стол бумаги на подпись. Не отрывая взгляд от «таких маминых» рук, он рассеянно слушал, как Зоя Павловна, не торопясь, как-то безразлично и устало рассказывала ему о сыне. Тот занимался бизнесом, у него была фирма, которая «процветала» и «раскручивалась». Начинал он с продажи компьютеров, теперь торгует еще чем-то, она уже не знает, чем. Но часто видит из окна кухни, как Арсений выходит из соседнего подъезда, садится в новую машину и уезжает. Иногда с охраной, иногда с какой-нибудь девушкой. Раньше девушки менялись. Последние полгода это одна и та же девушка. Она рада, что у сына все, как видно, хорошо. Но все же у него такая семья, которую нельзя было бросать. А он бросил, решительно и бесповоротно.
– В вас говорит женская солидарность. Мужчины не могут объяснить, почему они уходят от жен. Даже родной матери, – вступился за незнакомого Арсения Степанков.
– Не в этом дело. Я родила Арсения тоже не в первом браке. Муж вскоре после его рождения умер, а не ушел к другой… Это я бы поняла. Но нельзя бросать детей. Особенно таких, как наша Лиза.
– Но если девочка талантлива, усидчива, она не пропадет.
– Это долго объяснять, да и зачем вам знать о наших делах. Вот лучше ответьте мне: раньше все было нашим, всеобщим, как нам говорили, да и на самом деле все обстояло почти так. Потом все стало принадлежать каким-то бандитам, «кабанам» и «шепелявым», как говорил мой сын. А теперь как-то сразу вдруг все перешло к чему-то обезличенному – к холдингам, банкам, консорциумам. Мне постоянно кажется, что за затемненными окнами дорогих машин ездят люди-призраки. Они ничего не понимают в нашей жизни, у них пустые глаза и, простите, нет души.
Мой сын как раз стал одним из них, он такой же, с пустыми глазами. А может быть, я сама виновата в том, что у меня нет денег… – Зоя Павловна опять стала нервно стягивать пушистую шаль на груди.
– Да ладно вам, Зоя Павловна, такие рассуждения уведут нас далеко. Вы преувеличиваете. У вас талантливая внучка, сноха, или как там… невестка нормальная. Сын, в конце концов, жив, здоров и процветает.
– Дело в том, Володя, что Лиза родилась почти слепой. Мы ее упорно лечили. Мила даже ездила с ней в Израиль. Тогда сын еще не ушел от нас, и деньги были. Не помогло. Нам предложили сдать ее в интернат, пока она маленькая. Это специальный интернат для слабовидящих детей. Лиза прожила бы всю жизнь среди таких же, как она. Если бы выжила. Она была еще и слабенькая, все время болела. Вы не представляете, что мы пережили. В нашем роду, да и у Милы тоже, я хорошо знаю ее родителей, никаких патологий не случалось. Откуда взялась эта напасть? Ума не приложу.
В детстве в маленьком городе, где он вырос, Степанков слышал подобную историю. У маминой подруги был слепой ребенок. Она сдала его в интернат, потом родила других, здоровых, детей. И не вспоминала о старшем. Мама с бабушкой всегда недоумевали, как такое можно сделать.
Зоя Павловна говорила так же спокойно, как когда-то мама и бабушка. Она рассказала, как невестка «училась» вместе с Лизонькой, стала ее глазами. Причем училась в обычной школе, ведь девочка не совсем слепая, а слабовидящая. А она, Зоя Павловна, помогает им. До ухода Арсения жила отдельно, а потом переехала в семью невестки.
Когда Арсений ушел, Мила вынуждена была пойти работать. Она брала работу на дом, делала переводы, пока Лиза в школе. Мила и стала заниматься с Лизонькой музыкой. Ведь сама она окончила музыкальное училище. Но «перетрудила» руку, такое бывает. И все. Попреподавала немного и перестала. Мол, не может возиться с бездарями. Да и платят совсем плохо, чтобы хоть как-то заработать, надо набирать много часов.
– Вы, наверное, слышали об этом. Сейчас о школе такое пишут… В музыкальной – то же самое. Целыми днями пропадать на работе она не могла. – Зоя Павловна тяжело вздохнула. – Мила упорная, она закончила вечерний факультет иностранных языков. Лизочку к английскому приучает. Та уже со слуха хорошо переводит. Они магнитофон слушают, разговаривают между собой. Лизонька даже поет по-английски. Как ребенок, конечно. Но все равно… Голосок у нее приятный. – Зоя Павловна помолчала и, словно подведя итог, сказала: – У Лизы идеальный слух. Так бывает. Компенсация как будто… Теперь вот должна была окончить музыкальную школу. В общеобразовательной Лиза учится в обычном классе. Там тоже требуют денег, хотя и не так много. Но, наверное, придется отказаться от музыкальной школы. Очень обидно. Ею так гордятся, она на всех отчетных концертах выступает. Лиза смогла бы стать настоящей пианисткой. Объехать мир… Мы об этом так мечтали. Но ничего не поделаешь. После дня рождения придется сказать ей, что последнего класса «музыкалки» не будет. Ну что ж, спасибо за чай. Мои будут беспокоиться, если я не приду к обеду.
– Зоя Павловна, вот вам моя визитка. Дайте мне и ваш номер телефона или адрес. Может быть, я смогу помочь. Есть у меня одна идея.
– Спасибо, – Зоя Павловна внимательно посмотрела на него.
И он опять подумал о том, что не разговаривал с пожилыми людьми уже несколько лет, что после смерти отца так и не ездил на родину. В Москве у него нет родственников, знакомых семей, где были бы пожилые люди. Собственно, он старался и не обрастать знакомствами, не привязываться ни к кому, чтобы «не потерять скорость».
Степанков проводил Зою Павловну до перехода и взглянул на часы: ни о какой встрече можно уже не думать, да и в окне «Пирамиды» маячит другая фигура. Он поймал машину и через пятнадцать минут был дома.
Квартира встретила хозяина, как всегда, чистотой и покоем. Домработница Неля приходила дважды в неделю: вела его нехитрое холостяцкое хозяйство, готовила. Володя не любил ресторанной пищи, не любил долгих шумных застолий. Некоторые его друзья умудрялись даже завтракать в ресторанах. Он не позволял себе тратить на это время. Ему нужно было работать и работать. Он поздно приходил домой, где его ждали почти непрерывные телефонные звонки. По выходным тоже работал или уезжал за город. И в таком ритме жил уже много лет. В свои тридцать семь он не был убежденным холостяком. Просто все время думал, что вот-вот найдет свою девушку, которой ничего не надо будет объяснять, с которой не надо будет притворяться. Он хотел оставаться таким, какой есть, каким сотворила его природа. Вокруг него было полно девушек, молодых, раскованных, готовых разделить «участь» состоятельного бизнесмена. Все время рядом вертелись эффектные особы, увлеченные собственной красотой. Они утомляли своим однообразием и неприкрытыми целями. «Всех стоящих разобрали, – с шутливой грустью говорил он друзьям, – моя пока не встретилась». И каждый день, как в омут, окунался с головой в работу, в ее сложные, но подвластные ему проблемы. Конечно, святым он не был: романы, романчики, интрижки… Это – да. Но домой к себе предпочитал никого не водить. Это была его территория. Он понимал, что отсюда просто так девушку не выставишь.
А дом его был воистину хорош. Крепкий дом, стильный, как у многих респектабельных холостяков. Ничего лишнего, все строго и функционально. Ничто не отвлекает. Все для того, чтобы лучше работалось. Кое-что из вещей своего прошлого он привез сюда, когда продал родительскую квартиру в N-ске. Ящики эти так и стояли в лоджии. Однажды он даже решил, что надо выбросить все это. Но одумался. А потом и вовсе забыл о своем «музее».
В ящиках лежали виниловые пластинки, проигрыватель, семейные фотографии, книги из дома деда. Упаковал он и старый самовар. Самовар был в форме шара, в боку его зияла дыра, посеребренная поверхность облезла, и стал он теперь почти красным. Пользоваться им, конечно, нельзя. Даже если его починить, то все равно – к такому самовару нужна дача. А дачей он решил не обзаводиться. Зачем? Это целая морока. Степанкова вполне устраивали загородные пансионаты, которых вокруг Москвы великое множество. Но больше всего он любил новые места и новые страны. Хотя, впрочем, свою холостяцкую квартиру любил больше новых стран. Здесь его прибежище, его нора, его берлога, его праздник. Квартира эта была куплена на его первые большие деньги.
Оформив покупку, Степанков долго не въезжал сюда, жил на съемной квартире, пока шел ремонт. А здесь вовсю проявляли свои способности и профессионализм модные по тому времени архитектор, дизайнер, высококлассные строители. Он изложил им свои требования, долго перебирал проекты и предлагаемые планы. В итоге явилось то, что он хотел. Солидная профессорская квартира превратилась в идеальное жилище состоятельного холостяка. Ему нравились высокие потолки, старый реставрированный паркет, мусоропровод на кухне, дребезжащий за стеной лифт, отличный вид с одиннадцатого этажа на Лужники и университет, заново отстроенная набережная и новый мост, ведущий к гигантской стройке района – Москва-Сити.
Он думал, что будет делать все сам и ему не понадобится домработница. В то время домработницы были, как правило, только у иностранцев, подолгу живших в Москве. Он как-то видел на приеме в одном русско-французском доме филиппинскую прислугу. Это была тихая, несуетливая пара среднего возраста. Тогда-то он и понял, что такое высший класс, профессионалы: удобно, можно доверять, не тратить усилий на выяснение отношений. И когда у него стала работать Неля, он понял, что ему повезло. Домашние заботы перестали существовать для него.
Вот так он «делал» свою взрослую жизнь: что задумывал, то через некоторое время и свершалось. И все это началось именно с устройства его дома. Того дома, куда он наконец сегодня добрался и открывал тяжелую двойную дверь. Крепость. Бастион. Цитадель. Скорлупа – пусть даже так. Зонтик, обувь – все в прихожей по местам, по ячейкам. В спальне – костюм в шкаф-купе и быстрее – б-р-р, прохладно – в пушистый пуловер, джинсы. М-да, лето не лето. Нуте-с, что там у нас в холодильнике, что приготовила мастерица Неля? Курица по-грузински, салат… Чайник еще не остыл, но все же подогреем.
Степанков, поглядывая в окно, со вкусом расправился с курицей. Он пытался выкинуть из головы сумбур из отрывочных эпизодов сегодняшней странной встречи, несостоявшегося свидания с Михаилом и чего-то неясного, смутного, надвигающегося, чему он еще не знал названия… Следуя давно заведенному ритуалу, плеснул в широкий стакан любимого «Бифитера», добавил немного тоника и пару кусочков льда. Пора в «шоу-рум», как это теперь называется. А проще – в небольшой уголок в гостиной, на мягкий кожаный диван, вытянуть ноги, пригубливать джин и выбивать утренние мысли бредом дневных теленовостей, развлекательных шоу, боевиков и прочей дребедени. И здесь Степанков любил то, что имел: вместо телевизора на стене висела плазменная панель в серебристой раме. Подобрана она была точно по размерам пространства, строго по интерьеру. Строго, чтобы он, Степанков, глядя на это чудо техники, оставался доволен этой панелью, этой квартирой, этой жизнью, этим самим собой…
Дорогой агрегат, напрягая все свои возможности, пытался угодить хозяину: эротические страсти, бешеная перестрелка из всех мыслимых и немыслимых видов оружия, кувыркающиеся и взрывающиеся машины, террористы, землетрясения, наводнения, пожары… Щелк-щелк… По «Культуре» на фоне надутых гигантских средств одноразового пользования или похожих на них предметов нудно предвещают гибель русской литературы. Щелк-щелк… «Секс в большом городе»… А перед глазами – худая женская фигура, острые плечи, руки, подрагивающие пальцы, смятый пластмассовый стаканчик, разлитый чай, выцветшие грустные, все понимающие глаза… Лизонька – необычайно одаренный ребенок… Мила не знает, что я пошла… Шаль. Пуховая шаль, стянутая на груди. Да отцепись же ты – щелк – и нет «Секса в большом городе»… И плотный затылок Михаила в окне «Пирамиды»…
Позвонить? Нет, не сейчас. Михаил… Мишка… Большой друг из прошлого.
Прошлого, которое в последнее время зачем-то настойчиво преследует его. Прошлое, от которого хотелось уйти, избавиться. Но это его прошлое, он там был не один, был частью чего-то большого, гораздо большего, чем он сам. А сейчас в гигантском городе – он один… Нет, от этих мыслей просто так не отделаться. Попробуем сосредоточиться… Сосредоточиться… Скажем… Степанков покрутил в руке стакан… Сосредоточимся, например, на джине. «Бифитер». Да, «Бифитер» приятнее «Гринлса» и «Гордонса»… Тоник лучше израильский, без сахара, и хинин натуральный. Вот так, немного берешь в рот и, не глотая, проводишь кончиком языка по деснам, небу… Прислушиваешься к ощущениям… Глоток… Ждешь… Вот только теперь начинают работать ступеньки послевкусия. У каждой ступеньки свой оттенок. Чем больше этих ступенек, тем ценнее напиток. Не только, кстати, джин. Ликер, десертное вино, херес, мадера, портвейн, бастардо… Коньяк и ром распознаются и оцениваются несколько иначе… Степанков улыбнулся, вспомнив то ли анекдот, то ли где-то вычитанное: в Штатах нашего шпиона разоблачили из-за того, что тот пил джин зимой. Джин – традиционный освежающий летний напиток. Хотя кто сейчас этого придерживается…
Степанков поежился: м-да, лето… Прохладно… Когда-то, давным-давно… когда он был еще маленьким, мама каждую субботу подставляла табуретку к огромному, как мамонт, шифоньеру, доставала шаль, аккуратно завернутую в пакет. Это была большая и очень пушистая шаль, которую связала бабушка. Пряжа была из особого козьего пуха, ее где-то заказывали, откуда-то привозили. Перед тем как совершить покупку, женщины долго обсуждали достоинства разных видов шерсти, сравнивали цены. Он помнил эти разговоры. Теперь-то он понимал, что это была, видимо, очень дорогая вещь. Мама берегла ее и вынимала из пакета по субботам. Да еще несколько раз надевала на родительское собрание и семейные праздники.
Достав шаль, она усаживалась у телевизора, включала любую программу, брала особую массажную щетку, которой, кроме мамы, никто в доме не имел права пользоваться. Такие щетки дарили на работе на Восьмое марта профсоюзные комитеты. Мама берегла свою «массажку» и говорила мужчинам: «А вам, лысым, нечего. У вас есть пять пальцев». Отец, который до самой смерти так и не стал лысым, не обижался, ему нравилось, как мама шутит. А она бережно расчесывала шаль, и та становилась еще более пушистой, ворсинки поднимались и стояли, пошевеливаясь, как живые. А когда шаль сворачивали, то получался большой кот, вздыхающий во сне. Мама же бережно вытаскивала из щетки пушинки и складывала их в отдельный мешочек, который хранился там же, на шкафу. Приходила бабушка, и мама отдавала мешочек ей: бабушка добавляла пух к шерсти, из которой вязала шапочки и шарфики.
По субботам мама, завернувшись в шаль и уже готовая к выходу, совершала еще одно действо, которое Володя помнил и теперь. Она доставала откуда-то маленький флакончик «Красной Москвы», бережно открывала крышечку, каким-то особым, изящным движением запускала мизинчик именно в крышечку флакона и легко и коротко прикасалась к шее, где-то за ушами. Флакончик этот, казалось, был нескончаемый. Но однажды Володя увидел, как мама подошла к умывальнику и капнула в пузырек несколько капель воды…
Летом, перед выпускным классом, Володя пошел на комбинат. Всю свою первую зарплату он истратил на какие-то совершенно сумасшедшие французские духи и подарил их маме. Она заплакала, забыв даже поблагодарить сына.
Вспоминая это, Степанков дважды добавлял в стакан джин с тоником, но не пьянел, а становился только задумчивей. Ну, надо же, как он сделал сегодня стойку на шаль, и там, в этом «Русском бистро», он смотрел на старую женщину и вспоминал свою рано ушедшую мать, вспоминал своего отца, глубоко погружался в прошлое. И опять, как зубная боль, как невырезанный аппендикс, назойливо ныло воспоминание о несостоявшейся встрече с Михаилом… К отцу у Володи было особое отношение, странное для сына. Обычно мальчишки хотят казаться похожими на главного мужчину в доме, подражают ему. У них же все выходило сложнее.
Суббота в их городе была особенным днем. Вечером они с мамой ждали, когда возвратится отец. Как правило, он приходил сильно навеселе, «подвыпимши». В Москве Володя такого слова в своем окружении даже не слышал, только видел иногда из окна машины, как, шатаясь, бредут по вечерам мужчины в рабочей одежде. Но тогда в их городе в таком состоянии в субботу возвращались все нормальные мужики. Они работали на комбинате. А это тяжелый труд.
Всю неделю отец не высыпался и очень уставал. И по субботам они с друзьями собирались возле маленького магазинчика на их улице. Там была беседка. Мужчины пили пиво. Каждый приносил что-то из дома. Кто – рыбку, кто – колбаску. Это было – их время, и никто не мог посягнуть на него.