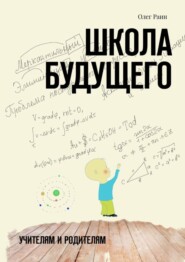По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Остров без пальм
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Больше всего Глебушку жаль, – вздохнула я. – Как он там будет с ними?
Подул ветер, виноградные листья отозвались сухим невесёлым шелестом. Солнечный свет загулял, заискрился, по-новому расцвечивая нашу «малахитовую шкатулку». Я вдруг представила себе, как брата высадят из джипа, как он впервые окажется в чужом доме, в незнакомой обстановке. Наверняка, заплачет. Надо ведь руки мыть, зубы чистить, а он и дома-то эти дела не очень любил. У нас на него обычно покрикивал папа, а там вместо папы окажется Бизон. И не кричать, наверное, станет, а рявкать. Все равно как на своих подчиненных. И бедный Глебушка, конечно, перепугается. Станет торопливо чистить зубки, мылить ладошки и хлюпать носом возле умывальника…
Я и сама хлюпнула носом. Очень уж живо мне всё это представилось. И братика стало жалко прямо до колик в животе.
– Ничего, он у меня ещё попляшет, – процедил бедный папка. – И Наталья сто раз пожалеет, что поменяла меня на эту тусклую жабу…
– Хоть бы Глебушку не обижали, – пробормотала я. Голос опять стал противным и скрипучим, но отец меня не услышал. Мыслями он был где-то в своём воображаемом мире, где измышлялся план чудовищной мести. Но я-то знала: всё бессмысленно. Ничего он Бизону не сделает. Тот владел пятью магазинами, двумя плодовыми садами и огромным стекольным заводом. Что-то там ещё у него было, о чём мы даже не слышали, и всё это мама называла империей. Горделиво так называла. Как будто, в самом деле, готовилась принять из рук Бизона императорскую корону. Да и почему нет? Корона ей тоже очень бы подошла. И наверняка, она воображала себя золушкой, которую наконец-то заметил местный принц. То есть, её-то заметил, а нас почему-то нет.
Мне представилась рука Бизона, тянущаяся к красивому, украшенному завитушками пирожному. Пирожным была, конечно, мама, а мы сидели на нем, точно мухи. Рука брезгливо машет, сгоняя мух, пирожное вздымается к губастому рту…
Выскользнув с террасы, я взяла своего двухколёсного мустанга и выкатила за калитку. Оглянувшись, помахала папке рукой, но он не пошевелился, – так изваянием и продолжал сидеть за столом. Мне даже подумалось, что я машу рукой не отцу, а своему вчерашнему дню. Дню, в котором у меня было всё – родители, братик и будущее.
***
Велосипед у меня был всё тот же – битый-перебитый «Салют» дамского типа – без рамы. Машинка, не сказать, чтобы лёгкая, зато с обновлёнными, почти горными колёсами. «Ш-шапованными», как говаривал Глебушка. Скорость всего одна, но тормоз надёжный – педальный. Может, есть велосипеды получше, но я привыкла к своему «Салюту». Между прочим, с ним я тоже научилась разговаривать, и он частенько мне отвечал. Честно, честно! Так оно и было! Я вообще очень понимаю людей, что разговаривают с любимыми предметами. Пусть называют таких сумасшедшими, но по мне так они – умнички! Потому что цветы от подобной душевности расцветают пышнее, деревья растут быстрее, и техника у «сумасшедших» хозяев тоже работает дольше и без поломок. Более того – я почти не сомневалась, что стоит мне разлюбить свой велосипед, сказав хоть раз бранное слово, и он тут же расстроится, а после начнет разваливаться на составные части. Только вот ничего подобного у меня и в мыслях не было, и маленький мой мустанг о двух колёсах и семидесяти двух спицах служил мне верой и правдой.
– Ну что, куда поскачем?
«Мустанг» едва заметно качнул колесом вправо. Конечно, он читал мои мысли, да и трудно было не прочесть – обычно у меня получалось одно и то же. Бизон с мамой и Глебушкой, конечно, повернули налево, двинувшись по трёхрядному шоссе, я же покатила своим привычным маршрутом к морю.
Небольшой рывок до кирпичной водонапорки, а там крутой сворот к диким холмам. Этот путь меня всегда привлекал – песочно-жёлтый, игриво-вертлявый. Не то дорожка, не то тропка, – сразу и не поймёшь. Даже ширина у этой дорожки была повсюду разная – точно у наглотавшегося лягушек ужа. И подобно ужу, она извивалась, убегая в заросли, приглашая за собой, дразня пугающими тайнами. Конечно, катить по асфальтовому шоссе было не в пример легче, но и скучнее, разве не так? И машины там обгоняли бы мой «Салют» на каждом шагу, а я не люблю автомобили. Они плодятся, как городские осы. И так же назойливо гудят справа и слева. Вас то и дело обдает жаркой волной, и велосипед превращается в ползущую по дорожной обочине мошку.
Люди почему-то не понимают, но очень скоро машины действительно победят человечество. Совсем как в жутких фантастических фильмах. И будет вокруг ядовитый, обезлюдевший мир. Только ржавые громады заводов, вставшие на прикол корабли и миллиарды брошенных на дорогах автомобилей.
Здесь же, на тропке, все обстояло иначе: машин не было вовсе, а я неслась точно всадница на коне одна-одинешенька. На подъёмах велосипед мой качало из стороны в сторону, он натужно поскрипывал, норовил каждую секунду остановиться. Но под горку картина менялась: мой мустанг пускался в звонкий галоп, а у меня от скорости захватывало дух и высекало из глаз слёзы. «Давай же, Ксюх, крути педали!» – с уханьем покрикивал велик и в самом деле подскакивал очень даже по живому – совсем как необъезженный жеребец. Я только успевала приподыматься над седлом. И тоже вопила. Посёлок-то позади – никого моими воплями не удивишь. Справа прилёгшими отдохнуть верблюдами-великанами тянулись лохматые холмы, слева – гигантскими наконечниками копий в небо целились пирамидальные тополя с кипарисами. Заслышав велосипедный «галоп», дорогу шустро перебегали хвостатые ящерки, а от обочины стремительными вертолетами в воздух взмывала саранча. Иные красавцы пролетали по десять-пятнадцать метров. Я тоже с велосипедом на мгновения подпрыгивала, однако соперничать с саранчой, конечно, не могла. Увы, не было крыльев и чего-то ещё – возможно, самого важного для подобных полётов. Иногда на крошечные секунды оно словно являлось ко мне, и тогда велосипед подлетал особенно высоко, парил некоторое время в невесомости, но потом всё равно бился колёсами оземь. При этом он тоже досадовал и явно тосковал по крыльям.
Впрочем, сегодня рассчитывать на взлёты не приходилось. Я неспешно крутила педали, машинально объезжала колдобины и коренья. При этом постоянно думала о маме с Глебушкой и об отце. Больше, наверное, всё же о Глебушке. Он был таким же, как я, – о нём, как и обо мне, родители на каком-то этапе своих баталий попросту забыли. Мама упрекала папу в собственной скуке и семейной бедности, папа именовал её вертихвосткой и стрекозой. Надуваясь друг на друга, они расходились по углам, точно пара боксёров после проведённого раунда. Отец принимался что-нибудь мрачно строгать из досок, мама убегала к своим цветам или ложилась на диван с дамскими романами. Ну а бедный Глебушка тыкался сначала к одному, потом к другому, а после неизменно возвращался ко мне. И мы обязательно что-нибудь выдумывали – играли в индейцев, в спецназ, а то и в обычную школу.
Как индеец я была ещё ничего, в качестве спецназовца не выдерживала никакой критики, зато образ учителя являла собой идеальный – обожала ставить пятерки с жирными плюсами, без конца гладила Глеба по голове, именовала умничкой и гением. Иногда мы играли в ясли, – глупая такая игра, но никто ведь не видел! И Глеб нарочно притворялся младенцем – гугукал и мяукал, а я таскала его на руках и укачивала все равно как взаправдашнего младенца. Посмотреть со стороны – ну, дура дурой! И впрямь воображала себя мамашей. Самое смешное, что нам обоим нравилась эта игра.
А когда лет в шесть Глеб научился гонять на детском велосипеде, маршрут наш тут же вытянулся гуттаперчевой пиявкой, надежно соединив с морем. Уж на побережье нам скучать точно не приходилось. Мы приручали дельфинов (хотя чего их, ручных, приручать?), строили из песка замки и катакомбы, убегали к кладбищу затонувших кораблей и, конечно, до синевы и дрожи боролись с пенными волнами, ныряя на глубину, собирая мидии и руками пытаясь ловить случайных рыбёшек…
Я притормозила у обрыва. Внизу белело солончаковое озеро. Говорят, когда-то здесь располагались всамделишние соляные копи. Какой-то купец немец, скупив земли, нанимал местных батраков на работы. Даже построил свою маленькую фабрику, и соль отсюда везли в Москву, в Санкт-Петербург, в Киев, продавали за огромные деньги. Теперь ничего этого больше не было: фабрику разрушили и разобрали по кирпичикам, осталась пустошь, заросшие кустарником фундаменты зданий и густой стрёкот кузнечиков.
Нырнув пальцами в боковой карман шортов, я извлекла горсть патронов. Они тускло блеснули на солнце, тяжесть их откровенно пугала. Я ведь ещё с утра перед приездом Бизона сообразила, что надо разрядить ружьё. Не умом сообразила, – чем-то другим. Отец не охотился, однако любил давать праздничные салюты. Но салюта в Бизона я никак не могла допустить. Хотя бы ради мамы с папой…
Размахнувшись, я швырнула патроны в озеро. Они упали недалеко от берега, продавив соляную корочку, пузырьками ушли на дно. Я шумно вздохнула и решительно натянула на голову наушники. Грустных мыслей больше не хотелось. Хотелось моря и музыки. Пальцы сами нашарили на плеере нужную кнопочку.
Заиграла мелодия, и, ухватившись за руль, я оттащила свой «Салют» от обрыва. Велосипед тряско потрусил дальше, и вместе с запевшим Меладзе я во всё горло затянула грустное и такое заживляющее:
Внучка деда лесника – сумасшедшего слегка,
Как цветок была красива, но упряма и дика,
От соблазнов вдалеке, не обласкана никем
Ночью звёздочки считала, днём купалась в роднике…
Конечно, песня была про меня. Я знала это точно так же, как знала и то, что имя Тая мне подошло бы значительно больше, чем имя Ксюша. Папа, кстати, тоже хотел назвать меня либо Таечкой либо Марией, но маме нравилось больше Ксюша. Тоже, наверное, наслушалась песен, правда, несколько иных – тех, в которых «юбочка из плюша», «русая коса» и прочие нелепости. В результате вышел полный облом. Юбочек я сроду не носила, косу так и не удосужилась отрастить. В дополнение ко всему брата у меня забрали, а «любимую дочуру» мама бросила сама. Оставила «делать салаты» и «присматривать за папенькой».
Певец пел в крохотных наушничках про красавицу Таю, и я тоже «таяла». Это получалось само собой. Горе уходило, пригоршней соли растворялось в мелодичном ручейке. Становилось беспричинно хорошо и необъяснимо весело. Может, оттого, что в эти минуты я действительно превращалась в Таю.
***
Этот холм мы особенно любили. Он напоминал лобастую голову слона, неведомым образом выглянувшего прямо из земли. То есть – выглянуть-то он выглянул, а нырнуть обратно не сумел – застрял. И хобот его отныне сбегал к самому морю, а «уши» двумя обрывами накрывали песчаное побережье. Когда-то он казался нам высоченным, но со временем сдулся и осел. А, скорее всего, – это мы взяли да выросли. Однако маленьким его не считали и теперь. С макушки Слоновьего холма можно было рассмотреть построенный на Павлиньем мысу Старый Маяк, а направо на морской отмели, чуть прищурившись, мы видели торчащие из моря остовы разбитых кораблей. Маленькое кладбище морских скитальцев, проржавевшие насквозь надежды, навсегда заякоренное счастье… И тоже, между прочим, загадка! Никто ведь их туда специально не стаскивал! Шли мимо и тонули – в одном месте – один за другим. А после исчезали, засасываемые донными, ненасытными песками.
А ещё с холма прекрасно просматривался палаточный лагерь археологов, разместившихся как раз за ближайшим виноградником. Там они вечно что-то рыли, разводили костры, а в сложенной под навесом печи что-то готовили и обжигали. Странный это был народец. Моя подруга Юлька хвасталась, что пару раз её приглашали к костру, угощали крепчайшим кофе и не только. Развлекали будто бы студенческими песнями и показывали найденные в земле золотые украшения. Одну из драгоценных находок даже обещали тайком подарить, но тут уж Юльке никто не верил. Девчонка она была такая, – легко могла и наврать с три короба.
Ну, и конечно, со Слоновьей горы можно было рассматривать наш посёлок. Правда, уже через хорошую оптику вроде папиного десятикратного «Беркута», хотя и без «Беркута» я видела знакомые свечечки кипарисов и похожие на заплатки крыши домов. Иногда даже чудилось, что я вижу нашу маленькую хижину с козырьком террасы, и тогда мне становилось совсем грустно. Казалось, я смотрю на посёлок не с холма, а из собственного далёкого будущего, где я, уже взрослая, может быть, даже седая женщина, пытаюсь припомнить место своей беспечной юности. И похожая печаль, наверняка, посетит ту стареющую женщину, в которую я превращусь безо всякой волшебной палочки. И так же, как сейчас, она подосадует на то, что не может увидеть какие-то крохотные детали давно убежавших лет.
В общем, холм был в какой-то степени точкой отсчета и началом координат. Даже когда глаза мои вконец уставали рассматривать окрестности, случалось необычное. Мне вдруг начинало чудиться, что я вижу парящие над посёлком силуэты дирижаблей, а над морем птичьим клином выстраивались огоньки неуловимых НЛО. Правда, об этих своих видениях в отличие от Юльки я благоразумно помалкивала. То есть НЛО с дирижаблями, конечно, были, но мнение на этот счёт моих лучших подруг я могла бы воспроизвести с точностью до последней интонации. «Ты что, обалдела!.. Какие тарелки?.. Да у тебя крыша съехала, подруженька?!». В общем, свои наблюдения я предпочитала держать при себе. Разве что с Глебушкой делилась. Он-то был свой в доску и верил мне безоговорочно. Даже охранять клялся. От инопланетян и прочих незваных пришельцев.
Когда-то со Слоновьего холма мы запускали с братцем первых самодельных змеев. А уж летали они так, что дух захватывало. Однажды, уже с родителями, рискнули установить на холме брезентовую палатку. В кои веки папа с мамой решились на вылазку с ночевой. По сути, устроили для детей настоящий поход! Вот уж порадовался наш Глебушка. Для него-то палатка была целым замком. Да только ночью хлынул ливень, и нас едва не сдуло с холма штормовым ветром. Все наше семейство вымокло до нитки, но всё равно было очень весело. Может, оттого и не заболел никто. Я давно заметила, если радуешься да улыбаешься, все болезни отступают. Теперь же весело не было, и с особенной остротой я вдруг поняла, как прав был папа, когда говорил, что дни Слоновьего холма сочтены. Новостройки планомерно окружали наш холм, подступали с каждым годом ближе и ближе. Стаей пираний они вгрызались в долины и скалы, превращая их в парковки для автомашин, в заводские здания и огорожённые колючей проволокой коттеджи. Вдруг, подумалось, что и моё детство похоже на этот холм. Оно ещё не миновало, ещё вовсю размахивало руками и пускало удалые пузыри, но грустная кончина уже маячила на горизонте.
Сегодня на холм я забираться не стала. Уложив велосипед у подножья, сбросила с себя одежду и побежала к морю. Поплескав по мелководью ладонями, почтительно поздоровалась. У берега море играло пенными гребнями, призывно чмокало мокрыми губами, но уже на глубине взрослело и успокаивалось. Оно было живым, это я знала совершенно точно, – живым и разумным. И уж с ним-то общаться можно было сколько угодно.
Кролем отплыв на приличное расстояние, я перевернулась на спину, звездой раскинула руки и ноги. Наверное, про нецелованность свою я зря распиналась. Я ведь совсем забыла про море, а оно давно научилось баюкать меня и обнимать. А уж как только не целовало! И смачным прикосновением осенне-весенних волн, и нежным ожогом прижатых к телу медуз, и губами шаловливых мальков. Оно и сейчас покачивало меня, словно в детской колыбели, мокрыми ладонями оглаживало плечи и ноги, щекотало под мышками. В ушах чуть слышно шелестело и потрескивало, – это волны с прилежанием превращали камни в гладкую гальку, а гальку в песок. В этом шепоте мне угадывались слова, и почти всегда они нашептывали что-нибудь доброе, вроде: «Ксюх, не плачь! Ну, чего ты разнюнилась? Видишь, мне хорошо, а ты во мне, – значит, и тебе хорошо»…
Маски я не взяла, но уж подводные очки всегда были при мне – так и болтались, точно амулет на шее. Вволю понежившись в морских объятиях, я натянула очки на глаза и нырнула вглубь. Несколько взмахов, и дно прочертилось из желтоватого тумана резкими пикселями. Азовское море – это, конечно, не Красное, но и здесь всегда находится, на что посмотреть. Особенно если уметь вглядываться. Наполовину зарывшиеся в песок рачки-отшельники, мелькающие на отдаление силуэты морских игл, неутомимые барабульки, мелкий донный мусор, – я замечала каждую мелочь!
Вот и сейчас мне почти сразу попалась монетка. Я подняла её, покрутила в пальцах. Три копейки, ещё советские – шестьдесят второго года чеканки. На такой троячок, по рассказам дяди Симы из Белой Калитвы, в прежние времена можно было купить стакан газированной воды с сиропом. Подобные автоматы с газводой красовались во всех городах и посёлках, стаканы стояли прямо на крышах автоматов. Один такой я сама видела в старом фильме. Прямо чудо какое-то! Теперь таких нигде уже не найти. Мама говорила, потому что это негигиенично, а дядька объяснял, что всё от того, что люди стали хуже. Любой такой автомат, по его словам, «раздарбанили бы» в первые же сутки, а стаканы, понятно, разобрали бы «на сувениры».
Жаль, конечно. Если бы автоматы оставались на наших улицах, я взяла бы троячок с собой, но денежка была мне без надобности. Да и негоже отбирать монетки у моря. Кто-то бросил, – значит, хотел вернуться. А заберёшь монетку, – помешаешь человеку, собьёшь с пути, расколешь мечту. Ответственное, получается, дело! Очень даже не простое! Я разжала ладонь, и монетка, кувыркаясь, поплыла вниз.
Повторно набрав в лёгкие воздух, я вновь погрузилась – и на этот раз уже не спешила. Плыть над песчаным дном было удивительно интересно. Я походила на исследователя, который вот-вот столкнется с каким-либо чудом, и чудеса действительно попадались на каждом шагу. В виде облепленной известковым налетом коряги или смутного орнамента замаскировавшейся камбалы. Внимание мог привлечь даже головастый бычок, загорающий на каком-нибудь взгорке. Он не ел, не жевал, – просто полеживал себе на животике, философски взирая на всё проплывающее мимо. К одному такому красавцу я не выдержала и спустилась поближе. Даже подхватила со дна камень покрупнее, чтобы меня не вытолкнуло на поверхность. И всё равно ноги мои задирало вверх, только голова оставалась на уровне дна, позволяя премудрому бычку смотреть мне прямо в глаза.
Не знаю, сколько ему было лет, но я абсолютно не верила в то, что он не понимал моих мыслей. Конечно, он всё понимал и наверняка сознавал, как мне сегодня плохо. Только чем он мог меня утешить, кроме как своим бесконечным доверием? Он не уплыл даже тогда, когда я осторожно поднесла к нему руку. Конечно, умняга такой понимал: ни хватать, ни щипать его я не собираюсь. Правда, мне, в самом деле, хотелось его погладить, но делать этого я не стала. Не хотелось обманывать ожидания морского философа. Кроме того, однажды я уже погладила ската-хвостокола, – и уж этот зверюга отыгрался на мне по полной. Вдарил – так вдарил! Вонзил в ладонь кинжальных размеров шип и равнодушно уплыл. Все равно как машина, только что сбившая пешехода. До берега я кое-как добралась, но за рукой стлался кровавый шлейф, а от боли ломило всё тело. Оставалось только радоваться, что в наших морях кроме безобидных катранчиков никаких других акул не водится. Расхватали бы по пути на кусочки.
– Ты умный! – сказала я бычку, и гроздь пузырей, массируя щёки, упорхнула вверх. – Умный, хороший и добрый…
Мне показалось, что бычок меня понял. Плавники его чуть дрогнули, в чёрных бусинках глаз мелькнули смешливые искорки. Возможно, он хотел услышать от меня ещё что-нибудь, но воздух закончился, а жабрами к своим тринадцати годам я так и не обзавелась. Пришлось срочно всплывать и дышать, дышать, дышать…
Хорошо было Ихтиандру! Вот уж с кем я махнулась бы телами, не глядя. Пусть бы расхлёбывал мой раздел-водораздел, а я тем временем пожила бы какое-то время в море – по соседству с дельфинами и бычками. Может, даже отыскала бы того давнего ската, что обидел меня. Уж я бы этому хаму и придурку втолковала, что так порядочные рыбины не поступают! Потаскала бы его за хвостище!..
Уже на пути к берегу я время от времени выскакивала из воды повыше, тоскливо крутила головой, пытаясь разглядеть дельфинов, но сегодня их не было – ни единого плавника на многие километры. Такой уж это был злосчастный день.
Выбравшись на сушу, я, словно тряпку, отжала волосы и вновь натянула на голову наушнички. На этот раз угадала на Марию Кэрри. По радио её, правда, именовали Мэрайей – на американский манер, но я всякий раз морщилась и ничего не понимала. Как можно называть Святую Деву Марию какой-то Мэрайей? Мэри, Мари, Машенька – это, по крайней мере, звучит, а певица – да ещё с таким чудным голосом, просто обязана иметь звучное имя!
Сейчас Мари-Мэри-Машенька пела песню «My All» – мою любимую. Впрочем, когда кто-то начинал петь – и петь душевно, он сразу становился моим любимым.
I ll give my all
To have just one more night with you
I ll risk my life to feel
Your body next to mine,