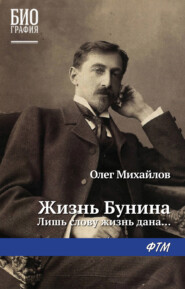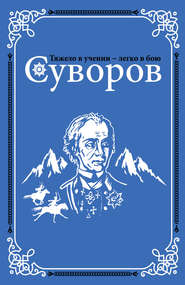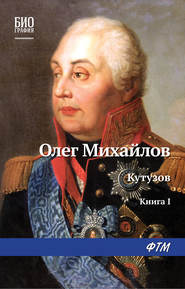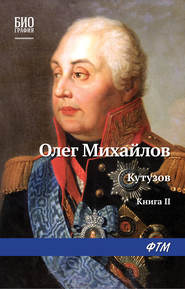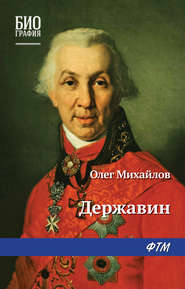По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Александр III: Забытый император
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Что ж, Дмитрий Александрович! – поддержал Кузьминского Успенский. – Чем терять время здесь, в самом деле, поезжайте-ка к князю Николаю. По крайней мере, новых людей посмотрите…
В клуне все трое засиделись до первых петухов.
– Здесь только и говорят, – Успенский разлил по рюмкам сливовицу, – что дела у сербов день ото дня становятся все хуже.
– Что ж, это верно, – согласился Кузьминский. – Генерал Черняев не раз протестовал против наступательных действий сербской армии. Куда там! Его и слушать не желали. А ведь превосходство турок в численности и особенно в вооружении подавляющее. И вот теперь наш командующий склоняется к мысли покинуть позиции на границе с Турцией и стянуть войска к Белграду.
– Но ведь остается надежда на помощь России?.. – полувопросительно сказал Клеменц.
– Такая надежда есть. А вы знаете, как много делают во имя освобождения балканских христиан наследник и цесаревна? Его высочество Александр Александрович у себя в Аничковом дворце даже устроил склад вещей, необходимых для сербов и добровольцев…
– Да, но это как бы частная акция цесаревича… – вставил Успенский. – А вот Александр Второй…
Кузьминский не дал ему договорить:
– Король Милан уже телеграфировал нашему императору, прося вступиться за славянство!..
6
– Благодагю вас, господа, за чувства, котогые вы желаете мне выгазить по случаю настоящих политических обстоятельств… – как всегда сильно картавя, говорил император, обращаясь к московскому дворянскому и городскому обществу. – Вам уже должно быть известно, что Тугция покогилась моим тгебованиям о немедленном заключении пегемигия, чтобы положить конец бесполезной гезне в Сегбии и Чегногогии…
Георгиевский зал Кремлевского дворца был заполнен публикой в блистающих орденами мундирах, среди которых скромным пятном выделялась визитка Ивана Сергеевича Аксакова. В первом ряду восседал бессменный московский генерал-губернатор князь Владимир Андреевич Долгоруков, уже хлопотавший о создании в Первопрестольной отделений Красного Креста для приема раненых добровольцев из Сербии и Черногории.
– Чегногогцы, – продолжал в благоговейной тишине Александр Николаевич, – показали себя в этой негавной богбе, как всегда, гегоями. К сожалению, нельзя того же сказать пго сегбов, несмотгя на пгисутствие в их гядах наших добговольцев, из коих многие поплатились кговью за славянское дело…
Длиннолицый, с мешочками под глазами, похожий на дворецкого из хорошего дома, министр государственных имуществ Петр Александрович Валуев, желчный и недовольный тем, что к его политической аргументации перестали прислушиваться, мрачно размышлял, слушая государя:
«Неужли император решится из-за подданных султана объявить Порте войну и принести в жертву, быть может, пятьдесят тысяч русских солдат? Неужли московские славяне одержат верх и во имя славян немосковских пустят Россию в обратный ход? От Гостомысла к Петру мы шли в гору. От Петра до славян базарного образца – по горе. А от этих славян – вниз, под гору. Дай-то Бог, чтобы я ошибся…»
– Я знаю, что вся Россия вместе со мною пгинимает живейшее участие в стгаданиях наших бгатьев по веге и по пгоисхождению. – Александр Николаевич сделал паузу. – Но для меня истинные интегесы Госсии догоже всего. И я желал бы до кгайности щадить догогую гусскую кговь. Вот почему я стагался и пгодолжаю стагаться достигнуть мигным путем действительного улучшения быта всех хгистиан, населяющих Балканский полуостгов. На днях должны начаться совещания в Константинополе между пгедставителями шести великих дегжав для опгеделения мигных условий… – Император возвысил голос: – Если же это не состоится и я увижу, что мы не добьемся таких гагантий, котогые бы обеспечивали исполнение того, что мы впгаве тгебовать от Погты, то я имею твегдое намегение действовать самостоятельно…
Шорох и одобрительный гул прошли по нарядной зале.
– Я увеген, что в таком случае вся Госсия отзовется на мой пгизыв, когда я сочту это нужным и честь Госсии того потгебует! Увеген также, что Москва, как всегда, подаст в том пгимег! Да поможет нам Бог исполнить наше святое пгизвание!..
Последние слова государя потонули в восторженном, всеохватном «ура!», которое, кажется, сотрясло стены Кремлевского дворца. Грянул национальный гимн; стихи Василия Андреевича Жуковского, положенные на музыку Алексея Львова, трогали каждое русское сердце:
Боже, Царя храни!
Сильный, Державный,
Царствуй на славу нам,
Царствуй на страх врагам…[77 - «Боже, Царя храни!» – русский национальный гимн; слова В. А. Жуковского (1783–1852), музыка А. Ф. Львова (1799–1870), генерал-адъютанта, директора императорской придворной Певческой капеллы (1837–1861), скрипача, композитора, дирижера, музыкального деятеля, автора нескольких опер, концертов для скрипки с оркестром, романсов, хоров, множества культовых произведений (литургических напевов и псалмов). Гимн написан по инициативе Николая I (вначале музыка, затем слова): государь, по воспоминаниям Львова, «сожалея, что мы, русские, не имеем национального гимна и будучи утомлен английской мелодией, которая заменяла его в течение долгих лет, поручил мне написать русский гимн» (см.: Часовой, Париж, 1933, № 101/102, с. 24). Вначале был принят для армии, узаконен в качестве русского гимна 4 декабря 1833. Первое публичное исполнение состоялось 11 декабря 1833 в Большом Московском театре; 25 декабря гимн прозвучал в Зимнем дворце в Петербурге на церемонии освящения знамен. В знак одобрения гимна Николай I пожаловал Львова табакеркой, усыпанной бриллиантами, и повелел вставить слова «Боже, Царя храни!» в герб семьи Львовых.]
Наследник, не стыдясь слез, пел вместе с залой, понимая, что жребий брошен. 21 сентября, находясь в Царском Селе, он получил телеграмму из Ливадии: «По важности теперешних политических обстоятельств жду тебя немедленно сюда».
Конечно, Минни была очень расстроена этой новостью, как бы предчувствуя долгую разлуку, а Александр Александрович на следующий же день с Олсуфьевым и князем Барятинским отправился экстренным поездом из Колпина в Севастополь, где на рейде уже стояла под императорским штандартом яхта «Ливадия».
Папа встретил его словами:
– Я очень ждал тебя…
На совещании с участием канцлера Горчакова, военного министра Милютина, посла в Константинополе графа Игнатьева и министра двора графа Адлерберга наследник-цесаревич предложил перейти к самым решительным действиям. Закрывая совещание, император с редкостной для него твердостью сказал:
– Если мы не добьемся гезультата политическими пегеговогами, то я не вижу дгугого исхода, как объявить войну Тугции!..
7
Итак, война началась! Двадцать шестого апреля 1877 года в шесть пополудни турки открыли артиллерийский огонь с правого берега Дуная по румынской крепости Калафат, в которой не было ни одного русского солдата. Напрасно комендант телеграфировал турецким властям в Видин, сообщая об этом, – бомбардировка продолжалась. Румынским батареям пришлось начать ответную канонаду, и они сожгли несколько судов в гавани Видина, а также городское предместье.
Карл, князь Румынский,[78 - Карл, князь Румынский – Карл I Гогенцоллерн-Зигмаринген (1839–1914); в 1857–1866 на прусской военной службе, в 1866 избран румынским князем; в описываемое автором время, 1877, провозгласил Румынию независимой и заключил союз с Россией против Турции; в войне 1877–1878 командовал румынской армией; в 1881 короновался королем. прием явился офицер] накануне своего дня рождения в выступлении перед депутатами решительно отверг идею нейтралитета.
Небольшой городок Яссы выглядел так, словно был объявлен на военном положении. Через него проходила масса русских войск: пехота, кавалерия, артиллерия, санитарные обозы. Часть войск следовала по железной дороге, другие шли пешком, делая в Яссах только привал. По улицам поминутно проходили отдельные команды, с неизбежным трепаком, всегда подхватываемым уличной толпой, и песнями:
Ах, дербень-дербень Калуга.
Дербень – ягода моя!
Тула, Тула, Тула, Тула,
Тула – родина моя…
Штаб-ротмистр Кузьминский явился в Яссы, чтобы вступить в действующую армию и, если удастся, обратиться с такой просьбой к государю. «Ведь прощен же генерал Черняев и восстановлен в армии!» – думал кавалергард, меряя шагами узкие румынские улочки с белеными домиками. Но на душе у него скребли кошки: он знал, что совершил тяжкий проступок, и всю ночь пропьянствовал в компании знакомых офицеров, а теперь, окатившись с утра ледяной водой, с тупым чувством вины брел на вокзал встречать царский поезд.
Из-за угла показалась телега, запряженная парой тощих лошаденок, лениво подхлестываемых иссиня-черным евреем с пейсами. Рядом сидел солдатик в партикулярном платье и в военной измятой фуражке с офицерской кокардой, которая изобличала в нем денщика. Заваленная чемоданами, телега свидетельствовала, что сзади выступает покидающая город партия.
И в самом деле, тотчас донеслось грустное хоровое пение под мерный барабанный бой. Не прошло и минуты, как из дворов повыскакивали смуглые курчавые румынские мальчишки, окружившие барабанщиков и горнистов, за которыми шел отряд. Это было болгарское ополчение.
Мотив их песни был особенный, заунывный, тягучий, но и родственный песне русской, такой грустной, монотонной, берущей за душу. Батальон проходил мимо Кузьминского, который вглядывался в лица солдат. Нет! По контрасту с песней их загорелые лица были веселыми, радостными, даже вдохновенными. Отчего же они затянули такой грустный мотив? Кузьминский знал, что иных песен у болгар просто нет. В них отражается вся жизнь болгарина от колыбели до смерти, тяжелая подневольная судьба народа. Надрывающая сердце тоска и безграничная жажда свободы – вот отличительные черты болгарских песен. Немудрено, что песни эти грустные…
Кузьминский залюбовался стройным боевым порядком батальона. Все ополченцы были чисто одеты, все в новом платье и высоких сапогах. Вот стволы ружей блеснули в лучах поднявшегося солнышка – болгары приободрились еще больше. У каждого в сдвинутой набекрень барашковой шапке – весенний полевой цветок.
«Точно на пир идут! – пронеслось в сознании штаб-ротмистра. – Впрочем, они ведь идут на родину, где не были несколько лет. Идут туда, где их родная хата, где их отцы, матери, жены и дети. Что с ними? Живы ли они? Кого они найдут, что встретят? Воображаю, как сильно должно биться сердце каждого из них!..»
– Эй! Беркович! – крикнул Кузьминский, заметив в рядах молодого парня, вместе с которым воевал в Сербии.
– Кузьминский? Пожелай нам удачи! – не выходя из строя, весело отвечал болгарин. – Встретимся, брат, за Балканами, в Софии…
Судьба Берковича была похожа на судьбу многих интеллигентных болгар. Закончив реальную гимназию в Праге, он вернулся к себе на родину. Но нравственный гнет, беззаконие и рабство вызвали протест в молодой душе. Он вступил в один из многих подпольных революционных комитетов. Изменник выдал его, и несчастного Берковича сослали в Малую Азию, подвергнув пожизненному тюремному заключению. Ему удалось бежать, и он счастливо достиг Сербии, где сражался под знаменами Черняева…
Когда Кузьминский подошел к железнодорожному вокзалу, болгары уже составили ружья в козлы и начали водить хору: схватившись за руки, танцоры образовали круг и под звуки дудки-сопелки танцевали, притоптывая ногами, то отходя назад, то наступая вперед. Да, они чувствовали себя бодро и уверенно рядом с братом Иваном. Штаб-ротмистр думал о том, что русская военная сила быстро сломит турок.
Да и как иначе! Регулярная, многотерпеливая, всевыносливая, строго дисциплинированная русская армия двинулась против полуголодного, полуодетого, плохо обученного турецкого войска, против сброда каких-то черкесов, башибузуков, зейбеков, спахизов, бедуинов, арабов. Кузьминский не сомневался в успехе. Дурное предчувствие как рукой сняло, и в самом превосходном настроении штаб-ротмистр ступил на главную платформу, где уже толпились свитские чины и генералы, а также румынская знать в ожидании царского поезда.
В центре длинной деревянной платформы выстроился оркестр, а в большой станционной зале был воздвигнут русский императорский трон, тонувший в море цветов. Ожидалось, что в Яссах государь непременно выйдет на станции, а по понятиям румынского начальства российский император иначе, как на троне, сидеть не может. Ожидавшие в нетерпении поглядывали на часы: царский поезд вот-вот должен был прибыть.
Между тем два мощных локомотива, тянувших темно-синие вагоны, уже въезжали в пригороды Ясс. Поезд шел виноградниками и полями, засеянными хлебом и кукурузой. Наследник-цесаревич вполглаза глядел на небольшой румынский городок, поднимавшийся на скате довольно высокого холма, покрытого сочной весенней травкой. Среди массы тесно сгрудившихся зданий высились три десятка церковных куполов.
Александр Александрович размышлял о том, что отец напрасно отказался от роли главнокомандующего, назначив на эту должность дядю Низи. Ведь еще свежа была в памяти скандальная история с высылкой из Петербурга его пассии Числовой. Да и здоровьем дядя Низи не мог похвастаться: он страдал катаром кишок и сам признался доктору Боткину: «Силы слабеют…» Что греха таить, молодой наследник желал бы сам возглавить русскую армию. Но не тут-то было: пока что ему не предложили и полка, а поговорить с папа не было случая.
Отец в пути очень мучился от астмы, которая досаждала ему в последние годы каждой весной. Он почти не спал ночь и находился в своем привычном раздражительном состоянии. С самого утра папа капризничал: и завтрак, и доклад графа Адлерберга, и даже беседа с Милютиным – все было не то и не так. И когда царский поезд подошел к нарядно украшенному вокзалу, император даже не вышел из вагона. Окно было открыто, и Александр II вместе с цесаревичем и графом Адлербергом внимательно оглядывал возбужденную и ликующую массу народа.
Оркестр грянул «Боже, Царя храни!..». Шум голосов на платформе мгновенно затих. Между тем император остановил свой взгляд на офицере в красной черкеске с тремя Георгиями и золотым сербским восьмиконечным крестом на груди. Офицер резко выделялся среди окружающих не только одеждой, но и своим иссиня-бледным, словно из мрамора, лицом.