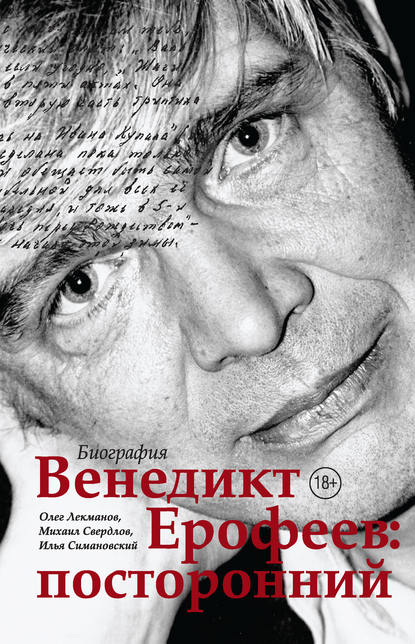По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Венедикт Ерофеев: посторонний
Жанр
Серия
Год написания книги
2018
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Чем же замыкается парадигма повествовательных модусов – выстроенная героем за те примерно 16 минут, что едет электричка от Карачарова до Никольского? Закономерным итогом внесюжетной, лирической прозы, стилизующей соответствующие опыты русского модернизма. Характерно, что позже сам Веничка именно таким образом, в отталкивании от нарратива, определит начальный жанровый маршрут своего путешествия: «Черт знает, в каком жанре я доеду до Петушков… От самой Москвы все были философские эссе и мемуары, все были стихотворения в прозе…» (162); вот и на перегоне «Реутово – Никольсокое» мелькают тени А. Ремизова и В. Розанова[237 - Именно Розанов назвал Д. Мережковского «певцом “белой дьяволицы”», по названию первой книги II тома трилогии Мережковского «Христос и Антихрист» (Власов. С. 239).]; то узнается ремизовский сказ («…там в дымных и вшивых хоромах»), то розановский прием, парадоксально совмещающий ангелов, Царицу небесную и стакан орехов. Свободное, личное высказывание, столь близкое по духу самому Ерофееву, как бы становится итогом Веничкиного мини-экскурса в историю повествовательных форм и высшим выражением его «всемирной отзывчивости».
Однако есть и еще один секрет в чрезвычайно пестрой интертекстуальной мозаике первых путевых главок: рамой всей этой части «Москвы – Петушков» являются отсылки к великим трагедиям; в ее начале борющийся с тошнотой Веничка разыгрывает шекспировского «Отелло» – ближе к концу, перед самым Реутовым, герой Ерофеева описывает борьбу сердца с рассудком, «как в трагедиях Пьера Корнеля…» (141). И это символично – не только как предвестие предстоящей трагедии, но и как указание на тот неразрешимый конфликт, который раскрывается уже здесь, в начале пути. Веничка распахивает душу в своей «всемирной отзывчивости», а его отталкивают и гонят; он пьет «за здоровье всего прекрасного и высокого», а его приготовились «п…ть по законам добра и красоты» (141). Соседи-собутыльники «отстраняют» Веничку (134), дамы «по всей петушинской ветке» – «понимают» его «строго наоборот» (136), товарищи по бригаде и начальство – распинают («Распятие совершилось – ровно через тридцать дней после Вознесения», 140), ангелы – порицают («Фффу!», 141). Все оборачивается против любящего мир героя – даже философские категории: вот «умный-умный в коверкотовом пальто» профанирует интимный ритуал выпивки, всуе повторяя «трас-цен-ден-тально» (133), вот собутыльники используют гегелевскую диалектику, чтобы уличить гордеца («Ты негативно утверждаешь», 135), вот втуне пропадают его «кантовские» оправдания перед дамами («…пукнуть – это ведь так ноуменально…», 136), вот, наконец, «философия истории» того же Гегеля (141) предвещает, что Веничку будут бить.
В какой роли, таким образом, оказывается любовно вышедший в мир герой – в главках между маской Отелло и маской Сида? Через все комические призмы – главным трагическим героем, в роли Гамлета («вдумчивого принца-аналитика», 141), захваченного к тому же пастернаковской стихией всеприятия. Едва проехав Карачарово, ерофеевский герой уже глядит в глаза своего народа совсем по-пастернаковски, расширительно перифразируя стихи эпохи «Тем и вариаций»:
Где вечер пуст, как прерванный рассказ,
Оставленный звездой без продолженья
К недоуменью тысяч шумных глаз,
Бездонных и лишенных выраженья[238 - Стихотворение «Весна, я с улицы, где тополь удивлен…», 1918 (Пастернак Б. Полное собрание сочинений: в 11 т. Т. 1. М., 2003. С. 199). О том, что совпадение строк неслучайно, свидетельствует пометка от 1964 года в записной книжке Ерофеева: «“Глаза бездонные и лишенные выражения” (Б. Пастернак)» (Ерофеев В. Записные книжки 1960-х годов. С. 188).].
Когда же Веничка доезжает до Реутова, может быть, как раз ассоциация с другим знаменитым стихотворением Пастернака приводит к соединению «любовного» анализа Гамлета с великой жертвой Христа («Распятие свершилось»). Так Веничка, только опохмелившись, сразу спешит вправить «сустав времени», преодолеть «море бед» и при этом готов принять муки крестного пути. И от чаши, конечно, – не отказывается.
Глава третья
Венедикт:
Орехово-Зуево – Владимир
«Я ушел тихонько, без всяких эффектов», – вспоминал Ерофеев в интервью с Л. Прудовским свое расставание с филологическим факультетом МГУ[239 - Ерофеев В. Мой очень жизненный путь. С. 495.]. На самом деле, уйти совсем «тихонько» не получилось. Под разнообразными предлогами Венедикт, сколько мог, не выселялся из университетского общежития, ведь жить ему в Москве было решительно негде. Наконец администрации это надоело, и 8 февраля 1957 года Ерофеева со скандалом выдворили со Стромынки.
С этого выселения начался долгий период его бродяжничества и ночлегов у друзей, подруг, знакомых и родственников, в общежитиях педагогических институтов и рабочих контор, в съемных комнатах, на дачах, в экспедиционных палатках, а то и просто под открытым небом. «Он по природе своей был очень бездомным человеком», – резюмировал Владимир Муравьев[240 - Там же. С. 583.]. «“Москва – Петушки” – это то, что вызревало в нем с конца 1950-х», – свидетельствует филолог Николай Котрелев, не в последнюю очередь имея в виду скитальческий опыт Ерофеева[241 - См.: Россия – Russia. Семидесятые как предмет истории русской культуры. М.; Венеция, 1998. С. 14.].
«Не вино и не бабы сгубили молодость мою. Но подмосковные электропоезда ее сгубили», – отметил Ерофеев в записной книжке 1973 года[242 - Ерофеев В. Записные книжки. Книга вторая. С. 44.]. «Лет восемь или десять мы жили в железнодорожных тупиках, – лишь самую малость сгущая краски, рассказывал о второй половине 1960-х – начале 1970-х годов и тогдашнем быте Ерофеева и его компании один из ее участников, Игорь Авдиев. – Мы садились в электричку и ехали по старому любимому маршруту, до Петушков. А потом последний поезд загоняли в тупик, и там, в тупиках, приходилось ночевать»[243 - Документальный фильм «Москва – Петушки» (режиссер П. Павликовский). URL: https://www.youtube.com/watch?v=WHvNN0r_A8w.]. Он же вполне убедительно обосновал одну из главных причин, заставлявших Ерофеева в юности постоянно переезжать с места на место и бросать один институт за другим, – нежелание служить в армии: «С 1963 по 1973 гг. Венедикт имел работу в СУС-5 (Специализированное управление связи), пристанище (вагончики, общежития), убежище: на этой работе не требовали прописки и приписки. Последнее место, где гражданин В. В. Ерофеев был прописан, это Павловский Посад, и там же приписан к местному горвоенкомату в 1958 году. После этого “гражданин” (со священной обязанностью перед Родиной) исчез. Можно удивляться, с какой легкостью Венедикт оставляет институты, сам провоцирует изгнание себя из общежитий этих институтов, если только не понимать всей подоплеки этих поступков. Я шел по следам Венедикта и знаю: после исключения из первого института я поступил в следующий, но не мог прописаться в общежитии – уже был объявлен всесоюзный розыск дезертира»[244 - Авдиев И. Предисловие // Ерофеев В. Последний дневник (сентябрь 1989 г. – март 1990 г.) // Новое литературное обозрение. 1996. № 18. С. 164.]. Относительно «всесоюзного розыска» Авдиев несколько погорячился, однако прикрепление к военкомату действительно было обязательным условием прописки для любого гражданина СССР. А с военкоматами и в те времена шутки были плохи.
Однако в феврале 1957 года до житья в вагончиках еще не доходило. Тогда Ерофеев коротал ночи у своей тети Авдотьи Карякиной, а также у друзей из университета и их знакомых. Тот же Николай Котрелев вспоминает, как Венедикт несколько раз оставался на ночь в коммуналке на Трубной улице, в комнате младшего брата Владимира Муравьева, Леонида (Ледика[245 - Упоминается вместе с братом Владимиром в главе «Черное – Купавна» поэмы «Москва – Петушки».]), и сосед Ледика по квартире потом ворчал: «Опять мурма?нский ночевал».
В начале марта Ерофеев устроился разнорабочим во второе строительное управление «Ремстройтреста» Краснопресненского района и получил комнату в общежитии этого треста. На инерционной волне студенческой дружбы сюда к нему несколько раз заглядывали прежние товарищи. «Была осень 1957 года, наш курс жил еще на Стромынке, – вспоминает Юрий Романеев. – Леня Самосейко сказал мне, что у Вени день рождения, и я смог бы его поздравить, только непременно с бутылкой водки. Дал мне Леня адрес, по которому я в вечерней Москве легко нашел новое Венино обиталище. Именинник оказался дома. В комнате было несколько кроватей с тумбочками при них. На Вениной тумбочке возвышалась стопка книг. Это было дореволюционное издание Фета. Кажется, в комнате были и другие жильцы, но в общение с нами они не вступали. И сам я долго не засиделся, поздравил Веню посредством бутылки и вскоре ретировался на Стромынку»[246 - Романеев Ю. Мой Радциг, мои Дератани. С. 215.].
Упоминание про «стопку книг» на тумбочке Ерофеева – это деталь характерная и весьма значимая. Где бы он ни жил, в каких бы трудных условиях ни оказывался, его всегда сопровождало множество книг. «У Ерофеева была удивительная способность русского человека к самообразованию, то есть – способность без учителей начитать огромное количество материала, – рассказывает Алексей Муравьев. – Я думаю, что первоначальный разгон у него был такой сильный, что на этом разгоне он много чего освоил. Читал он постоянно». «Ерофеев не был систематически образованным человеком, однако знал очень много и этим знанием не подавлял. Цену себе знал, но держался с непоказной скромностью», – вспоминает Николай Котрелев. «Чаще всего, когда все были на лекциях, он читал лежа. И все свои знания он приобретал именно так – самоподготовкой и запойным чтением», – рассказывает Виктор Евсеев[247 - Евсеев В. Он был белой вороной // Орехово-Зуевский литературный альманах. С. 466.]. «Он всю жизнь читал, читал очень много, – свидетельствовал Владимир Муравьев. – Мог месяцами просиживать в Исторической библиотеке, а восприимчивость у него была великолепная»[248 - Ерофеев В. Мой очень жизненный путь. С. 574.]. «У него были большие амбарные тетради, в которые он записывал то, что ему было неизвестно и что он хотел бы узнать, например, списки композиторов, музыку которых он еще не слушал», – рассказывает пианист Януш Гжелёнзка.
Посетила Ерофеева в общежитии «Ремстройтреста» и сестра Нина Фролова: «Я поехала к Венедикту, его проведать. Какой-то мужичок все мне пытался что-то о Венедикте сказать, а Венедикт ему не давал, потому что мама еще была жива тогда и Венедикт скрывал, что в университете уже не учится. И я помню, вид у него, конечно, был не очень-то… Я помню, я ему еще брюки отглаживала»[249 - Острова.].
Совсем по-другому описывает встречу с Ерофеевым и его новыми соседями Владимир Муравьев: «…общежитие его было возле Красной Пресни. Когда я туда пришел, все простые рабочие на задних лапках перед ним танцевали, а главное – все они принялись писать стихи, читать, разговаривать о том, что им несвойственно. (Веничка эти стихи обрабатывал, а потом сделал совершенно потрясающую “Антологию стихов рабочего общежития”. Кое-что, конечно, сам написал.) Я спрашивал у Венички, как удалось так на них повлиять, но в этом не было ничего намеренного. Он просто заражал совершенно неподдельным, настоящим и внутренним интересом к литературе. Он действительно был человеком литературы, слова. Рожденным словом, существующим со словесностью»[250 - Ерофеев В. Мой очень жизненный путь. С. 578.]. Проблема истинного вклада рабочих в «Антологию» остается открытой. Например, Пранасу Яцкявичусу (Моркусу) на вопрос «Там все стихи написал ты?» Ерофеев ответил: «Да, все сам»[251 - Про Веничку. С. 68.].
Некоторые из стихотворений, вошедших в «Антологию стихов рабочего общежития», сохранились. Приведем здесь три из них, впервые опубликованные Борисом Успенским.
Автором первого значится Василий Павлович Пион:
Граждане! Целиком обратитесь в слух!
Я прочитаю замечательный стих!
Если вы скажете: «Я оглох!»,
Я вам скажу: «Ах!»
Если кто-нибудь от болезни слёх,
Немедленно поезжайте на юх!
Правда, туда не берут простых,
Ну, да ладно, останемся! Эх![252 - Материалы к биографии и творчеству Венедикта Ерофеева // Varietas Et Concordia: No. 31: Essays in Honour of Pekka Pesonen. Slavica Helsingiensia Paperback. October, 2007. Helsinki, 2007. P. 503–504.]
Второе стихотворение с заголовком «Инфаркт миокарда», подписано псевдонимом «Огненно рыжий завсегдатай», который сразу же и раскрывается – автором числится А. А. Осеенко:
Сегодня я должен О. З. <очень заболеть>
Чтобы завтра до вечера Л., <лежать>
Мне очень не хочется С. <спать>
Но больше не хочется Р. <работать>
С утра надо выпить К. Д. <кило денатурата>
Потом пробежать К. Э. Т. <километров этак триста>
И то, что П. З. М. Ц. Д.
З. С. У. Б. В. С. А. Т.[253 - Материалы к биографии и творчеству Венедикта Ерофеева. С. 504. «П. З. М. Ц. Д.» Пранас Яцкявичус (Моркус) предлагает расшифровывать как «придется зверски мучиться целый день»), а «З. С. У. Б. В. С. А. Т.» как «зато с утра буду в состоянии абсолютной трезвости» (Про Веничку. С. 75).]
Жанр третьего стихотворения обозначен как эпиграмма, авторы Ряховский и Волкович, а обращена эта эпиграмма к самому Ерофееву:
Ты, в дни безденежья глотающий цистернами,
В дни ликования – мрачней свиньи,
Перед расстрелом справишься, наверное,
В каком году родился де Виньи![254 - Материалы к биографии и творчеству Венедикта Ерофеева. С. 503.]
Чтобы у читателя не возникало иллюзий относительно достигнутого в случае Ерофеева духовного единения интеллигента и простого народа, приведем здесь откровенный фрагмент из ерофеевской записной книжки 1966 года: «…мне ненавистен “простой человек”, т. е. ненавистен постоянно и глубоко, противен и в занятости, и в досуге, в радости и в слезах, в привязанностях и в злости, и все его вкусы, и манеры, и вся его “простота”, наконец»[255 - Ерофеев В. Записные книжки 1960-х годов. С. 479.]. Очевидно, Ерофееву были абсолютно чужды как толстовская последовательная программа просвещения «простого человека», так и страстное толстовское желание опроститься самому. Может быть, поэтому он и не испытывал никаких трудностей при общении с «простыми рабочими»? Тон и стиль этого общения попытался передать в своих, к сожалению, чуть беллетризованных воспоминаниях о Ерофееве и Вадиме Тихонове Игорь Авдиев: «Не успели мы шлепнуть по маленькой, в комнату к нам стали всовываться коллеги Вени, работяги. Они были стыдливы. В них не было наглости и панибратства.
– Ну-ну, заходите, суки, – нехотя разрешил Веня. – Нальем им чуток? – Мы с Вадей согласились.
В комнату наползло человек пять-шесть. Что это были за люди? С ревнивым интересом я вглядывался в этих людей. Тихонов всех знал, он работал с ними. С Тихоновым они были на равных. А к Вене они относились с почтением.
Один из работяг, выпив, начал спрашивать у Вени что-то “умное”.
– О дурак! Откуда ты это взял? – отмахнулся Веня.
– Да ты же, Веничка, сам советовал почитать… – виновато промямлил пожилой обормот… – Вот я и взял в библиотеке книгу. – Вот – “Давид Строитель”…»[256 - Ерофеев В. Мой очень жизненный путь. С. 549.]
11 ноября 1957 года Ерофеева уволили из «Ремстройтреста» за систематические прогулы. При этом «Стройтрестовское начальство настрочило на Ерофеева несколько доносов в местную милицию с требованием “принять меры” <…> И милицейское начальство запретило ему покидать место обитания – общагу строительных рабочих в Новопресненском переулке – до рассмотрения заведенных на него дел в местном райсуде. Узнав об этом, Ерофеев из общаги спешно бежал и перешел на нелегальное положение»[257 - Матвеев П. Венедикт Ерофеев и КГБ // Colta.ru. 2014. 4 июня. URL: http://www.colta.ru/articles/literature/3459.].
Тем не менее в Москве Ерофеев прожил до лета 1958 года, успев поработать кочегаром и подсобным рабочим в пункте приема стеклотары[258 - Об этой работе Ерофеев позднее рассказывал Пранасу Яцкявичусу (Моркусу): «Вот сидим мы с приятелем в вагончике для приема стеклотары, в темноте, разговариваем себе, ночь, тишина… Как вдруг – бабах по ставням! Они снаружи обиты жестью, грохот адский, крики. Мы притихли, молчим, слушаем. А оттуда: “Пора открывать, вам говорят! На часы посмотрите! Вешать таких мало!”» (Про Веничку. С. 70).]. Лето он провел в Кировске, а осенью 1958 года уехал в украинский город Славянск, где его сестра Нина работала с июня 1951 года в геолого-разведочной партии.
С Ниной Фроловой и ее мужем Юрием Ерофеев 24 октября 1958 года встретил в Славянске тот свой день рождения, который описан в «Москве – Петушках»: «…когда мне стукнуло 20 лет, – тогда я был безнадежно одинок. И день рождения был уныл. Пришел ко мне Юрий Петрович, пришла Нина Васильевна, принесли мне бутылку столичной и банку овощных голубцов, – и таким одиноким, таким невозможно одиноким показался я сам себе от этих голубцов, от этой столичной – что, не желая плакать, заплакал» (152). В декабре по протекции Юрия Фролова Ерофеев устроился грузчиком в отдел снабжения местного ремонтного завода, а в апреле перешел в Славянский отряд Артемовской комплексной геолого-разведочной партии. «Он был рабочим на глинистой станции, – рассказывает Нина Фролова. – Поскольку мы разведку делали на соляном месторождении, при бурении велась промывка глинистым раствором. И он там работал. Венедикт пишет в краткой автобиографии, что работал бурильщиком, но никогда он бурильщиком не был. Просто бурильщик – это звучит более романтично, чем просто рабочий. Там работали в основном женщины и он, в окружении женщин, молодой, красивый, вечно с записными книжками… Конечно, он там не особенно работал, а просто общался. И женщины от него были в восторге. Венедикт, он ни в чем не знал меры. Хотя тогда совсем еще был юный мальчик. Он безбожно много курил… Он даже ночью курил, как старики делают». «В эту пору он составлял “Антологию русской поэзии”, – вспоминает она же. – <…> Любил петь романсы. Научил мою пятилетнюю дочь Лену петь “На заре ты ее не буди”. К моей младшей дочери Марине относился с нежностью. При прощании поцеловал ее, а она заплакала. Хотя, по его словам, он не признавал родственных отношений»[259 - Про Веничку. С. 10.].
Страсть Венедикта Ерофеева к составлению всевозможных антологий (например, «стихов рабочего общежития» в Москве или «русской поэзии» в Славянске) вытекала из того основополагающего свойства его личности, которое позднее отразилось и в знаменитых графиках из «Москвы – Петушков». Ерофеев был одержим идеей систематизации всего, что он по-настоящему любил и ценил в жизни, будь то стихотворения русских поэтов, или количество выпитых каждый день граммов[260 - И не только им самим. Борис Сорокин рассказывал нам, как Венедикт читал Хемингуэя, подсчитывая, «сколько он выпил мартини за один день».], или найденные в течение лета и осени грибы, или свидания с любимой девушкой. Причем желание все описать и систематизировать не противостояло в сознании Ерофеева хаосу его беспорядочной жизни, а мирно уживалось с ним.
Вероятно, как раз стремление все-таки продолжить регулярное, систематическое образование (и конечно, необходимость обрести постоянный кров) побудили Ерофеева 14 июля 1959 года подать документы на филологический факультет Орехово-Зуевского педагогического института. Он «сразу обратил на себя внимание необыкновенной эрудицией. В конце августа прошел слух, что в институт поступил молодой человек необыкновенных способностей. Это сообщил моей жене ее отец – заведующий кафедрой педагогики и психологии А. В. Осоков»[261 - Евсеев В. Он был белой вороной // Орехово-Зуевский литературный альманах. С. 465.]. «Его появление произвело некий фурор – о нем говорили все»[262 - Жарова Л. Веничка, или Речь в защиту… // Орехово-Зуевский литературный альманах. С. 468.] – так описывают яркий дебют Ерофеева в ОЗПИ его сокурсники Виктор Евсеев и Лидия Жарова.
Выбор именно этого института, если верить самому Ерофееву, был осуществлен наобум, куда бог пошлет: «…я бы так и исцвел на Украине в 59-м году, если бы мне один подвыпивший приятель не предложил: вот перед тобой глобус, ты его раскрути, Ерофеев, зажмурь глаза, раскрути и ткни пальцем. Я его взял, я его раскрутил, я зажмурил глаза и ткнул пальцем – и попал в город Петушки <…> Потом я посмотрел, чего поблизости есть из высших учебных заведений, а поблизости из высших учебных заведений был Владимирский пединститут»[263 - Ерофеев В. Мой очень жизненный путь. С. 496.]. Что? и говорить, история замечательная, прямо из «Москвы – Петушков», но и откровенно завиральная. А что если Ерофеев ткнул бы пальцем в какую-нибудь Бельгию или Аргентину? На каком это глобусе он нашел город Петушки или хотя бы Владимир? А главное, если нашел Владимир и узнал, что там есть педагогический институт (откуда, кстати, узнал?), почему тогда документы подал в Орехово-Зуево, а во Владимирский пединститут поступил только в июне 1961 года?
«Когда было Орехово-Зуево, когда – Владимир и все остальное, я уже не разбирал, – рассказывал в своих мемуарах о Ерофееве друг Муравьев. – Он приезжал ко мне и высыпа?л, как из рога изобилия: “Давай я тебе составлю списки русских городов. Ты их читай по-разному: сначала по алфавиту, потом – в обратном направлении”. Из него сыпало все что угодно: Коломенское, Павлово-Посад, Владимир-на-Клязьме. Он говорил: “Я люблю двойные имена”. Приезжая, сообщал: “Я привез тебе рапорт о достижениях”»[264 - Ерофеев В. Мой очень жизненный путь. С. 575.].
Что? происходило в жизни Ерофеева в орехово-зуевский, а что во владимирский период перепутать, действительно, немудрено. Например, знанием Библии Ерофеев поражал своих товарищей не только по Владимирскому, но и по Орехово-Зуевскому пединституту. «Его аргументами в споре, как правило, были цитаты из Евангелия, о котором мы, полностью погруженные в коммунистическую атмосферу, тогда и не слыхивали», – вспоминает Виктор Евсеев[265 - Евсеев В. Он был белой вороной. С. 466.]. И посещать действующие церкви Венедикт подбивал своих институтских приятелей и приятельниц и во Владимире, и в Орехово-Зуеве. «Как-то по приглашению Веньки мы группкой – трое ребят, две девчонки – тайком отправились на ночную службу в церковь (Рождество? Пасха?), а затем на кладбище, – пишет Лидия Жарова. – Это был поступок, – посещение церковных служб тогда не поощрялось. Венька рассказывал о сути христианства, о его исторических корнях, и то, о чем он говорил, поражало нас своей новизной и неадекватностью господствовавшим тогда взглядам»[266 - Жарова Л. Веничка, или Речь в защиту… С. 470.]. «Единственное, что для нас было важно, что он светился, а мы рядышком с ним были как маленькие свечечки. Мы тогда впервые вошли в церковь, чувствовали себя первохристианами», – рассказывает владимирский друг Ерофеева Вячеслав Улитин[267 - Интервью В. Улитина А. Агапову.].
Стремясь избежать путаницы, условимся орехово-зуевский отрезок ерофеевской биографии считать прошедшим в первую очередь под знаком любви, а владимирский – под знаком дружбы[268 - Сразу же отметим, что в Орехово-Зуеве Ерофеев продолжал литературные опыты. «Своих рукописей в руки он не давал, но я знаю, что он начинал работу (пьесу? повесть?) под названием “Тушинский вор, или Второе воскресение”. Время действия – начало 17 века, герой – второй Лжедмитрий. <…> Что-то мне удалось подсмотреть в его тетради <…> Помню, поразил не только почерк (как одиноки были несоединенные друг с другом буквы!), но и манера изложения – для каждого персонажа своя. Помню, как Дмитрий (в отчаянии?) пытался отравить себя водкой, с каким убийственным презрением была подана изменившая первому Дмитрию Марина Мнишек…» – вспоминает Лидия Жарова о не дошедшей до нас повести или пьесе Ерофеева этого времени (Жарова Л. Веничка, или Речь в защиту… С. 470–471).].
Прежде чем речь пойдет о взаимоотношениях Ерофеева с орехово-зуевскими девушками, коротко расскажем об условиях быта в ОЗПИ и, собственно, отношении Ерофеева к учебе. «Лекции он не посещал принципиально, считал это пустой тратой времени, – свидетельствует Виктор Евсеев и рассказывает, как Ерофеев поспорил, что «первым перед началом сессии пойдет и сдаст самый трудный тогда экзамен по старославянскому языку на “отлично”. Зная, что Венька вообще не посещал никаких занятий, ребята смело поспорили с ним на бутылку коньяка. Каково же было их изумление, когда суровый преподаватель поставил ему “отлично”»[269 - Евсеев В. Он был белой вороной. С. 466.]. «Ходил он избирательно – только на лекции по зарубежной литературе, – уточняет студентка ОЗПИ Лидия Жарова. – У нас в ту пору считалось признаком дурного тона не ходить “на Савицкого” – он был любимейшим из любимейших преподавателей наших. Как он читал Вергилия – на латыни! <…> Когда Ерофеев появлялся на галерке нашей просторной аудитории, всем нам нестерпимо хотелось обернуться, но останавливал риск нарваться на спокойный, насмешливый взгляд. Нам казалось, что Савицкий был польщен тем, что неординарный Ерофеев оказывал предпочтение только ему. Мы несколько раз видели их за оживленной беседой»[270 - Жарова Л. Веничка, или Речь в защиту… С. 468–469.].
Однако есть и еще один секрет в чрезвычайно пестрой интертекстуальной мозаике первых путевых главок: рамой всей этой части «Москвы – Петушков» являются отсылки к великим трагедиям; в ее начале борющийся с тошнотой Веничка разыгрывает шекспировского «Отелло» – ближе к концу, перед самым Реутовым, герой Ерофеева описывает борьбу сердца с рассудком, «как в трагедиях Пьера Корнеля…» (141). И это символично – не только как предвестие предстоящей трагедии, но и как указание на тот неразрешимый конфликт, который раскрывается уже здесь, в начале пути. Веничка распахивает душу в своей «всемирной отзывчивости», а его отталкивают и гонят; он пьет «за здоровье всего прекрасного и высокого», а его приготовились «п…ть по законам добра и красоты» (141). Соседи-собутыльники «отстраняют» Веничку (134), дамы «по всей петушинской ветке» – «понимают» его «строго наоборот» (136), товарищи по бригаде и начальство – распинают («Распятие совершилось – ровно через тридцать дней после Вознесения», 140), ангелы – порицают («Фффу!», 141). Все оборачивается против любящего мир героя – даже философские категории: вот «умный-умный в коверкотовом пальто» профанирует интимный ритуал выпивки, всуе повторяя «трас-цен-ден-тально» (133), вот собутыльники используют гегелевскую диалектику, чтобы уличить гордеца («Ты негативно утверждаешь», 135), вот втуне пропадают его «кантовские» оправдания перед дамами («…пукнуть – это ведь так ноуменально…», 136), вот, наконец, «философия истории» того же Гегеля (141) предвещает, что Веничку будут бить.
В какой роли, таким образом, оказывается любовно вышедший в мир герой – в главках между маской Отелло и маской Сида? Через все комические призмы – главным трагическим героем, в роли Гамлета («вдумчивого принца-аналитика», 141), захваченного к тому же пастернаковской стихией всеприятия. Едва проехав Карачарово, ерофеевский герой уже глядит в глаза своего народа совсем по-пастернаковски, расширительно перифразируя стихи эпохи «Тем и вариаций»:
Где вечер пуст, как прерванный рассказ,
Оставленный звездой без продолженья
К недоуменью тысяч шумных глаз,
Бездонных и лишенных выраженья[238 - Стихотворение «Весна, я с улицы, где тополь удивлен…», 1918 (Пастернак Б. Полное собрание сочинений: в 11 т. Т. 1. М., 2003. С. 199). О том, что совпадение строк неслучайно, свидетельствует пометка от 1964 года в записной книжке Ерофеева: «“Глаза бездонные и лишенные выражения” (Б. Пастернак)» (Ерофеев В. Записные книжки 1960-х годов. С. 188).].
Когда же Веничка доезжает до Реутова, может быть, как раз ассоциация с другим знаменитым стихотворением Пастернака приводит к соединению «любовного» анализа Гамлета с великой жертвой Христа («Распятие свершилось»). Так Веничка, только опохмелившись, сразу спешит вправить «сустав времени», преодолеть «море бед» и при этом готов принять муки крестного пути. И от чаши, конечно, – не отказывается.
Глава третья
Венедикт:
Орехово-Зуево – Владимир
«Я ушел тихонько, без всяких эффектов», – вспоминал Ерофеев в интервью с Л. Прудовским свое расставание с филологическим факультетом МГУ[239 - Ерофеев В. Мой очень жизненный путь. С. 495.]. На самом деле, уйти совсем «тихонько» не получилось. Под разнообразными предлогами Венедикт, сколько мог, не выселялся из университетского общежития, ведь жить ему в Москве было решительно негде. Наконец администрации это надоело, и 8 февраля 1957 года Ерофеева со скандалом выдворили со Стромынки.
С этого выселения начался долгий период его бродяжничества и ночлегов у друзей, подруг, знакомых и родственников, в общежитиях педагогических институтов и рабочих контор, в съемных комнатах, на дачах, в экспедиционных палатках, а то и просто под открытым небом. «Он по природе своей был очень бездомным человеком», – резюмировал Владимир Муравьев[240 - Там же. С. 583.]. «“Москва – Петушки” – это то, что вызревало в нем с конца 1950-х», – свидетельствует филолог Николай Котрелев, не в последнюю очередь имея в виду скитальческий опыт Ерофеева[241 - См.: Россия – Russia. Семидесятые как предмет истории русской культуры. М.; Венеция, 1998. С. 14.].
«Не вино и не бабы сгубили молодость мою. Но подмосковные электропоезда ее сгубили», – отметил Ерофеев в записной книжке 1973 года[242 - Ерофеев В. Записные книжки. Книга вторая. С. 44.]. «Лет восемь или десять мы жили в железнодорожных тупиках, – лишь самую малость сгущая краски, рассказывал о второй половине 1960-х – начале 1970-х годов и тогдашнем быте Ерофеева и его компании один из ее участников, Игорь Авдиев. – Мы садились в электричку и ехали по старому любимому маршруту, до Петушков. А потом последний поезд загоняли в тупик, и там, в тупиках, приходилось ночевать»[243 - Документальный фильм «Москва – Петушки» (режиссер П. Павликовский). URL: https://www.youtube.com/watch?v=WHvNN0r_A8w.]. Он же вполне убедительно обосновал одну из главных причин, заставлявших Ерофеева в юности постоянно переезжать с места на место и бросать один институт за другим, – нежелание служить в армии: «С 1963 по 1973 гг. Венедикт имел работу в СУС-5 (Специализированное управление связи), пристанище (вагончики, общежития), убежище: на этой работе не требовали прописки и приписки. Последнее место, где гражданин В. В. Ерофеев был прописан, это Павловский Посад, и там же приписан к местному горвоенкомату в 1958 году. После этого “гражданин” (со священной обязанностью перед Родиной) исчез. Можно удивляться, с какой легкостью Венедикт оставляет институты, сам провоцирует изгнание себя из общежитий этих институтов, если только не понимать всей подоплеки этих поступков. Я шел по следам Венедикта и знаю: после исключения из первого института я поступил в следующий, но не мог прописаться в общежитии – уже был объявлен всесоюзный розыск дезертира»[244 - Авдиев И. Предисловие // Ерофеев В. Последний дневник (сентябрь 1989 г. – март 1990 г.) // Новое литературное обозрение. 1996. № 18. С. 164.]. Относительно «всесоюзного розыска» Авдиев несколько погорячился, однако прикрепление к военкомату действительно было обязательным условием прописки для любого гражданина СССР. А с военкоматами и в те времена шутки были плохи.
Однако в феврале 1957 года до житья в вагончиках еще не доходило. Тогда Ерофеев коротал ночи у своей тети Авдотьи Карякиной, а также у друзей из университета и их знакомых. Тот же Николай Котрелев вспоминает, как Венедикт несколько раз оставался на ночь в коммуналке на Трубной улице, в комнате младшего брата Владимира Муравьева, Леонида (Ледика[245 - Упоминается вместе с братом Владимиром в главе «Черное – Купавна» поэмы «Москва – Петушки».]), и сосед Ледика по квартире потом ворчал: «Опять мурма?нский ночевал».
В начале марта Ерофеев устроился разнорабочим во второе строительное управление «Ремстройтреста» Краснопресненского района и получил комнату в общежитии этого треста. На инерционной волне студенческой дружбы сюда к нему несколько раз заглядывали прежние товарищи. «Была осень 1957 года, наш курс жил еще на Стромынке, – вспоминает Юрий Романеев. – Леня Самосейко сказал мне, что у Вени день рождения, и я смог бы его поздравить, только непременно с бутылкой водки. Дал мне Леня адрес, по которому я в вечерней Москве легко нашел новое Венино обиталище. Именинник оказался дома. В комнате было несколько кроватей с тумбочками при них. На Вениной тумбочке возвышалась стопка книг. Это было дореволюционное издание Фета. Кажется, в комнате были и другие жильцы, но в общение с нами они не вступали. И сам я долго не засиделся, поздравил Веню посредством бутылки и вскоре ретировался на Стромынку»[246 - Романеев Ю. Мой Радциг, мои Дератани. С. 215.].
Упоминание про «стопку книг» на тумбочке Ерофеева – это деталь характерная и весьма значимая. Где бы он ни жил, в каких бы трудных условиях ни оказывался, его всегда сопровождало множество книг. «У Ерофеева была удивительная способность русского человека к самообразованию, то есть – способность без учителей начитать огромное количество материала, – рассказывает Алексей Муравьев. – Я думаю, что первоначальный разгон у него был такой сильный, что на этом разгоне он много чего освоил. Читал он постоянно». «Ерофеев не был систематически образованным человеком, однако знал очень много и этим знанием не подавлял. Цену себе знал, но держался с непоказной скромностью», – вспоминает Николай Котрелев. «Чаще всего, когда все были на лекциях, он читал лежа. И все свои знания он приобретал именно так – самоподготовкой и запойным чтением», – рассказывает Виктор Евсеев[247 - Евсеев В. Он был белой вороной // Орехово-Зуевский литературный альманах. С. 466.]. «Он всю жизнь читал, читал очень много, – свидетельствовал Владимир Муравьев. – Мог месяцами просиживать в Исторической библиотеке, а восприимчивость у него была великолепная»[248 - Ерофеев В. Мой очень жизненный путь. С. 574.]. «У него были большие амбарные тетради, в которые он записывал то, что ему было неизвестно и что он хотел бы узнать, например, списки композиторов, музыку которых он еще не слушал», – рассказывает пианист Януш Гжелёнзка.
Посетила Ерофеева в общежитии «Ремстройтреста» и сестра Нина Фролова: «Я поехала к Венедикту, его проведать. Какой-то мужичок все мне пытался что-то о Венедикте сказать, а Венедикт ему не давал, потому что мама еще была жива тогда и Венедикт скрывал, что в университете уже не учится. И я помню, вид у него, конечно, был не очень-то… Я помню, я ему еще брюки отглаживала»[249 - Острова.].
Совсем по-другому описывает встречу с Ерофеевым и его новыми соседями Владимир Муравьев: «…общежитие его было возле Красной Пресни. Когда я туда пришел, все простые рабочие на задних лапках перед ним танцевали, а главное – все они принялись писать стихи, читать, разговаривать о том, что им несвойственно. (Веничка эти стихи обрабатывал, а потом сделал совершенно потрясающую “Антологию стихов рабочего общежития”. Кое-что, конечно, сам написал.) Я спрашивал у Венички, как удалось так на них повлиять, но в этом не было ничего намеренного. Он просто заражал совершенно неподдельным, настоящим и внутренним интересом к литературе. Он действительно был человеком литературы, слова. Рожденным словом, существующим со словесностью»[250 - Ерофеев В. Мой очень жизненный путь. С. 578.]. Проблема истинного вклада рабочих в «Антологию» остается открытой. Например, Пранасу Яцкявичусу (Моркусу) на вопрос «Там все стихи написал ты?» Ерофеев ответил: «Да, все сам»[251 - Про Веничку. С. 68.].
Некоторые из стихотворений, вошедших в «Антологию стихов рабочего общежития», сохранились. Приведем здесь три из них, впервые опубликованные Борисом Успенским.
Автором первого значится Василий Павлович Пион:
Граждане! Целиком обратитесь в слух!
Я прочитаю замечательный стих!
Если вы скажете: «Я оглох!»,
Я вам скажу: «Ах!»
Если кто-нибудь от болезни слёх,
Немедленно поезжайте на юх!
Правда, туда не берут простых,
Ну, да ладно, останемся! Эх![252 - Материалы к биографии и творчеству Венедикта Ерофеева // Varietas Et Concordia: No. 31: Essays in Honour of Pekka Pesonen. Slavica Helsingiensia Paperback. October, 2007. Helsinki, 2007. P. 503–504.]
Второе стихотворение с заголовком «Инфаркт миокарда», подписано псевдонимом «Огненно рыжий завсегдатай», который сразу же и раскрывается – автором числится А. А. Осеенко:
Сегодня я должен О. З. <очень заболеть>
Чтобы завтра до вечера Л., <лежать>
Мне очень не хочется С. <спать>
Но больше не хочется Р. <работать>
С утра надо выпить К. Д. <кило денатурата>
Потом пробежать К. Э. Т. <километров этак триста>
И то, что П. З. М. Ц. Д.
З. С. У. Б. В. С. А. Т.[253 - Материалы к биографии и творчеству Венедикта Ерофеева. С. 504. «П. З. М. Ц. Д.» Пранас Яцкявичус (Моркус) предлагает расшифровывать как «придется зверски мучиться целый день»), а «З. С. У. Б. В. С. А. Т.» как «зато с утра буду в состоянии абсолютной трезвости» (Про Веничку. С. 75).]
Жанр третьего стихотворения обозначен как эпиграмма, авторы Ряховский и Волкович, а обращена эта эпиграмма к самому Ерофееву:
Ты, в дни безденежья глотающий цистернами,
В дни ликования – мрачней свиньи,
Перед расстрелом справишься, наверное,
В каком году родился де Виньи![254 - Материалы к биографии и творчеству Венедикта Ерофеева. С. 503.]
Чтобы у читателя не возникало иллюзий относительно достигнутого в случае Ерофеева духовного единения интеллигента и простого народа, приведем здесь откровенный фрагмент из ерофеевской записной книжки 1966 года: «…мне ненавистен “простой человек”, т. е. ненавистен постоянно и глубоко, противен и в занятости, и в досуге, в радости и в слезах, в привязанностях и в злости, и все его вкусы, и манеры, и вся его “простота”, наконец»[255 - Ерофеев В. Записные книжки 1960-х годов. С. 479.]. Очевидно, Ерофееву были абсолютно чужды как толстовская последовательная программа просвещения «простого человека», так и страстное толстовское желание опроститься самому. Может быть, поэтому он и не испытывал никаких трудностей при общении с «простыми рабочими»? Тон и стиль этого общения попытался передать в своих, к сожалению, чуть беллетризованных воспоминаниях о Ерофееве и Вадиме Тихонове Игорь Авдиев: «Не успели мы шлепнуть по маленькой, в комнату к нам стали всовываться коллеги Вени, работяги. Они были стыдливы. В них не было наглости и панибратства.
– Ну-ну, заходите, суки, – нехотя разрешил Веня. – Нальем им чуток? – Мы с Вадей согласились.
В комнату наползло человек пять-шесть. Что это были за люди? С ревнивым интересом я вглядывался в этих людей. Тихонов всех знал, он работал с ними. С Тихоновым они были на равных. А к Вене они относились с почтением.
Один из работяг, выпив, начал спрашивать у Вени что-то “умное”.
– О дурак! Откуда ты это взял? – отмахнулся Веня.
– Да ты же, Веничка, сам советовал почитать… – виновато промямлил пожилой обормот… – Вот я и взял в библиотеке книгу. – Вот – “Давид Строитель”…»[256 - Ерофеев В. Мой очень жизненный путь. С. 549.]
11 ноября 1957 года Ерофеева уволили из «Ремстройтреста» за систематические прогулы. При этом «Стройтрестовское начальство настрочило на Ерофеева несколько доносов в местную милицию с требованием “принять меры” <…> И милицейское начальство запретило ему покидать место обитания – общагу строительных рабочих в Новопресненском переулке – до рассмотрения заведенных на него дел в местном райсуде. Узнав об этом, Ерофеев из общаги спешно бежал и перешел на нелегальное положение»[257 - Матвеев П. Венедикт Ерофеев и КГБ // Colta.ru. 2014. 4 июня. URL: http://www.colta.ru/articles/literature/3459.].
Тем не менее в Москве Ерофеев прожил до лета 1958 года, успев поработать кочегаром и подсобным рабочим в пункте приема стеклотары[258 - Об этой работе Ерофеев позднее рассказывал Пранасу Яцкявичусу (Моркусу): «Вот сидим мы с приятелем в вагончике для приема стеклотары, в темноте, разговариваем себе, ночь, тишина… Как вдруг – бабах по ставням! Они снаружи обиты жестью, грохот адский, крики. Мы притихли, молчим, слушаем. А оттуда: “Пора открывать, вам говорят! На часы посмотрите! Вешать таких мало!”» (Про Веничку. С. 70).]. Лето он провел в Кировске, а осенью 1958 года уехал в украинский город Славянск, где его сестра Нина работала с июня 1951 года в геолого-разведочной партии.
С Ниной Фроловой и ее мужем Юрием Ерофеев 24 октября 1958 года встретил в Славянске тот свой день рождения, который описан в «Москве – Петушках»: «…когда мне стукнуло 20 лет, – тогда я был безнадежно одинок. И день рождения был уныл. Пришел ко мне Юрий Петрович, пришла Нина Васильевна, принесли мне бутылку столичной и банку овощных голубцов, – и таким одиноким, таким невозможно одиноким показался я сам себе от этих голубцов, от этой столичной – что, не желая плакать, заплакал» (152). В декабре по протекции Юрия Фролова Ерофеев устроился грузчиком в отдел снабжения местного ремонтного завода, а в апреле перешел в Славянский отряд Артемовской комплексной геолого-разведочной партии. «Он был рабочим на глинистой станции, – рассказывает Нина Фролова. – Поскольку мы разведку делали на соляном месторождении, при бурении велась промывка глинистым раствором. И он там работал. Венедикт пишет в краткой автобиографии, что работал бурильщиком, но никогда он бурильщиком не был. Просто бурильщик – это звучит более романтично, чем просто рабочий. Там работали в основном женщины и он, в окружении женщин, молодой, красивый, вечно с записными книжками… Конечно, он там не особенно работал, а просто общался. И женщины от него были в восторге. Венедикт, он ни в чем не знал меры. Хотя тогда совсем еще был юный мальчик. Он безбожно много курил… Он даже ночью курил, как старики делают». «В эту пору он составлял “Антологию русской поэзии”, – вспоминает она же. – <…> Любил петь романсы. Научил мою пятилетнюю дочь Лену петь “На заре ты ее не буди”. К моей младшей дочери Марине относился с нежностью. При прощании поцеловал ее, а она заплакала. Хотя, по его словам, он не признавал родственных отношений»[259 - Про Веничку. С. 10.].
Страсть Венедикта Ерофеева к составлению всевозможных антологий (например, «стихов рабочего общежития» в Москве или «русской поэзии» в Славянске) вытекала из того основополагающего свойства его личности, которое позднее отразилось и в знаменитых графиках из «Москвы – Петушков». Ерофеев был одержим идеей систематизации всего, что он по-настоящему любил и ценил в жизни, будь то стихотворения русских поэтов, или количество выпитых каждый день граммов[260 - И не только им самим. Борис Сорокин рассказывал нам, как Венедикт читал Хемингуэя, подсчитывая, «сколько он выпил мартини за один день».], или найденные в течение лета и осени грибы, или свидания с любимой девушкой. Причем желание все описать и систематизировать не противостояло в сознании Ерофеева хаосу его беспорядочной жизни, а мирно уживалось с ним.
Вероятно, как раз стремление все-таки продолжить регулярное, систематическое образование (и конечно, необходимость обрести постоянный кров) побудили Ерофеева 14 июля 1959 года подать документы на филологический факультет Орехово-Зуевского педагогического института. Он «сразу обратил на себя внимание необыкновенной эрудицией. В конце августа прошел слух, что в институт поступил молодой человек необыкновенных способностей. Это сообщил моей жене ее отец – заведующий кафедрой педагогики и психологии А. В. Осоков»[261 - Евсеев В. Он был белой вороной // Орехово-Зуевский литературный альманах. С. 465.]. «Его появление произвело некий фурор – о нем говорили все»[262 - Жарова Л. Веничка, или Речь в защиту… // Орехово-Зуевский литературный альманах. С. 468.] – так описывают яркий дебют Ерофеева в ОЗПИ его сокурсники Виктор Евсеев и Лидия Жарова.
Выбор именно этого института, если верить самому Ерофееву, был осуществлен наобум, куда бог пошлет: «…я бы так и исцвел на Украине в 59-м году, если бы мне один подвыпивший приятель не предложил: вот перед тобой глобус, ты его раскрути, Ерофеев, зажмурь глаза, раскрути и ткни пальцем. Я его взял, я его раскрутил, я зажмурил глаза и ткнул пальцем – и попал в город Петушки <…> Потом я посмотрел, чего поблизости есть из высших учебных заведений, а поблизости из высших учебных заведений был Владимирский пединститут»[263 - Ерофеев В. Мой очень жизненный путь. С. 496.]. Что? и говорить, история замечательная, прямо из «Москвы – Петушков», но и откровенно завиральная. А что если Ерофеев ткнул бы пальцем в какую-нибудь Бельгию или Аргентину? На каком это глобусе он нашел город Петушки или хотя бы Владимир? А главное, если нашел Владимир и узнал, что там есть педагогический институт (откуда, кстати, узнал?), почему тогда документы подал в Орехово-Зуево, а во Владимирский пединститут поступил только в июне 1961 года?
«Когда было Орехово-Зуево, когда – Владимир и все остальное, я уже не разбирал, – рассказывал в своих мемуарах о Ерофееве друг Муравьев. – Он приезжал ко мне и высыпа?л, как из рога изобилия: “Давай я тебе составлю списки русских городов. Ты их читай по-разному: сначала по алфавиту, потом – в обратном направлении”. Из него сыпало все что угодно: Коломенское, Павлово-Посад, Владимир-на-Клязьме. Он говорил: “Я люблю двойные имена”. Приезжая, сообщал: “Я привез тебе рапорт о достижениях”»[264 - Ерофеев В. Мой очень жизненный путь. С. 575.].
Что? происходило в жизни Ерофеева в орехово-зуевский, а что во владимирский период перепутать, действительно, немудрено. Например, знанием Библии Ерофеев поражал своих товарищей не только по Владимирскому, но и по Орехово-Зуевскому пединституту. «Его аргументами в споре, как правило, были цитаты из Евангелия, о котором мы, полностью погруженные в коммунистическую атмосферу, тогда и не слыхивали», – вспоминает Виктор Евсеев[265 - Евсеев В. Он был белой вороной. С. 466.]. И посещать действующие церкви Венедикт подбивал своих институтских приятелей и приятельниц и во Владимире, и в Орехово-Зуеве. «Как-то по приглашению Веньки мы группкой – трое ребят, две девчонки – тайком отправились на ночную службу в церковь (Рождество? Пасха?), а затем на кладбище, – пишет Лидия Жарова. – Это был поступок, – посещение церковных служб тогда не поощрялось. Венька рассказывал о сути христианства, о его исторических корнях, и то, о чем он говорил, поражало нас своей новизной и неадекватностью господствовавшим тогда взглядам»[266 - Жарова Л. Веничка, или Речь в защиту… С. 470.]. «Единственное, что для нас было важно, что он светился, а мы рядышком с ним были как маленькие свечечки. Мы тогда впервые вошли в церковь, чувствовали себя первохристианами», – рассказывает владимирский друг Ерофеева Вячеслав Улитин[267 - Интервью В. Улитина А. Агапову.].
Стремясь избежать путаницы, условимся орехово-зуевский отрезок ерофеевской биографии считать прошедшим в первую очередь под знаком любви, а владимирский – под знаком дружбы[268 - Сразу же отметим, что в Орехово-Зуеве Ерофеев продолжал литературные опыты. «Своих рукописей в руки он не давал, но я знаю, что он начинал работу (пьесу? повесть?) под названием “Тушинский вор, или Второе воскресение”. Время действия – начало 17 века, герой – второй Лжедмитрий. <…> Что-то мне удалось подсмотреть в его тетради <…> Помню, поразил не только почерк (как одиноки были несоединенные друг с другом буквы!), но и манера изложения – для каждого персонажа своя. Помню, как Дмитрий (в отчаянии?) пытался отравить себя водкой, с каким убийственным презрением была подана изменившая первому Дмитрию Марина Мнишек…» – вспоминает Лидия Жарова о не дошедшей до нас повести или пьесе Ерофеева этого времени (Жарова Л. Веничка, или Речь в защиту… С. 470–471).].
Прежде чем речь пойдет о взаимоотношениях Ерофеева с орехово-зуевскими девушками, коротко расскажем об условиях быта в ОЗПИ и, собственно, отношении Ерофеева к учебе. «Лекции он не посещал принципиально, считал это пустой тратой времени, – свидетельствует Виктор Евсеев и рассказывает, как Ерофеев поспорил, что «первым перед началом сессии пойдет и сдаст самый трудный тогда экзамен по старославянскому языку на “отлично”. Зная, что Венька вообще не посещал никаких занятий, ребята смело поспорили с ним на бутылку коньяка. Каково же было их изумление, когда суровый преподаватель поставил ему “отлично”»[269 - Евсеев В. Он был белой вороной. С. 466.]. «Ходил он избирательно – только на лекции по зарубежной литературе, – уточняет студентка ОЗПИ Лидия Жарова. – У нас в ту пору считалось признаком дурного тона не ходить “на Савицкого” – он был любимейшим из любимейших преподавателей наших. Как он читал Вергилия – на латыни! <…> Когда Ерофеев появлялся на галерке нашей просторной аудитории, всем нам нестерпимо хотелось обернуться, но останавливал риск нарваться на спокойный, насмешливый взгляд. Нам казалось, что Савицкий был польщен тем, что неординарный Ерофеев оказывал предпочтение только ему. Мы несколько раз видели их за оживленной беседой»[270 - Жарова Л. Веничка, или Речь в защиту… С. 468–469.].