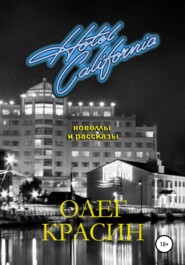По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Прогулка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Александра, как думалось Николаю, знала о его увлечениях. Знала и прощала. Такова она – великодушная и благородная женщина! Она понимала императора, считалась с его потребностями, с которыми он ничего не мог поделать. Отсюда в голове жены родился план приблизить Вареньку Нелидову, заменить ею случайных поклонниц, превратить её в постоянную пассию.
Николай Павлович пошел дальше, заложив руки за спину и нагнув голову к груди, как бывало, хаживал их старый учитель Ламздорф. Вспомнив о жене, об Александре, Николай вспомнил и другое. Лицо его исказила злобная гримаса.
Для Пушкина Александра Фёдоровна была харита, прекрасный и беспорочный ангел, как, впрочем, и для всех окружающих. Но были, как выяснилось, и другие, те, кто её ненавидел.
Один из таковых оказался некий малоросский поэт Тарас Шевченко, о котором ему говорили, как о бесспорном таланте. Он, Николай, читал его вирши, представленные графом Бенкендорфом, смеялся в удачных местах. Смеялся даже тогда, когда этот неблагодарный упоминал его имя. Но он назвал Александру сушеным опёнком, женщиной с трясущейся головою, а ведь происхождением своей лицевой судороги его жена обязана декабрьскому возмущению. Разве она виновата, что слишком боялась за детей, за него? Разве виновата она в выпавших на её долю испытаниях, уготованных жестоким провидением?
Но этот писака? Чем она его обидела, что сделала? Кроме добра – ничего!
Александра сама рассказала ему историю как помогла выкупить из рабства у Энгельгарта неизвестного малоросского художника, оказавшегося еще и поэтом. Для этого был разыгран целый спектакль: Карл Брюллов написал портрет Жуковского и выставил его на лотерею среди членов императорской фамилии, а царица приобрела картину. Эти деньги и пошли на выкуп.
Николай тогда посмеялся над этой глупой историей, попенял жене на её причуды – так стараться ради человека низшего звания! Впрочем, Александра сказала, что этот спектакль её позабавил, развеял скуку.
Как же этот негодяй мог писать такое о своей избавительнице?
При мысли о жене на глаза Николая Павловича навернулись слезы. С возрастом он делался сентиментальнее, чувствительнее, словно научился по-новому прислушиваться к себе, не скрывать движения души, которых ранее стеснялся и принимал за слабость. Теперь, иногда, слушая музыку, он мог неожиданно для окружающих выйти в другую комнату, покинуть театр, спрятаться за колонну, чтобы скрыть внезапно появившиеся слёзы. Композитору Львову он сказал знаменательную фразу: «Ты заставил меня войти в самого себя!» Так он теперь чувствовал.
Наверное, с этой особенной чувствительностью можно связать и возникшие в последнее время острые переживания, вызванные поражениями в Крымской войне, гибелью его солдат и матросов в Севастополе.
В молодости, во время ожесточенных боев с повстанцами в Польше или кровопролитных операций на Кавказе, он так не волновался, воспринимал потери с твердостью солдата, признававшего их хоть и досадными, но необходимыми и вынужденными. Ведь война не обходится без жертв.
Сейчас было другое. Он много молился по вечерам, стоя на коленях, не спал до утра, разглядывая крымскую карту, жалел своих солдат, свою армию. Его снедала мысль, что всё выстроенное им за последние годы, всё, чему отдано столько трудов и пота, вдруг стало таким непрочным и зыбким, как песок на берегу моря. Армия, его армия, которую он пестовал, лелеял все эти годы, терпела поражение за поражением.
А какие были маневры на Царицыном лугу, парады на Марсовом поле! Шестьдесят, семьдесят тысяч солдат в строгих, почти геометрически точных шеренгах и колоннах. Гусары, кирасиры, уланы, стройные ряды пехоты в голубом, зеленом, красном. Войска раскрашивали поле во все цвета радуги. Его брала гордость, когда он выезжал во фронт, принимал бравые рапорты командиров.
Теперь вот Альма, Инкерман
– его личный позор, не армии! Меньшиков, как командующий, оказался никуда не годен. «Тупая скотина!» А ведь он верил в него, как верил в своё время в Паскевича и Дибича.
Да и Нессельроде! Безудержный гнев овладел им. Этот Нессельроде, этот подлец, подвел его!
Император всегда стремился к порядку, законности, легитимности. Эту систему взглядов он предлагал другим государям в Европе. Он полагал, что выступая все вместе против бунтовщиков и смутьянов они смогут сохранить этот лелеемый им порядок незыблемым.
И что же вышло на деле? Государи Пруссии, Австрии обманули его, человека, спасшего их троны, помогшего удержать власть в подчиненных территориях. Такова их благодарность! Они просто предали его, испугались, что Россия утвердится на Балканах. Он помнил, какими жалкими они были еще недавно, все эти Меттернихи
и другие, как в спешке убегали из своих столиц, скрываясь от восставшей черни. Тогда его штыки помогли им усидеть на престолах. А сейчас?
Невидящий взгляд Николая Павловича скользнул по домам, вдоль улицы. Всё это, всё, что случилось в последнее время, произошло благодаря советам Нессельроде, этого ничтожества, которому он так верил. Ничего, Россия выдержит! Она выдержала поход всей Европы в двенадцатом году, выдержит и теперь. Но графа Нессельроде после окончания кампании, он удалит от двора. И больше никогда к себе не допустит.
Император горестно поджал губы, вытащил из кармана шинели носовой платок и громко высморкался. В эту минуту ему было всё равно, как он выглядит, даже если кто-то и наблюдал за ним.
Он пошел дальше, мимо Исаакиевского собора, с которого в нескольких местах еще не сняли леса.
Это огромное куполообразное здание было для него родным. Оно напоминало Николаю Павловичу самого себя, потому что собор рос и развивался вместе с ним, словно вырастая из детских одежд и превращаясь в зрелого мужа. Собор постепенно обретал те черты, которые подданные с внутренним благоговением теперь лицезрели в царе ежедневно: величие, строгость, значительность.
Этот собор словно был ему братом или, по крайней мере, очень близким родственником. Он взялся за его возведение в начале царствования, продолжив дело старшего брата, и закончит в конце, а смерть поставит финальную точку, ибо станет логичным завершением их совместной истории. Далее останется только собор, уже не принадлежащий лично ему, императору Николаю, а собор, являющийся неотъемлемой частью всего мира, его культуры и духовной жизни, его архитектуры, наподобие Лувра или Дрезденской галереи.
Почти обойдя это грандиозное сооружение со стороны Адмиралтейства, и оставляя за спиной памятник Петру, Адмиралтейскую площадь, император поднял голову вверх, разглядывая золотистый крест на куполе. Были времена, когда он почти ежедневно поднимался на леса и осматривал Петербург – сейчас не то, с возрастом стало тяжело.
Он вспомнил, как во время осмотров его несколько раз посещала мысль передвинуть памятник знаменитому пращуру, поставить его на одну линию с собором, чтобы соблюсти симметрию. Но он не осмелился на такое, потому как подумал, что легко разрушить чужое, не создав своего. Он оставил это решение на суд потомков.
Сейчас оглянувшись и посмотрев на скачущего вдалеке бронзового Петра, Николай Павлович понял, что поступил правильно – на новом месте памятник, наверное, не сохранил бы свой гордый и значительный облик, потерялся бы на виду у величавого собора.
Миновав церковь, император принялся бесцельно блуждать по улицам, встречая прохожих, узнававших своего государя. Они спешили раскланяться, и он равнодушно кланялся в ответ. Офицеры отдавали честь, шли мимо, печатая шаг, звеня шпорами. Они не отрывали восторженных глаз от императора.
Но сегодня ему было все равно, ничто не радовало, не веселило.
Незаметно для себя, царь добрался до окраин. Двух-трехэтажные богатые дома, роскошные особняки знатных людей, сменились бедными домишками, приютившими мастеровой люд. Где-то здесь был и военно-сиротский дом, в котором среди прочих доживали свой век искалеченные ветераны всех российских войн.
Еще издали император увидел, как в его сторону тронулся возок с поклажей, а на нём, уныло сгорбившись, ехал возница.
– Куда едешь? – строго спросил Николай Павлович, приблизившись к повозке.
– На кладбище, барин! – ответил возница, бородатый угрюмый мужик, явно не узнавший императора, – инвалид помер, а родни-то у него и нет. Дерюжкой вот накрыли. Авось, ему все равно как лежать, только б господь принял душу.
Мужик перекрестился и тряхнул вожжами. Лошадка медленно пошла, мерно ступая по камням мостовой. Император тоже перекрестился.
Это был его солдат. Может он воевал при Суворове, возможно при Кутузове, а может, проливал кровь уже в его время, где-нибудь на Кавказе. Неважно! В последний путь ветерана должен был кто-то проводить. Если совсем никого нет – пусть это будет он, его государь.
Сняв форменную фуражку с головы, Николай Павлович медленно пошёл следом. Он не мог оказаться на Крымской земле и отдать там последние почести погибшим воинам, поэтому должен исполнить свой долг здесь. Ведь для этого не требуется много усилий – всего лишь пройти за повозкой на кладбище.
Он шёл какое-то время один, глубоко задумавшись, затем вдруг заметил, как похоронная процессия начала расти и увеличиваться, будто река, постепенно вбирающая в себя мелкие роднички. К скорбному шествию присоединялись офицеры, чиновники, прочий люд низкого происхождения. Все в глухом молчании шли за императором, провожая в последний путь простого солдата, инвалида, на похороны которого едва хватило казенных денег.
2.
– Александр Христофорович, как же случилось, что вы оправили жандармов в другую сторону? Мне донесли, что вы знали, где соберутся дуэлянты?
Речь шла о недавней дуэли между Пушкиным и Дантесом.
Император стоял спиной к графу, смотрел в окно. Отсюда были видны снежные сугробы, окружавшие дворец со всех сторон, словно полевые редуты. Несколько воинских отрядов торопливо, почти перебежками, передвигались по дворцовой площади, продуваемой со всех сторон февральским холодным ветром. В закрытых каретах, санях с тёплым пологом, проезжали чиновники, кутавшиеся в мохнатые шубы. Они торопились в присутственные места.
Государь был доволен. В его империи всё работало, безукоризненно функционировало, несмотря на любые капризы погоды.
Отойдя от окна и взяв под руку графа Бенкендорфа, Николай Павлович медленно вывел его из своего кабинета и пошел с ним по коридорам дворца. Он прижал к себе руку графа с неожиданной силой – тот болезненно поморщился, но сказать против ничего не посмел.
– Ваше величество, я послал их туда, куда вы мне соизволили приказать, я ваш покорный слуга. Разве я могу перечить вашей воле?
Голубые до прозрачности глаза Бенкендорфа с испугом смотрели на императора.
– Я приказал? Вздор! Не помню, не помню, – пробормотал Николай Павлович, – когда сие было?
– Неделю назад, ваше величество, двадцать седьмого. Я получил от вас записку, у меня как раз была княгиня Белосельская.
– Где она? Дайте мне её, дайте! – император отпустил Бенкендорфа, отступил от него на шаг и требовательно протянул руку.
– К сожалению, она пропала, – смешался граф, – я собирался во дворец и, будучи уведомлен о предмете разговора, почел за необходимость захватить её с собой. Но нигде не нашел.
– Что значит, не нашли? В своем кабинете, в Третьем отделении?