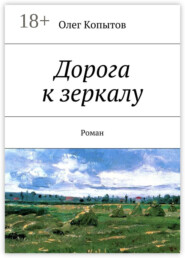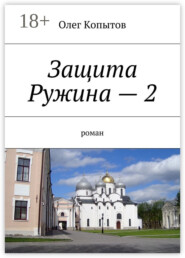По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Россия далеко от Москвы. Сборник статей
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Почему?
– А у них руль ни оттуда растет! Га-га-га!
– Как это?
– А так. Приезжает тут один: «У меня из Москвы бумага». Я говорю, да засунь ее себе… в одно место.
– Вы грубый.
– Я нормальный. Ты подойди по-человеччи, я тебе и без бумаги всё сделаю.
– И как с нами быть?
– С вами? – мужик прищурился, открывая бутылку и подмигивая Жене.
– С нами, – прищурилась Маша, прикрывая рюмку ладонью.
– Да отрубить по Камень, и муха не гуди! Га-га-га!
– По Камень, это как?
– А так. По Урал.
– А я вот давно хотела спросить, вот здесь едешь и едешь, и никто не живет. Почему?
– А это дырья. Знаешь, для чего?
– Для чего?
– Для вентиляции, га-га-га! – Мужик снова захохотал. – Ты подумай, если их людьми набить. Люди разные. И есть, я тебе скажу, такие свинни. Представляешь, сколько свинства поместится! Га-га-га! Знаете, зачем России дырья?
– Зачем?
– Чтобы не порваться. Это тост. И не боись, Маня, не будем мы вас отрубать! Давай друга! Давайте, ребята!…»
Композиция двучастной повести – четкая и символическая. В первой части – «креативный работник» москвичка Маша приезжает в Сибирь, и тут рождается ее любовь к сибиряку Жене, при этом она своими глазами видит… неизвестную русской женщине русскую страну Сибирь. Во второй части Женя приезжает в Москву, и здесь его любовь к Маше проходит ряд испытаний, как внутренних, так и внешних – самой Москвой… не известной русскому мужчине русской столицей Москвой. Он много лет не был в Москве, и теперь у нее странный портрет.
«Он сел в тесный вагон, где ехали пластиковые девушки с густым и розовым загаром, глядящим из-под стыков штанов с куртками, которые угловато расползались, и съехавшие брюки открывали желтое пузико с колечком в пупе… С химическими волосами, будто мокрыми, склеенными то в твердые прядки, то в мелкую волну, то стоящие лучиками, желтыми с концов и темными к корням. С веками, то покрытыми густой серебрянкой, то салатовыми, как крылья капустницы, с неровной и шершавой пыльцой. С цветными губами, щеками, телефончиками. С приклеенными ноготками, то синими, то черными, то в точку, под божью коровку, а у одной, красавицы со снежными волосами – задумчивой и длинноногой – льдисто-зеленые в крошечку-иней. Рядом с ней подсыхал крашеным ворсом идиот в питоньей коже с оттянутыми ляжками и бритой девкой под мышкой».
Заметим два момента. Во-первых, это взгляд настолько же главного героя, насколько реального автора. Так детально, дискретно, аналитично человек, севший в метро, вряд ли разглядывает публику, скорее, у него – цельное впечатление, во-первых, а во-вторых, это то «маленькое ружье», которое уже скоро «выстрелит». По Жене (да и по автору), не только лицо, но и одежда – зеркало души человека. Очень скоро любимая женщина заставит Женю пойти в бутик – приобретать свойский Москве, а стало быть, и ей, Маше, внешний облик. Это первое испытание Жениной любви, не меньше. Маша – не только индивид, она – часть Москвы, рухнувшей в пустой колодец, из которого не видно звезд… Купленные Машей ботинки будут ему жать…
В другом эпизоде встречаются объявление в московской газете про «интим-стрижки для бизнес-собачек»[4 - Здесь есть даже «говорящая грамматика» – несвойственный русскому языку аналитизм в словосочетаниях типа предмет + его определение.] и разговор Жени и Маши о литературе. Оба – на крайних позициях. Она показывает книгу: «…это очень известное», а он вспоминает брата, который всю жизнь читает три книги – «на Иртыше», «Угрюм-река» и «Амур-батюшка», и всю жизнь любит Нину Егоровну. Для Жени (надо полагать, и для автора) «интим-стрижки для бизнес-собачек» и «…это очень известное» про объект искусства – одного поля ягоды. Это пустые звуки вместо слов, и эти симулякры навязываются в качестве приоритетов. В этом для Жени (надо полагать, и для автора) – суть сегодняшней Москвы. А Маша, сама того не ведая, прячется за философский релятивизм и мысль лингвистической философии о том, что человеческий язык не способен передать всю сложность и противоречивость бытия…
Но если «В начале было слово, и слово было Бог», то пустословие – это начало конца. Сегодняшняя Москва – это не только город пустых слов и форм, это – новый Вавилон.
«…Рынки, окраинные ночные метро с драками, где у задраенных ларьков бродили кривошипно-шатунные личности, ночные выползки, и толпились дикие люди из кишлаков и аулов, и деловито и серьезно убегал от ватаги мальцов негр с разбитой рожей. Всё было грубым, свеже нарубленным, полным единой заботой, и поразительная понятливость царила в этом полевом стане, в этом таборе, где еще делили землю и воду, и где Женя узнавал говоры всех регионов. Где знакомые ему люди, лишенные тыла, грубели, и теряли свет, подчинялись законам силы, в знак, что звериный век на Земле лишь начинается…»
Михаил Бахтин писал о том, что только в диалоге – подлинно-творческий голос: «Всякий подлинно творческий голос всегда может быть только вторым голосом в слове. Только второй голос – чистое отношение – может быть до конца безобъектным…» (Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979. – С. 289). Здесь слышим даже не диалог, а ту же Бахтинскую полифонию – гармонизацию голосов: автора во плоти (не оставляющие сомнений прилагательные и метафоры), автора-повествователя, переключающего голос реального автора на голос персонажа, голос Жени и даже голоса самых честных из летописцев современности, которые рисуют нам схожие картины больной стороны современной Москвы.
Любой город многомерен. Многомерность Москвы в этой повести имеет свою основу, свой знаменатель. Основа главным образом в том, что это всё-таки город любви. Конкретный город любви двух конкретных людей, которые вынуждены искать защиты от всех уродливых сторон этого города. Женя, подобно сварщику, «нахватался зайцев» в этом городе, его глаза болят от ослепляющих и одуряющих вспышек. Маша готова подарить ему щиток. «Ни на что нельзя смотреть без щитка». Щиток совершенно чистой своей любви. Он – готов подарить ей бинокль. Не одна Москва – место любви. Но и в Москве есть уголки, которые, по словам Жени, ему еще предстоит осознать. И он находит такие уголки Москвы, и ему предстоит уехать из этого города, не потеряв самого главного, без чего ни любовь, ни вообще жизнь не возможны – не потеряв надежды и веры.
«…Этот белый монастырек он видел не раз, проносящимся, пролетающим вдали, манящим и особенным, как и речка, и вся прилегающая часть города… <…> Вблизи он казался пронзительно маленьким и таким знакомым, что не хватало лишь обломанного кедра над белой стеной. Видный с реки, с городского тыла он был так забран домами, что пробираться приходилось на ощупь. И когда Женя впервые очутился у его стен, показалось, они сами явились, обступили властным видением. Это был родной и старший брат того, их монастыря, и выходя из храма, женя долго стоял на припорошенной земле, и она говорила с ним на его языке. И чем больше он здесь находился, тем яснее понимал, что место ему явлено, что в бетонном черепе города оно как родничок, через который идет связь и с его монастырем, и со всей Россией».
Слава Богу, не отрицание Москвы, не желание отделиться, создать Сибирскую республику, Дальневосточную республику или что-то в этом роде, движет современнейшей публицистикой и художественной прозой в выяснении сегодняшнего знака отношения «Москва – провинция», а как раз-таки опасения за возможный развал страны. Который – в культурном плане уже происходит, в политическом – увы! – может произойти.
При этом противоположение «Москва – провинция» губительно еще и тем, что чем самодовольнее, варваристей, пошлее становится Москва, тем сто крат самодовольней, варваристей и пошлее становится провинция. Сегодня мало об этом говорится в сибирско-дальневосточной публицистике, сегодня здесь в ходу против мифа Москвы миф провинции, но вот Виктор Петрович Астафьев из своей родной сибирской Овсянки еще совсем недавно сказал, как приговор произнес: «Все говорим и говорим об устройстве России – нам всем об этом не переговорить, но лучше бы все же работать каждому на своем месте и как можно усердней и профессиональней. Нас губила и губит полуработа, полуслужба, полуинтеллигентность, полуобразованность… И провинцией Россия не спасется – это самообман и крючкотворство, ибо давно смешались границы столичной и провинциальной русской дури, а столичная пошлость, достигнув наших дальних берегов, становится лишь громогласней, вычурней и отвратительней».
Читинский или камчатский чиновник, наглядевшись в столичную командировку на манеры спесивого и вороватого московского собрата, становится страшнее первого, хабаровский «гламур» уродливей московского, владивостокский «литгенерал» из «литсоюза», надутый самомненьем, как грелка ржавой водой, в пять раз смешнее московского, и т. д. Впрочем, это тема другого высказывания…
Приведем основные выводы.
И современнейшая сибирская и дальневосточная публицистика и художественная литература последних лет, рожденная за Уралом, имеют одним из главных и актуальных мотивов описание противоположения – культурного, морально-нравственного и мировоззренческого, Москвы и дальней российской провинции. Это вопрос острый и насущный, доказательством чему служит и распространенность образа «больной» и «отвернувшейся» от всей остальной России Москвы, и нескрываемая позиция реального автора художественного произведения, берущегося за эту тему, и наиболее мрачный прогноз выхода из этого противостояния – сепаратизм восточных регионов России. Актуализация темы – как в крайней негативации образа Москвы, в апокалептическом пафосе, но также и в поисках существенных поводов для оптимизма – поисках новых условий, возможностей и будущих черт культурного и духовного единения столицы и провинции на старых, проверенных, традиционных основаниях.
Ключевые слова русской культуры
Большое видится на расстоянье – одним из лучших знатоков русского языка, тонким наблюдателем за его глубоким течением – является полька по происхожденью, австралийский профессор Анна Вежбицкая.
Среди множества ее работ по лингвистике есть статья [1], содержащая удивительное открытие: Анна Вежбицкая обнаружила, что ключевыми словами русской культуры являются слова ДУША, ТОСКА, СУДЬБА, которые уникальны, непереводимы в полном объеме и с коренными значениями ни на один язык мира.
С 1990-го года прошло более двух десятилетий, и, конечно, концепция Анны Вежбицкой о трех ключевых словах русской культуры немало обсуждалась, обсуждается и сегодня (если набрать эти слова и фамилию Вежбицкая в «Яндексе», найдется 753 тыс. ответов, это, с учетом случайных, не глобально много, но и не настолько мало, чтобы с этим не считаться). Есть как абсолютные союзники и этноцентрического метода исследования языка вообще, и утверждения о трех словах – концептах русской культуры Анны Вежбицкой в частности, так и решительные противники (один из постоянных оппонентов Вежбицкой – француз, швейцарский профессор Патрик Серио, см., например, [2]).
Дадим цитату из самой Вежбицкой: «Ключевые слова» – это слова, особенно важные и показательные для отдельно взятой культуры. Например, … я попыталась показать, что в русской культуре особенно важную роль играют русские слова судьба, душа и тоска и что представление, которое они дают об этой культуре, поистине неоценимо» [3: 282].
«Большое видится на расстоянье, – Но лучше, если все-таки – вблизи». В последнее десятилетие ХХ века и в первое ХХI немало наших соотечественников – как исследователей-лингвистов, так и публицистов, а сегодня уже и блогеров (кстати, а «блогер»: это кто? – графоман?) – высказались о том, какое именно представление о русской культуре могут дать слова ДУША, ТОСКА, СУДЬБА. Словарь ключевых слов русской культуры с 1990-го года весьма авторитетными отечественными лингвистами был весьма расширен. По данным Ю. С. Степанова, константами русской культуры являются мир, свои и чужие, Русь, родная земля, время, огонь и вода, хлеб, водка и пьянство, слово, вера, любовь, правда и истина, закон, совесть, отцы и дети, дом, уют, вечность, страх, тоска, грех, грусть, печаль. У А. Д. Шмелева – это простор, даль, ширь, приволье, раздолье; у других авторов – авось, удаль, жалость, артельность, соборность, дом, жизнь, друг, дурак. В Отечестве языковая картина мира изучается при помощи понятия ключевых слов уже в рамках всё набирающей силу отдельной дисциплины лингвокультурологии [4].
Высказался о ключевых словах русской культуры и я. И в качестве представителя академического цеха [5], и в качестве публициста [6]. Это было десять и более лет назад, но не так давно я обнаружил, что меня цитирует американский историк, профессор Гарварда и Принстона, тринадцатый директор Библиотеки Конгресса США Джеймс Хедли Биллингтон. В книге «Россия в поисках себя» он пишет: «Некий православный христианский автор с Дальнего Востока считает, что покорность ударам судьбы глубоко укоренилась в сознании русского народа. Словосочетание «судьба-злодейка» означает, что пропасть между Любовью, исходящей от Бога, и греховным поведением человека никогда не будет преодолена и что русскому народу необходима «готовность к будущему, которое будет хуже, чем настоящее» [7: 118—119], и приводит в ссылках мою статью «Ключевые слова русской культуры» 2002 года [там же: 202].
Вообще крупнейший американский специалист по России, – наверное, совершенно справедливо, – считает, что Россия 1990-х годов – «от Москвы до самых до окраин» пространство, скорее, пессимизма с противовесом веры и только веры, хотя постперестроечная Россия – уже несколько иная: «Несмотря на периодические приливы разочарования и безнадежности… русские в постперестроечное время заняли сдержанную, умеренно-оптимистичную позицию. Они отошли от равнодушия и цинизма, сделав характерный для России поворот в сторону не столько веры, сколько надежды» [там же: 119].
Но вот, чтобы мне самому понять из «более оптимистичного сегодня», куда мы плывем из «вчера», мне пришлось и перечитать ту свою статью 2002-го и… не то, чтобы ее переписать, а – как бы это точнее выразиться… при почти полном сохранении «контента», чуть-чуть сместить акценты, отредактировать, если хотите, не совсем содержание, а «интонацию», именно ту «интонацию», которая иногда способна на многое, может быть даже, «победить смысл». Нет, не победить сами интерпретации ДУШИ, ТОСКИ и СУДЬБЫ, которые – вряд ли изменю это мнение, – да, права, Анна Вежбицкая в своем исследовании-озарении – суть русской культуры, а победить тот смысл, который задается старым годом издания и контекстом из книги американского научного светила. Я никогда не был «православным автором», и чем дальше, тем больше перемещаю, уже переместил свой символ веры из публичного в личное пространство, во-первых (оттого православные мотивы в сегодняшней версии основного текста максимально сокращены), и во-вторых и главных – рассуждения о ключевых словах русской культуры не могут поместить ни автора, ни читателя в пучины полного пессимизма, они всегда, во все времена способны выводить на путь и веры, и надежды, и любви.
Итак, ниже – статья 2002 года в редакции 2012-го.
Язык показывает и интеллектуальный, и эмоциональный – сущностный мир говорящего на нем народа. «Язык – дом бытия», – писал Мартин Хайдеггер.
В доме русского бытия три краеугольных камня.
Обнаружившая их Анна Вежбицка пишет: «Такие ключевые слова, как душа или судьба, в русском языке подобны свободному концу, который нам удалось найти в спутанном клубке шерсти; потянув за него, мы, возможно, будем в состоянии распутать целый спутанный „клубок“ установок, ценностей и ожиданий, воплощаемых не только в словах, но и в распространённых сочетаниях, в грамматических конструкциях, в пословицах и т. д. Например, слово судьба приводит к другим словам, „связанным с судьбою“, таким, как суждено, смирение, участь, жребий и рок, к таким сочетаниям, как удары судьбы, и к таким устойчивым выражениям, как ничего не поделаешь, к грамматическим конструкциям, таким, как всё изобилие безличных дативно-инфинитивных конструкций, весьма характерных для русского синтаксиса, к многочисленным пословицам и так далее» [3: 282].
Мы попробуем пробраться от самих выбранных слов к ценностям и установкам, минуя лингвистический аппарат.
Русская ДУША – это источник этических суждений. Только человек с душой в русской картине мира является полноценным, полноправным человеком, участником мирового события. Человек, утративший «душу живу», при сохранении физиологического своего тела, лишь «коптит небо», он не способен к самому главному – к духовному переживанию своей жизни. Бездушие и даже только потраченная «молью мелких желаний» душа – «душонка» – это провал человека при жизни в омут небытия. Такой человек в русском космосе – «живой труп».
Спасти свою душу – цель земной жизни русского человека. Состояние души – его наиважнейшая характеристика.
Совершенно иное – в других культурах и языках. Например, в английском soul – да, есть значение «душа», но еще и «энергия», «сила», «энтузиазм», «человек», «модель», «поток» (stream-стремнина), это слово стоит близко к spirit – деятельный, земной дух; и person – человек как личность, самость, индивидуальность, модель самого себя. Говоря soul, носитель английского языка говорит прежде всего о своем настроении, данном ему как бы объективно, волей обстоятельств, в которые он «угадал попасть» или попросту «угодил». Или же говорится о soul как о результате личных чувственных усилий: «Я сам себе сделал плохое настроение, сам и исправлюсь». Об этом – исконный, «черный» блюз (одно из значений soul – негритянская музыка и негритянская городская культура), об этом «белый» ритм-энд-блюз «Rolling Stones», об этом – песни «Beatles». О soul как о чувственном настроении, противопоставленном «вывихнутому миру», – сонеты Шекспира: «Не знаю я, как шествуют богини, но милая ступает по земле».
Если есть проблемы с soul, представитель англосаксонской культуры не скажет «тоска», он скажет miss. To miss – это инфинитив со значением опять же состояния-настроения, когда не хватает неких предметов – конкретных, чувственных, весомых, зримых. I miss you, например. То есть «Я по тебе скучаю». «Мне скучно, Мефистофель!» – говорит европеец, имеющий мускулистую soul, но не имеющий объекта ее приложения, будь то алмаз или женщина, или даже истина.