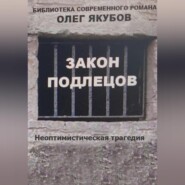По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Вернувшийся к ответу
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В знаменитом миланском «Ла Скала» давали «Трубадура». Аркадий стоял возле афиши как вкопанный. Афиша извещала, что партию графа Ди Луна исполняет известный баритон, лауреат множества международных конкурсов Пабло Каплун. Красовавшаяся на афише фотография знаменитого баритона, хотя и в гриме, не оставляла сомнений, что это не кто иной, как Бублик. К тому же совпадение имени, фамилии и внешности было слишком очевидным, дабы оказаться случайностью. До начала оставалось всего полчаса, пришлось брать билет в ложу, но любопытство взяло верх, и Аркадий безропотно выложил кругленькую сумму.
Когда на сцене появился постаревший, но все же без всяких сомнений – Бублик, – Марков озадаченно покачал головой. С тех пор, как в 1852 году Джузеппе Верди завершил работу над «Трубадуром», партия графа Ди Луна считалась одной из сложнейших для баритонов. «Зачатки» музыкального образования не прошли даром, и теперь Аркадий с волнением ждал, что же покажет друг его далекого детства. Но баритон Каплуна превзошел все ожидания публики. В Di geloso amor sprezzato Каплун взял такой темп, что это могло обернуться катастрофой для баритона. Зал замер в напряженном волнении. Но Бублик был великолепен. Голос его звучал столь выразительно, а в мимике, да и во всей плотной фигуре – столько экспрессии, что даже зрителям, не знающим итальянского языка, а в зале было полно зарубежных туристов, и тем было понятно, о чем поет граф Ди Луна.
Аркадий давно не был в опере, но «Трубадура» помнил прекрасно и сейчас с нетерпением ожидал сцены графа Ди Луна с Азученой. Марков еще с юных лет почти наизусть знал слова этой арии. И сейчас, когда он слушал чистый, почти звенящий, без малейшей вибрации великолепный баритон, исчез со сцены неповоротливый, неряшливый в детстве Бублик; даже жестокий и беспощадный граф Ди Луна превратился в нежного и страстного любовника, обуреваемого любовью и ревностью.
«Свет ее улыбки заставляет померкнуть сияние звезд. Ах, если бы ее лучистый взгляд мог погасить ярость, бушующую в моем сердце…», – пел Каплун, да нет, вовсе не Каплун, а граф Ди Луна, влюбленный, страстный, ревнующий и нежный.
Когда отгремели овации и опустился занавес, Марков отправился за кулисы. Но попасть в грим-уборную знаменитого баритона оказалось не так-то просто. Дверь осаждали экзальтированные дамы с роскошными букетами цветов и целая куча театральных репортеров. Трое дюжих охранников стояли стеной у двери. Марков понял, что через этот заслон ему не прорваться, и громко, что было сил, крикнул: «Бублик, открой». Он, собственно, не ждал, что из этой отчаянной выходки что-то получится, но дверь внезапно распахнулась, крепкая лапа уцепилась за лацкан его пиджака и втащила в гримерку.
– Музыкант! Какими судьбами? – назвал его Павлик старым, детским еще прозвищем. В голосе его, впрочем, не было ни удивления, ни восторга, ни даже особой радости. Скорее просто констатация факта.
– Увидел на афише твое имя, фотографию и решил…
– Понятно, понятно, – перебил его Бублик и тут же заговорил памятной Аркадию еще с детства скороговоркой. – Хорошо, что ты пришел именно сейчас. Редкий случай. Последняя модель «мерседеса», индивидуальная сборка, в порядке подхалимажа сделали для Папы Римского, но ему не понравилась кожа в салоне. Велел избавиться. Продают по нереально низкой цене. Очередь из желающих – от Милана до Рима. А тут ты. Понятное дело, что я решу вопрос в твою пользу. Бери и не думай.
– Послушай, Бублик, – Аркадий присел в кресло и, увидев пепельницу, закурил. – Я сегодня получил огромное удовольствие от твоего пения. На афише написано, что ты лауреат многих международных конкурсов. Надеюсь, это не блеф.
– С ума сошел, что ли? Какой блеф? Истинная правда.
– Так на кой хрен тебе эта афера с «мерседесом». Это же, как я понимаю, как твои перочинные ножики с двумя лезвиями, которых у тебя сроду не было. Ну то ладно, то в детстве было. А теперь? Тебе что, денег не хватает?
– Денег навалом, – признался Каплун, тяжело вздохнув, потом рассмеялся беззаботно: – Привычка, знаешь ли. Может, адреналина в организме недостаточно, как думаешь?
– Мозгов у тебя недостаточно, – невежливо брякнул Аркадий. – В очереди за голосами ты был первым, а там, где умишко раздавали, – последним, вот тебе и не досталось. Ладно, лауреат, пойдем, посидим где-нибудь полчасика, у меня ночью самолет…
В уютном ресторанчике возле «Ла Скалы» Каплун поведал другу детства свою поистине удивительную историю.
***
Он действительно оказался в колонии для несовершеннолетних, где жизнь его поначалу была просто невыносимой. Жестокие малолетние преступники над толстяком Бубликом попросту издевались: его нещадно били, заставляли вне очереди мыть полы и отхожее место, прислуживать местным «авторитетам». Близился Первомай, в колонию должна была приехать какая-то важная комиссия, начальство из кожи вон лезло, чтобы подготовить хороший концерт художественной самодеятельности, что было весьма проблематично – контингент колонии обладал по большей части иными талантами. Каплун оказался истинной находкой и палочкой-выручалочкой для начальства. Его прослушали. Начальник колонии и зам по воспитательной работе были в полнейшем восторге. Бублик понял, что пришел его час, и шанса своего не упустил. Он не стал напрямую жаловаться, что его третируют, а просто под предлогом частых репетиций попросился на время подготовки пожить в подсобке клуба. Начальство свой контингент знало хорошо, оперработа была поставлена, стукачи полную картину обрисовали. Ценного певца перевели из барака, как он и просил, в клуб. Больше он своих мучителей практически не видел. Комиссия оценила таланты нового зэка по достоинству, и Каплуна включили в состав объединенной концертной бригады художественной самодеятельности колоний для несовершеннолетних, которая колесила чуть ли не по всему Союзу. На одном из концертов оказалась ни больше ни меньше великая Елена Образцова. Услышав голос юного вокалиста, народная артистка, лауреат Ленинской премии, Герой Соцтруда, депутат Верховного Совета СССР и прочая, и прочая, и прочая не стала размениваться по мелочам, а обратилась сразу к министру внутренних дел Советского Союза Щелокову. Выпивая с ним водочку в перерыве между заседаниями сессии Верховного Совета, Елена Васильевна собственноручно соорудила министру затейливый бутерброд с черной икрой и ломтиком свежего огурчика, продолжая убеждать:
– Послушай, Николай Анисимович, я по всему Союзу езжу, можно сказать, дома не живу, таланты разыскиваю. А тут такой голос, уникальный голос, поверь моему слову!
– Но он же осужден, – вяло возражал министр.
– Подумаешь, осужден! – горячилась Образцова. – Мальчишка, ребенок по сути. Что он мог такого натворить, что его в тюрьме надо держать?! В конце концов, он же не убил никого. И потом он уже целый год с концертной бригадой гастролирует, ничего плохого за ним не замечено. Я знаю, я специально узнавала.
Депутатов позвали в зал заседаний. Щелоков, не торопясь, выпил еще рюмку, глянул на бутерброд с икрой, но предпочел маринованный грибочек и благодушно проговорил:
– Какой же мужик тебе, свет очей наших Елена Васильевна, отказать посмеет? Только не я. Будь по-твоему, забирай соловья своего. Я распоряжусь завтра, чтобы все чин чином оформили.
Потом Каплун оказался в интернате при Московской консерватории, учился в консерватории. Успех на международном конкурсе Елены Образцовой, многочисленные гастроли, конкурсы, успешная карьера признанного во всем мире оперного певца.
– А где ты живешь, есть семья?
– Живу в Испании, – ответил Павел-Пабло. – Женат на графине. Страшная, как смертный грех, на ведьму похожа, только клюки не хватает. Но богатая и меня любит до обожания. Совместных детей нет, но есть сын от первого, недолгого брака, еще в Союзе. Парень хороший, но по глупости вляпался, четыре года дали.
– За что? – поинтересовался Аркадий.
– От осинки не родятся апельсинки, – невесело усмехнулся Бублик. – За мошенничество. Лучше бы он мой голос унаследовал, чем мой характер. – Видно, этот разговор был ему в тягость, он поспешил сменить тему. – Ну а ты-то сам как? Какими судьбами в Милане? Слышал, ты писателем стал…
– Да, пишу, издаюсь. Вот и в Милан, собственно, приехал подписывать договор на перевод и издание в Италии нового романа…
Пора было прощаться. Уже через три часа Аркадий сидел в кресле самолета, улетающего в Москву. После легкого ужина, предложенного стюардессами, весь салон погрузился в сон, только Маркову не спалось. Встреча с другом детства разбередила душу, и он памятью, вновь и вновь, все возвращался и возвращался в тот Безымянный двор на улице «Двенадцать тополей». А когда все же задремал, то приснился ему Бублик, вытаскивающий из кипящей кастрюли почему-то не кусок мяса, а парик графа Ди Луна.
Глава четвертая
Все мальчишки их двора разом пошли в школу. Первого сентября, наряженные в одинаковую форму и фуражки с блестящими козырьками, со скрипучими портфелями, к ручкам которых было привязано два мешочка – с завтраком и чернильницей-невыливайкой, – они отправились – первый раз в первый класс. Аркашка смотрел на эти козырьки фуражек, в которых отражалось солнце, на успевшие промаслиться от бутербродов мешочки и думал о том, как несправедлива жизнь. Почему те же самые пацаны, с которыми он еще вчера бегал босиком по улице, сегодня одеты в эти прекраснее гимнастерки и брюки с остро отглаженными стрелками, а он по-прежнему идет в детский сад, где их, всей группой, будут сажать на горшки, а в обед заставят есть противный, отдающий тряпками суп из рыбных консервов. И с вечным насморком гундосый Андрюшка, после того как нянька заставит его высморкаться в полу ее длинного халата, будет надсадно орать: «Отдай мои сопли обратно». А рыжая Лариска, как всегда, наябедничает, что Аркашка опять свой суп Шавкатику отдал. Ну разве это жизнь?..
Вечером, когда взрослые приходили с работы, новоиспеченные школьники усаживались во дворе за длинным столом – родители проверяли у своих чад домашние задания.
– Ашотик, ишак карабахский, – горячился темпераментный дядя Андроник и норовил отвесить подзатыльник своему отпрыску. – Почему читать не знаешь? Что, трудно запомнить четыре буквы? Вот, смотри – «ма» и «ма». «Мама» тут написано, понимаешь – я твою маму ненавидел! – «мама» написано. «Ишак карабахский» преданно смотрел отцу в глаза, нещадно тер остриженную «под ноль» голову, но никак не мог взять в разумение, как из двух отдельных слогов «ма» и «ма» получается слово «мама».
«Дядя Андроник, здесь букв только две: «м» и «а», – пытался вмешаться Аркашка, но тут же получал энергичный отпор: «Слушай, малчик, не мешай-а, иды дэлом займис».
Через месяц Аркашка, отираясь возле первоклашек, свободно читал по складам, букварь знал чуть не наизусть, считал и запросто складывал двузначные числа. В январе первоклашки пошли на долгие зимние каникулы, уроки, к их радости, делать было не надо, а вот Аркаша загрустил – привык уже, что после детского сада помогает своим товарищам по двору готовить домашние задания. В эти январские дни отец принес из магазина новенькую книжку в яркой обложке. Читать отец и мать любили, книг в доме было достаточно, но новая чем-то привлекла внимание мальчишки. Утром он проснулся чуть свет и с нетерпением ждал, когда родители уйдут на работу. Схватил книжку, прочитал на обложке: «Остров сокровищ», – и снова юркнул под одеяло. «У меня горло болит», – пожаловался он бабушке, когда та пришла собирать его в детский сад. Баба Сима, внука обожавшая, заглянула в его горлышко, нашла, что оно покраснело, и отправилась на кухню кипятить молоко и готовить своему любимцу гоголь-моголь, в который по случаю болезни добавила какао – этот «праздничный» гоголь-моголь назывался у них в семье шоколадным и готовился нечасто.
Не все в этой первой своей книге понял маленький читатель, которому едва исполнилось четыре с половиной года. Но понял детским своим естеством, пусть пока еще и не осознанно, что книги переносят его в новый, неведомый, но такой прекрасный мир.
Детские книжки были ему теперь неинтересны, он их помнил наизусть. Стал читать запоем, хаотично, все, что было в их доме и в домах соседей. В голове его творился хаос и сумбур, сны ребенку снились фантасмагорические. В этих снах Арамис сражался на шпагах с Капитаном Сорви-голова, Евгений Онегин охотился в Аравийской пустыне на львов вместе с Григорием Печориным, а Павел Власов из горьковской «Матери» без ума влюбился в Миледи…
Жизнь воспитательниц детского сада, куда ходил маленький Марков, изменилась в корне. Заняты они теперь были только во время завтрака и обеда. Все остальное время принадлежало Аркаше. Он пересказывал сверстникам прочитанное накануне, щедро разбавляя содержание книг своими фантазиями и домыслами. Кто знает, может, именно тогда и зародилась в нем эта неистребимая и всепоглощающая тяга к сочинительству…
***
Беда пришла нежданно-негаданно. На семейном совете было решено, что хватит-де молодому человеку дурака валять, пора заняться делом. То бишь – учиться музыке. И ладно бы – на гитаре, на балалайке или, на худой конец, на гармошке. Так нет же, оглушили так оглушили. Отдали, подумать только, на скрипку! И еще этот старый дядька со смешной «бабочкой» под воротничком масла в огонь подливал и подливал: «Ах, у вашего ребенка идеальный слух, ах, какие у него музыкальные пальцы, ах, это, несомненно, будущий Ойстрах». Кто такой Ойстрах, Аркашка понятия не имел, но фамилия его чем-то пугала.
Соседи по двору добродушно посмеивались. Ну теперь нам в театр Навои (Большой государственный театр оперы и балета имени Алишера Навои в Ташкенте. – прим. автора) ходить не надо. У нас в Безымянном свой театр: Аркашка будет играть, Бублик – петь, а Валька – танцевать. Длинноногая Валька уже тогда училась в хореографическом училище и твердо знала, а жизнью своей впоследствии и подтвердила, что станет балетной звездой мировой величины.
Самое обидное, что у юного Маркова и впрямь был совершенный музыкальный слух, невероятно тонкие, гибкие и длинные пальцы, одним словом, все, что необходимо будущему скрипачу. Он устраивал дома скандалы, закатывал истерики, несколько раз ломал скрипку, сбегал с уроков. И все равно в музыкальной школе был первым. Как потом первым стал в музыкальном училище, в котором оказался сам не понял как.
***
Аркаша учился в седьмом классе, когда в их школе решили к Дню победы поставить спектакль «Землянка Симонова». Режиссерская задумка была несложной. Школьники, переодетые в солдатские гимнастерки и сапоги, собирались в сделанной их же руками из фанеры и картона бутафорской «землянке», читали стихи и пели песни на стихи Константина Симонова. Декорации тоже изготовили собственноручно, военную форму предоставила воинская часть, шефствующая над школой. Репетировали с увлечением, стихи Симонова ребятам нравились. Они даже коллективное письмо написали Симонову, в котором благодарили его за выдающееся творчество и сожалели, что он больше стихов не пишет. Писатель ответил, даже попросил их сделать фотографии со школьного спектакля и прислать их ему. Аркашка давно, уже несколько лет, «марал бумагу», как называл он те невнятные то ли дневниковые заметки, то ли литературные наброски, которые потом оседали в нижнем ящике письменного стола. А тут, после того как он несколько раз перечитал письмо Симонова, его словно осенило. Достав чистую тетрадь, он принялся за работу и уже через несколько часов, ненадолго задумавшись, назвал сей опус так, как, собственно, назывался их самодеятельный спектакль – «Землянка Симонова». Молодежную газету он, как тогда было положено всем школьникам его возраста, выписывал. Прочитав на четвертой странице адрес, отправился в редакцию. Не на шутку оробев, открыл первую же дверь и увидел просторную комнату, где за письменными столами сидели трое парней и две девушки. Все пятеро нещадно дымили сигаретами и чему-то весело смеялись.
– Тебе чего, парень? – поинтересовался тот, кто сидел ближе всех к двери. Глянул на смущенного мальчишку и, увидев в его руках несколько тетрадных листочков, прозорливо добавил: – Не иначе как заметку принес. Ну давай, юнкор, проходи, не робей. Показывай свое творение. Присаживайся поближе. Меня Сергей зовут. А тебя?..
Недели через две мама, доставшая из почтового ящика газеты, увидела на первой странице молодежки надпись: «Аркадий Марков, ученик 7-го класса ташкентской школы». Заметка была малюсенькой, от его текста остался только заголовок. И все же он был счастлив. В этот день ему исполнилось четырнадцать лет.
Глава пятая
Жизнь изменилась кардинальным образом. Учителя недоумевали: как вчерашний отличник Марков скатился чуть не двоек. Все чаще и чаще слышал он окрик педагогов: «Марков, хватит витать в облаках, вернись в класс». Но он был не властен над собой. Не музыка и уж точно не школьные предметы заполняли его голову. В ней роились отдельные слова, фразы, целые страницы фраз, которые заполняли его сознание, да что там сознание – все его существование. Он придумывал любую причину, чтобы сбежать с урока либо вовсе не пойти в школу. Садился в дребезжащий трамвай номер десять, который от его дома до редакции тащился – это уже сотни раз было проверено и перепроверено – ровно тридцать восемь бесконечно тянувшихся минут. Еще десять минут быстрой спортивной ходьбы: пятка – носок – пятка, и вот он уже оказывается в том прекрасном мире, насквозь пропитанном запахами табака, типографской краски, бумаги и еще чем-то таким необыкновенным, что называется волшебным словом – редакция.
Здесь с ним не больно-то нянькались. Сергей Ормели, тот самый парень, к которому попала первая Аркашина заметка, объяснил школьнику, что любой материал надо начинать так, чтобы читатель первую фразу «заглатывал» и уже не мог оторваться до конца текста. Впрочем, относились к вихрастому мальчишке с симпатией, выдали удостоверение, отпечатанное на редакционном бланке, стали давать немудрящие задания и даже выписали за опубликованные заметки гонорар. Получать деньги на почту Аркаша отправился вместе с бабой Симой – лицам, не достигшим шестнадцати лет, получать денежные переводы по советским законам не разрешалось.
К началу нового учебного года нужно было выпустить школьную стенгазету. Аркаша Марков был ее редактором. А тут вдруг выпускать газету отказался наотрез. На вопрос старшой пионервожатой, что случилось, Марков гордо ответил: «Я теперь пишу только за гонорары». Захоти старшая вожатая, и дурацкая эта выходка по тем «гуманным» временам могла бы юному зазнайке боком выйти, но, видать, девушка была доброй, не стала из этой глупой мухи политического слона раздувать.
***