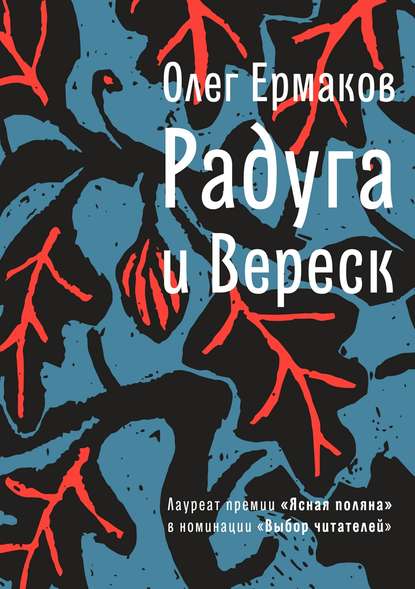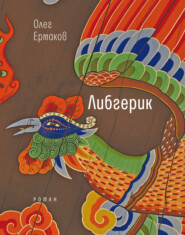По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Радуга и Вереск
Автор
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну?.. – спросил Седзимир Вржосек, зачесывая белые волосы, распавшиеся двумя крылами над лицом, назад.
– Поспел Авесса вовремя: Иесвий как раз подкинул Давида, чтобы насадить его на копье в триста сиклей меди, как гуся на шампур. И в этот-то миг умный Авесса произнес Шем-Гамфораш. Давид завис над копьем. Авесса вопросил Давида, как тот здесь оказался. Давид ему отвечал. Выслушав, Авесса вторично рек Шем-Гамфораш, и Давид, наш царь, приземлился мимо копья на ноги. И тогда они набросились на Иесвия и прикончили его.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Слово может и корабль поднять на воздух, не только человека.
– Просто это слово? Шем… Как это дальше-то?
Иоахим покачал головой.
– Нет, мой друг. Это не оно. Шем-Гамфораш – наименование истинного имени, но не самое имя, слово. Имя уже забыто. Вот когда бы я смог его вспомнить, тогда, тогда…
– …и направил бы корабль по Двине в Борисфен, Smolenscium и дальше? – спросил Седзимир, улыбаясь. – Но тогда и реки не нужны. Да и корабли.
– Правда, твоя милость. Мы стали бы богаты, а главное, мудры, как Соломон. Но вернемся к поэме.
И капитан продолжил свой путь по реке словес этого Куновского: «Не потеряй рассудка своего, / Освобождай Смоленск, любимца своего…»
И был Смоленск освобожден.
И под хохот пелась песнь снова: «Нет со Смоленском равной цены – / Нет у Митилены, нет у славного Родоса.// Прекрасный Смоленск! Он почетную славу имеет! / Город омыла, украсила дивная речка, / Город обильные снял урожаи – / Мед, молоко, яйца и хлеб кормят людей. // Хлеб и зерно не упустим из вниманья. Пива полно от него, / Множество рыбы, зверей и отличной птицы – / Славно украсили воды и реки / Над этим хозяйством!»
– Tym Smolensk! Tym Smolensk![35 - Это Смоленск! (польск.)]
– Tym! Tym! Тутум! – подхватили гогочущие друзья Вржосека.
Ведь молодой шляхтич взял аккуратно переписанное матушкой Альжбетой творение с собой; у самого Николауса почерк был прескверный, учитель-иезуит бил его по рукам розгой за такое надругательство над даром Божиим. Но плодов его розга так и не дала. И теперь Николаус читал сам своим спутникам напыщенную поэму.
Контраст был разителен! Где эти дома, украса улиц? Где мед и млеко? А костел того гляди и рухнет.
– Тум, тутум! – отстукивали по доскам Любомирский и Пржыемский, покусанные голодными клопами и объевшиеся давеча углями.
10. Пир у пана Плескачевского
Николаус приуныл. Надо было мечтать, так сказать, в другую сторону: не на восток, а на запад. Хотя бы и в Краков, а еще лучше в Варшаву, которая стала, по сути, столицей после пожара в Вавельском замке. И дальше – в Париж, Рим, Лондон. Нет, послушал отца. А теперь – меси зловонную грязь на этих прекрасных улицах. Хрусти углями.
Дожди снова зарядили. Небеса низко нависали над крепостью, поливали башни, ворота, мосты, стучали с глупым усердием по крышам. Жолнеры укрывались дерюгами, ходили, как иудеи на молитве. А местным хоть бы хны, молодые парни бегали в одних рубахах, шапчонках. Мужики делали свои дела, не обращая внимания на дождь: тесали бревна, кололи дрова, кузнец прямо на торге подковывал лошадь, другие строили дом недалеко от церкви. Кожевники во дворе скоблили шкуры. Даже на торге шла своя жизнь, бабы приносили корзины со всякой снедью, ну почти по этому Куновскому: кувшины с молоком, творогом. Прятались под навесами. А кто и так стоял под дождем.
На четвертый день вдруг Жибентяй сказал о том, что какой-то слуга ждет его на дворе. Николаус вышел и увидел того мужика с кудлатой бородой – правда сейчас он был в добром зипуне, подпоясанном красным кушаком, в бараньей шапке, в сапогах, верхом на мышастом жеребце. Наездник поздоровался, сняв на этот раз шапку, и сказал, что пан Плескачевский велел передать Николаусу приглашение пожаловать в гости прямо сейчас со всем скарбом и слугами, если таковые при пане имеются.
Николаус свои вещи собирать, конечно, не стал, но, накинув на жупан делию[36 - Род верхней одежды.] с меховым воротником и надев рогатывку[37 - Шапочка из ткани и меха, раздвоенная спереди, украшенная пером.], пошел к выходу. Под делией на поясе висела сабля.
– Куда это ваша милость собрался? – тут же навострил уши Любомирский.
– В гости! – ответил Николаус и просил Жибентяя принести сумку.
– Да, верное дело сотворишь, товарищ, – одобрил Любомирский, – если с пира привезешь и нам по окороку и добрый мех вина или пива. Хотя, конечно, приличнее было бы не оставлять своих товарищей по несчастью. Вот я оставить тебя не хочу и готов сопровождать почетно.
Николаус замешкался.
– Знаешь, Любомир, – пришел тут на помощь Пржыемский, – как смольняне говорят о подобных тебе? Незваный гость хуже татарина.
– Так он зван к поляку!
– А поляк и есть тут самый настоящий смольнянин, – ответил Пржыемский.
Оставив Жибентяя дома, Николаус верхом на своей гнедой Беле последовал за мужиком пана Плескачевского. Дождь хлестал им в лица, сек лошадиные шеи. Из-под копыт во все стороны разлетались ошметки глины, смешанной с навозом, брызги. Они поехали вниз по горе, затем в направлении к костелу на возвышении; лошади простучали копытами по настилу моста через ров с бурым потоком воды и оказались справа от церковного холма, возле высокой большой башни с воротами. Под вечер на улицах уже никого не было видно, все сидели по домам. Всюду стлался сизый дым. Даже собаки не брехали на стук копыт.
Porta Regia[38 - Королевские ворота (лат.).], Николаус уже знал их название и то, что это главные ворота города. Мужик повернул лицо к башне и перекрестился размашисто, как это привыкли делать московиты.
Тут и Николаус увидел темный лик под навесом, темный, суровый, почти жуткий. И пониже светлое пятно Младенца. Николаус, как-то оторопев, не сразу последовал примеру мужика. Matko Boza поразила его суровостью, таких ликов иконописных он еще не видел. Это был взгляд почти недобрый. Возможно ли? С опозданием он все-таки привычно осенил себя крестом.
– Matko Boza, zachowaj sluge Twego![39 - Матерь Божия, спаси раба твоего! (польск.)]
Костел на горе остался справа. Проскакав мимо еще нескольких башен, провожатый повернул вправо. Отсюда расходились два оврага. Крутая улочка шла в гору между ними, по ней всадники и поехали было, как вдруг на улочку прямо из оврага высыпались белые мокрые козы, одна за другой они выскакивали из зеленого провала, блея.
Мужик осадил лошадь.
– Чорт! А ну, з дарогi! Прэч! Прэч!
Козы мотали рогатыми головами и желто смотрели на всадников. Как будто отвечая: не-э-т, н-э-э-эт. Да мокрые козлята так и отвечали, розовея длинными языками.
Наконец из оврага вылез и пастух этого грязного и мокрого стада, накрытый рогожей.
– Эй, ты! Ганi адсюль сваiх чертяка! – прикрикнул мужик.
Но пастух как будто не слышал. И тогда мужик наехал близко и перетянул плетью рогожу, та слетела, и они увидели округлое конопатое белое лицо юнца.
– Вясёлка?! – воскликнул мужик уже не так грозно. – Чаго y такую-то надвор’е шастаеце?
Юнец ничего не ответил, лишь сверкнул яркими глазами, нагнулся, подбирая рогожку, а другой рукой махнул прутом, сгоняя коз, крикнул звонко:
– Давайце, козкi, давайце! Пайшлi, пайшлi!
И мужик, а с ним и Николаус терпеливо ждали, пока козы спустятся по склону другого оврага, сизого от заполняющих его со всех сторон дымов. Наконец дорога была свободна, и всадники продолжили путь. По ту сторону оврага высился на горе костел. Всадники двигались краем другого оврага. Слева в дымке виднелись башни и стены.
У знакомого добротного высокого дома мужик остановился, ловко соскочил, взял под уздцы Белу и почти ласково сказал Николаусу:
– Мiласьцi просiм, пан. Аб конiку я паклапачуся.
Николаус еще не успел взойти по крыльцу, как тяжелая дверь отворилась и навстречу вышел юноша, лобастый, как пани Елена, но синеглазый.
– Мы ждем, ваша милость! – сказал он с улыбкой и легким поклоном, сторонясь и пропуская гостя в дом. – Взойдем в горницу.
И по внутренней короткой лестнице они прошли дальше, в глубь дома. Здесь уже горели свечи, тускло освещая просторную горницу. На лавке сидели двое. В одном из мужчин Вржосек сразу узнал того офицера, встретившего отряд на подступах к городу.
– Николаус! Мальчик! – воскликнул Григорий Плескачевский, вставая и идя ему навстречу с протянутыми руками. Они обнялись. – Да уже не мальчик! А eques![40 - Рыцарь (лат.).]
– Поспел Авесса вовремя: Иесвий как раз подкинул Давида, чтобы насадить его на копье в триста сиклей меди, как гуся на шампур. И в этот-то миг умный Авесса произнес Шем-Гамфораш. Давид завис над копьем. Авесса вопросил Давида, как тот здесь оказался. Давид ему отвечал. Выслушав, Авесса вторично рек Шем-Гамфораш, и Давид, наш царь, приземлился мимо копья на ноги. И тогда они набросились на Иесвия и прикончили его.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Слово может и корабль поднять на воздух, не только человека.
– Просто это слово? Шем… Как это дальше-то?
Иоахим покачал головой.
– Нет, мой друг. Это не оно. Шем-Гамфораш – наименование истинного имени, но не самое имя, слово. Имя уже забыто. Вот когда бы я смог его вспомнить, тогда, тогда…
– …и направил бы корабль по Двине в Борисфен, Smolenscium и дальше? – спросил Седзимир, улыбаясь. – Но тогда и реки не нужны. Да и корабли.
– Правда, твоя милость. Мы стали бы богаты, а главное, мудры, как Соломон. Но вернемся к поэме.
И капитан продолжил свой путь по реке словес этого Куновского: «Не потеряй рассудка своего, / Освобождай Смоленск, любимца своего…»
И был Смоленск освобожден.
И под хохот пелась песнь снова: «Нет со Смоленском равной цены – / Нет у Митилены, нет у славного Родоса.// Прекрасный Смоленск! Он почетную славу имеет! / Город омыла, украсила дивная речка, / Город обильные снял урожаи – / Мед, молоко, яйца и хлеб кормят людей. // Хлеб и зерно не упустим из вниманья. Пива полно от него, / Множество рыбы, зверей и отличной птицы – / Славно украсили воды и реки / Над этим хозяйством!»
– Tym Smolensk! Tym Smolensk![35 - Это Смоленск! (польск.)]
– Tym! Tym! Тутум! – подхватили гогочущие друзья Вржосека.
Ведь молодой шляхтич взял аккуратно переписанное матушкой Альжбетой творение с собой; у самого Николауса почерк был прескверный, учитель-иезуит бил его по рукам розгой за такое надругательство над даром Божиим. Но плодов его розга так и не дала. И теперь Николаус читал сам своим спутникам напыщенную поэму.
Контраст был разителен! Где эти дома, украса улиц? Где мед и млеко? А костел того гляди и рухнет.
– Тум, тутум! – отстукивали по доскам Любомирский и Пржыемский, покусанные голодными клопами и объевшиеся давеча углями.
10. Пир у пана Плескачевского
Николаус приуныл. Надо было мечтать, так сказать, в другую сторону: не на восток, а на запад. Хотя бы и в Краков, а еще лучше в Варшаву, которая стала, по сути, столицей после пожара в Вавельском замке. И дальше – в Париж, Рим, Лондон. Нет, послушал отца. А теперь – меси зловонную грязь на этих прекрасных улицах. Хрусти углями.
Дожди снова зарядили. Небеса низко нависали над крепостью, поливали башни, ворота, мосты, стучали с глупым усердием по крышам. Жолнеры укрывались дерюгами, ходили, как иудеи на молитве. А местным хоть бы хны, молодые парни бегали в одних рубахах, шапчонках. Мужики делали свои дела, не обращая внимания на дождь: тесали бревна, кололи дрова, кузнец прямо на торге подковывал лошадь, другие строили дом недалеко от церкви. Кожевники во дворе скоблили шкуры. Даже на торге шла своя жизнь, бабы приносили корзины со всякой снедью, ну почти по этому Куновскому: кувшины с молоком, творогом. Прятались под навесами. А кто и так стоял под дождем.
На четвертый день вдруг Жибентяй сказал о том, что какой-то слуга ждет его на дворе. Николаус вышел и увидел того мужика с кудлатой бородой – правда сейчас он был в добром зипуне, подпоясанном красным кушаком, в бараньей шапке, в сапогах, верхом на мышастом жеребце. Наездник поздоровался, сняв на этот раз шапку, и сказал, что пан Плескачевский велел передать Николаусу приглашение пожаловать в гости прямо сейчас со всем скарбом и слугами, если таковые при пане имеются.
Николаус свои вещи собирать, конечно, не стал, но, накинув на жупан делию[36 - Род верхней одежды.] с меховым воротником и надев рогатывку[37 - Шапочка из ткани и меха, раздвоенная спереди, украшенная пером.], пошел к выходу. Под делией на поясе висела сабля.
– Куда это ваша милость собрался? – тут же навострил уши Любомирский.
– В гости! – ответил Николаус и просил Жибентяя принести сумку.
– Да, верное дело сотворишь, товарищ, – одобрил Любомирский, – если с пира привезешь и нам по окороку и добрый мех вина или пива. Хотя, конечно, приличнее было бы не оставлять своих товарищей по несчастью. Вот я оставить тебя не хочу и готов сопровождать почетно.
Николаус замешкался.
– Знаешь, Любомир, – пришел тут на помощь Пржыемский, – как смольняне говорят о подобных тебе? Незваный гость хуже татарина.
– Так он зван к поляку!
– А поляк и есть тут самый настоящий смольнянин, – ответил Пржыемский.
Оставив Жибентяя дома, Николаус верхом на своей гнедой Беле последовал за мужиком пана Плескачевского. Дождь хлестал им в лица, сек лошадиные шеи. Из-под копыт во все стороны разлетались ошметки глины, смешанной с навозом, брызги. Они поехали вниз по горе, затем в направлении к костелу на возвышении; лошади простучали копытами по настилу моста через ров с бурым потоком воды и оказались справа от церковного холма, возле высокой большой башни с воротами. Под вечер на улицах уже никого не было видно, все сидели по домам. Всюду стлался сизый дым. Даже собаки не брехали на стук копыт.
Porta Regia[38 - Королевские ворота (лат.).], Николаус уже знал их название и то, что это главные ворота города. Мужик повернул лицо к башне и перекрестился размашисто, как это привыкли делать московиты.
Тут и Николаус увидел темный лик под навесом, темный, суровый, почти жуткий. И пониже светлое пятно Младенца. Николаус, как-то оторопев, не сразу последовал примеру мужика. Matko Boza поразила его суровостью, таких ликов иконописных он еще не видел. Это был взгляд почти недобрый. Возможно ли? С опозданием он все-таки привычно осенил себя крестом.
– Matko Boza, zachowaj sluge Twego![39 - Матерь Божия, спаси раба твоего! (польск.)]
Костел на горе остался справа. Проскакав мимо еще нескольких башен, провожатый повернул вправо. Отсюда расходились два оврага. Крутая улочка шла в гору между ними, по ней всадники и поехали было, как вдруг на улочку прямо из оврага высыпались белые мокрые козы, одна за другой они выскакивали из зеленого провала, блея.
Мужик осадил лошадь.
– Чорт! А ну, з дарогi! Прэч! Прэч!
Козы мотали рогатыми головами и желто смотрели на всадников. Как будто отвечая: не-э-т, н-э-э-эт. Да мокрые козлята так и отвечали, розовея длинными языками.
Наконец из оврага вылез и пастух этого грязного и мокрого стада, накрытый рогожей.
– Эй, ты! Ганi адсюль сваiх чертяка! – прикрикнул мужик.
Но пастух как будто не слышал. И тогда мужик наехал близко и перетянул плетью рогожу, та слетела, и они увидели округлое конопатое белое лицо юнца.
– Вясёлка?! – воскликнул мужик уже не так грозно. – Чаго y такую-то надвор’е шастаеце?
Юнец ничего не ответил, лишь сверкнул яркими глазами, нагнулся, подбирая рогожку, а другой рукой махнул прутом, сгоняя коз, крикнул звонко:
– Давайце, козкi, давайце! Пайшлi, пайшлi!
И мужик, а с ним и Николаус терпеливо ждали, пока козы спустятся по склону другого оврага, сизого от заполняющих его со всех сторон дымов. Наконец дорога была свободна, и всадники продолжили путь. По ту сторону оврага высился на горе костел. Всадники двигались краем другого оврага. Слева в дымке виднелись башни и стены.
У знакомого добротного высокого дома мужик остановился, ловко соскочил, взял под уздцы Белу и почти ласково сказал Николаусу:
– Мiласьцi просiм, пан. Аб конiку я паклапачуся.
Николаус еще не успел взойти по крыльцу, как тяжелая дверь отворилась и навстречу вышел юноша, лобастый, как пани Елена, но синеглазый.
– Мы ждем, ваша милость! – сказал он с улыбкой и легким поклоном, сторонясь и пропуская гостя в дом. – Взойдем в горницу.
И по внутренней короткой лестнице они прошли дальше, в глубь дома. Здесь уже горели свечи, тускло освещая просторную горницу. На лавке сидели двое. В одном из мужчин Вржосек сразу узнал того офицера, встретившего отряд на подступах к городу.
– Николаус! Мальчик! – воскликнул Григорий Плескачевский, вставая и идя ему навстречу с протянутыми руками. Они обнялись. – Да уже не мальчик! А eques![40 - Рыцарь (лат.).]