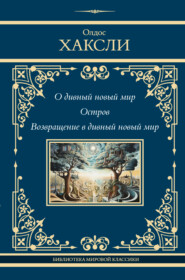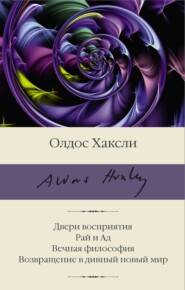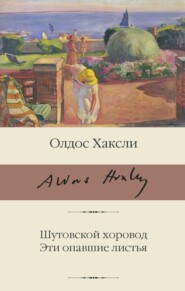По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Контрапункт
Автор
Жанр
Год написания книги
1928
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не воображайте, пожалуйста, что я стану говорить о звездах и девственных лилиях и космосе, – говорил он, – это не по моей части. Я не верю в них. Я верю в… – И тут он переходил на язык, по каким-то таинственным причинам считающийся непечатным.
Это была любовь без претензий, но теплая, естественная, а следовательно – хорошая; это была честная, добродушная, блаженная чувственность. Для Хильды, знавшей раньше только стыдливую, извиняющуюся любовь ископаемого младенца, она была откровением. Она пробудила в ней умершие было чувства. Она с восторгом нашла самое себя. Но восторг ее не переходил границ. Она никогда не теряла голову. Потеряв голову, она вместе с тем потеряла бы Тэнтемаунт-Хаус, миллионы Тэнтемаунта и титул Тэнтемаунта. Она вовсе не собиралась терять все это. Поэтому голова ее оставалась трезвой и рассудительной среди самых бурных восторгов, как скала среди бурного моря. Наслаждаясь, она никогда не наносила этим ущерба своему положению в обществе. Благодаря трезвой голове и желанию сохранить себе положение в обществе она никогда не теряла способности смотреть со стороны на свои самые бурные восторги. Джон Бидлэйк одобрял ее умение совместить несовместимое.
– Благодарение Богу, Хильда, – часто говорил он, – ты – разумная женщина.
На собственном горьком опыте он испытал, как утомительны женщины, считающие, что ради любви можно пожертвовать всем на свете. Ему нравились женщины, любовь была необходимым удовольствием. Но ни одна женщина не стоила того, чтобы ради нее запутывать и портить себе жизнь. К безрассудным женщинам, принимающим любовь чересчур всерьез, Джон Бидлэйк относился беспощадно. Против их лозунга «Все за любовь» он выставлял свой: «Дайте мне жить спокойно». Он всегда оставался победителем. В борьбе за спокойную жизнь он не знал жалости и не знал страха.
Хильда Тэнтемаунт стремилась к спокойной жизни не меньше, чем Джон. Их связь продолжалась несколько лет, а потом кончилась незаметно для них самих. Они остались добрыми друзьями или заговорщиками, как их называли, злонамеренными заговорщиками, вступающими в союз, чтобы вместе позабавиться на чужой счет.
Сейчас они смеялись. Вернее, смеялся Джон, не терпевший музыки. Леди Эдвард пыталась сохранить декорум.
– Замолчите же наконец, – прошептала она.
– Да вы только посмотрите, до чего это комично, – настаивал Бидлэйк.
– Ш-ш…
– Но я говорю шепотом. – Ему надоело это бесконечное шиканье.
– Да, как лев.
– Ничего не поделаешь, – раздраженно ответил он. Когда он говорил шепотом, он считал, что никто, кроме собеседника, не должен его слышать. Он сердился, когда ему говорили, что то, что он считал верным, на самом деле неверно. – Лев! Подумать только! – возмущенно пробормотал он. Но его лицо сейчас же прояснилось. – Смотрите, – сказал он, – вот еще одна опоздавшая. На сколько спорим, что она сделает то же, что все остальные?
– Ш-ш… – повторила леди Эдвард.
Но Джон Бидлэйк не обращал на нее внимания. Он смотрел в сторону двери, где стояла последняя из опоздавших. Желание незаметно скрыться в молчаливой толпе боролось в ней с долгом гостьи сообщить хозяйке дома о своем приходе. Она растерянно смотрела по сторонам. Леди Эдвард приветствовала ее через головы гостей взмахом веера и улыбкой. Опоздавшая ответила ей улыбкой, послала воздушный поцелуй, приложила палец к губам, показала на свободное место в другом конце зала и распростерла руки, выражая этим жестом, что она извиняется за опоздание и сожалеет, что при сложившихся обстоятельствах ей нельзя подойти и поговорить с леди Эдвард; затем, втянув голову в плечи, сжавшись в комок и словно стараясь занимать как можно меньше пространства, она очень осторожно, на цыпочках, направилась к свободному месту.
Бидлэйк веселился от всей души. Он передразнивал все жесты бедной дамы. Он с подчеркнутым жаром ответил ей на воздушный поцелуй, а когда она приложила палец к губам, он закрыл рот всей пятерней. Жест, выражавший сожаление, стал в его гротескно-преувеличенной передаче жестом смехотворного отчаяния. А когда она на цыпочках пошла между рядами, он принялся хлопать себя по лбу и считать по пальцам, как делают в Неаполе, чтобы отвести дурной глаз. Он с торжеством обернулся к леди Эдвард.
– Я вам говорил, – прошептал он, и его лицо покрылось морщинами от сдерживаемого смеха. – Можно подумать, что находишься в санатории для глухонемых или разговариваешь с пигмеями в Центральной Африке. – Он открыл рот и показал пальцем, он сделал вид, что пьет из стакана. – Мой хочет есть, – сказал он. – Мой очень хочет пить.
Леди Эдвард ударила его веером.
Тем временем музыканты играли b-mоll’ную сюиту Баха для флейты и струнного оркестра. Молодой Толли вел оркестр со свойственной ему неподражаемой грацией, изгибаясь, как лебедь, и чертя руками по воздуху пышные арабески, словно он танцевал под музыку. Двенадцать безымянных скрипачей и виолончелистов пиликали по его приказу. А великий Понджилеони взасос целовал свою флейту. Он дул через отверстие, и цилиндрический воздушный столб вибрировал; раздумья Баха наполняли четырехугольный римский зал. В начальном largo Иоганн Себастьян при помощи воздушного столба и амбушюра Понджилеони твердо и ясно сказал: в мире есть величие и благородство; есть люди, рожденные королями; есть завоеватели, прирожденные властители земли. Размышления об этой земле, столь сложной и многолюдной, продолжались в allegro. Вам кажется, что вы нашли истину; скрипки возвещают ее, чистую, ясную, четкую; вы торжествуете: вот она, в ваших руках. Но она ускользает от вас, и вот уже новый облик ее в звуках виолончелей и еще новый – в звуках воздушного столба Понджилеони. Каждая часть живет своей особой жизнью; они соприкасаются, их пути перекрещиваются, они сливаются на мгновение в гармонии; она кажется конечной и совершенной, но потом распадается снова. Каждая часть одинока, отдельна, одна. «Я есмь я, – говорит скрипка, – мир движется вокруг меня». «Вокруг меня», – поет виолончель. «Вокруг меня», – твердит флейта. И все одинаково правы и одинаково не правы, и никто из них не слушает остальных.
Человеческая фраза состоит из двухсот миллионов частей. Ее шум говорит что-то статистику и ничего не говорит художнику. Только выбирая каждый раз одну-две части, художник может что-то понять. Вот здесь, например, одна часть: Иоганн Себастьян рассказывает о ней. Начинается рондо, чудесное и мелодично-простое, почти как народная песня. Девушка поет сама себе о любви, одиноко, немножечко грустно. Девушка поет среди холмов, а по небу плывут облака. Одинокий, как облако, слушает ее песню поэт. Мысли, которые вызвала в нем песня, – это сарабанда, следующая за рондо. Медленно и нежно размышляет он о красоте (несмотря на грязь и глупость), о добре (несмотря на все зло), о единстве (несмотря на все запутанное разнообразие) мира. Это – красота, это – добро, это – единство. Их не постичь интеллектом, они не поддаются анализу, но в их реальности нерушимо убеждается дух. Девушка поет сама себе под бегущими по небу облаками – и вот уже в нас родилась уверенность. Утреннее небо безоблачно, и рождается уверенность. Это иллюзия или откровение глубочайшей истины? Кто знает? Понджилеони дул, скрипачи проводили натертым канифолью конским волосом по натянутым бараньим кишкам; и в продолжение всей сарабанды поэт неторопливо размышлял о своей нежной и спокойной уверенности.
– Эта музыка начинает надоедать мне, – шепотом сказал Джон Бидлэйк хозяйке дома. – Скоро она кончится?
Старый Бидлэйк не любил и не понимал музыку и откровенно признавался в этом. Он мог позволить себе быть откровенным. Какой смысл такому замечательному художнику, каким был Джон Бидлэйк, притворяться, будто он любит музыку? Он посмотрел на сидящих гостей и улыбнулся.
– У них такой вид, точно они сидят в церкви, – сказал он.
Леди Эдвард погрозила ему веером.
– Кто эта маленькая женщина в черном, – продолжал он, – которая закатывает глаза и качается всем телом, точно святая Тереза в экстазе?
– Фанни Логан, – прошептала леди Эдвард. – Но замолчите же наконец!
– Принято говорить, что порок преклоняется перед добродетелью, – неугомонно продолжал Джон Бидлэйк. – Но теперь все позволено – моральное лицемерие нам больше не нужно. Осталось лицемерие интеллектуальное. Преклонение филистеров перед искусством – так, что ли? Посмотрите-ка, как они преклоняются – постные рожи и благоговейное молчание!
– Вы должны быть благодарны за то, что их преклонение перед вами выражается в гинеях, – сказала леди Эдвард. – А теперь извольте молчать.
Бидлэйк с комическим ужасом прикрыл ладонью рот. Толли сладострастно взмахивал руками; Понджилеони дул; скрипачи пиликали. А Бах, поэт, размышлял об истине и красоте.
Слезы подступали к глазам Фанни Логан. Ее легко было растрогать, особенно музыкой; а когда она испытывала какое-нибудь чувство, она не старалась подавить его, но всем существом отдавалась ему. Как прекрасна музыка, как печальна и в то же время как успокоительна! Она чувствовала, как музыка претворяется в чудесное ощущение, незаметно, но настойчиво наполняющее все извилины ее существа. Все ее тело вздрагивало и покачивалось в такт мелодии. Она думала о своем покойном муже; поток музыки приносил ей воспоминания о нем, о милом, милом Эрике; с тех пор прошло почти два года; он умер таким молодым! Слезы потекли быстрей. Она отерла их. Музыка была бесконечно печальна, но в то же время она утешала. Она принимала все: преждевременную смерть бедняжки Эрика, его болезнь, его нежелание умирать; она принимала все. Она выражала всю печаль мира, но из глубин этой печали она утверждала – спокойно, примиренно, – что все правильно, все идет так, как нужно. За пределами печали простиралось более широкое, более полное блаженство. Слезы струились из глаз миссис Логан; но, несмотря на печаль, это были блаженные слезы. Ей хотелось поделиться своими чувствами с дочерью. Но Полли сидела в другом ряду. Миссис Логан видела за два ряда от себя ее затылок и ее тонкую шею с ниткой жемчуга, которую милый Эрик подарил ей, когда ей исполнилось восемнадцать лет, за несколько месяцев до своей смерти. И вдруг, словно почувствовав на себе взгляд матери, словно догадавшись о ее переживаниях, Полли обернулась и с улыбкой взглянула на нее. Грустное и музыкальное блаженство миссис Логан стало теперь полным.
Но не только глаза матери смотрели в сторону Полли. Удобно расположившись немного сбоку и позади нее, Хьюго Брокл восторженно изучал ее профиль. Как она очаровательна! Он размышлял, хватит ли у него смелости сказать ей, что в детстве они играли вместе в Кенсингтонском парке. Он подойдет к ней после музыки и скажет: «А знаете, мы были представлены друг другу в детских колясочках». Или, чтобы проявить еще более неожиданное остроумие: «Вы – та самая особа, которая стукнула меня по голове ракеткой».
Взгляд Джона Бидлэйка, беспокойно блуждавший по комнате, неожиданно натолкнулся на Мэри Беттер-тон. Да, это чудовище – Мэри Беттертон! Он опустил руку, он потрогал дерево кресла. Когда Джон Бидлэйк видел что-нибудь неприятное, он всегда чувствовал себя спокойней, потрогав дерево. Конечно, он не верил в Бога; он любил рассказывать анекдоты о священниках. Но дерево, дерево – в этом что-то есть… И подумать только, что он был влюблен в нее, безумно влюблен, двадцать, двадцать два – он боялся вспомнить, сколько лет тому назад. Какая старая, какая отвратительная толстуха! Он снова потрогал ножку кресла. Он отвернулся и попробовал думать о чем-нибудь другом, только не о Мэри Беттертон. Но воспоминания о том времени, когда Мэри была молода, преследовали его. Тогда он еще ездил верхом. Перед ним возник образ его самого на черном коне и Мэри – на гнедом. В те дни они часто выезжали вместе. Он писал тогда третью и лучшую картину из серии «Купальщицы». Какая картина, черт возьми! Даже в то время Мэри, с точки зрения некоторых, была слишком полна. Он этого не находил: полнота всегда нравилась ему. Эти современные женщины, старающиеся быть похожими на водосточные трубы… Он снова взглянул на нее и вздрогнул. Он ненавидел ее за то, что она так отвратительна, за то, что она была когда-то так прелестна. А ведь он на добрых двадцать лет старше ее!
III
Двумя этажами выше, между piano nobile[4 - Бельэтаж (ит.).] и мансардами прислуги, лорд Эдвард Тэнтемаунт работал у себя в лаборатории.
Младшие сыновья Тэнтемаунтов обычно шли в армию. Но так как наследник был калекой, отец предназначил лорда Эдварда к политической карьере, которую старшие сыновья по традиции начинали в палате общин и величественно заканчивали в палате лордов. Едва лорд Эдвард достиг совершеннолетия, как на руки ему свалились избиратели, о которых он обязан был заботиться. Он заботился о них не за страх, а за совесть. Но до чего он не любил произносить речи! А когда встречаешься с потенциальным избирателем, что следует ему сказать? И он никак не мог запомнить основных пунктов программы консервативной партии, а тем более – проникнуться к ним энтузиазмом. Решительно, политическая деятельность не была его призванием.
«Ну а чем бы ты хотел заняться?» – спрашивал его отец.
Но вся беда была в том, что лорд Эдвард сам этого не знал. Единственное, что доставляло ему истинное удовольствие, было посещение концертов. Но ведь нельзя же всю жизнь только и делать, что ходить в концерты! Четвертый маркиз не мог скрыть своего гнева и разочарования. «Мальчишка – кретин», – говорил он, и сам лорд Эдвард готов был согласиться с ним. Он был никчемным неудачником; в мире не было для него места. Бывали минуты, когда он думал о самоубийстве. «Если бы он хоть начал прожигать жизнь!» – жаловался его отец. Но к прожиганию жизни юноша был еще меньше склонен, чем к занятиям политикой. «Даже спортом не интересуется», – гласил следующий пункт обвинительного приговора. Это была правда.
Избиение птиц, даже в обществе принца Уэльского, решительно не привлекало лорда Эдварда: он не ощущал ничего, кроме разве некоторого отвращения. Он предпочитал сидеть дома и читать, рассеянно, неразборчиво, всего понемногу. Но даже чтение не удовлетворяло его. Главное достоинство этого занятия состоит в том, что оно занимает ум и помогает убивать время. Но какой в этом толк? Убивать время с помощью книги немногим лучше, чем убивать фазанов и время с помощью ружья. Он мог бы предаваться чтению до конца своих дней, но этим он все равно ничего бы не достиг.
Вечером 18 апреля 1887 года он сидел в библиотеке Тэнтемаунт-Хауса и размышлял о том, стоит ли вообще жить и как лучше умереть – утопиться или застрелиться? В этот день «Таймс» опубликовала подложное письмо Парнелла, якобы санкционировавшее убийство в Феникс-Парке. Четвертый маркиз с самого завтрака пребывал в волнении, едва не доведшем его до апоплексии. В клубах только и говорили, что об этом письме. «Вероятно, это очень важно», – говорил сам себе лорд Эдвард. Но он не мог заинтересоваться ни парнелловским движением, ни убийствами. Послушав, что говорят об этом в клубе, он в отчаянии отправился домой. Дверь библиотеки была открыта. Он вошел и бросился в кресло, чувствуя себя совершенно разбитым, как после тридцатимильной прогулки. «Я, наверно, идиот», – уверял он сам себя, размышляя о политическом энтузиазме других и о собственном безразличии. Он был слишком скромен, чтобы считать идиотами всех остальных. «Я безнадежен, безнадежен».
Он громко застонал, и его стон зловеще прозвучал в ученой тишине большой библиотеки. Смерть, конец всему; река, револьвер… Время шло. Лорд Эдвард понял, что даже о смерти он не может думать связно и последовательно: даже смерть скучна. На столе около него лежал последний номер «Куотерли». Может быть, это окажется менее скучным, чем смерть? Он взял его, открыл наудачу и принялся читать абзац из середины статьи о каком-то Клоде Бернаре. До тех пор он никогда не слыхал о Клоде Бернаре. Наверное, какой-нибудь француз. «Интересно, – думал он, – что это такое – гликогенная функция печени? Видимо, что-то ученое». Он пробежал глазами страницу. В одном месте стояли кавычки: это была цитата из сочинений Клода Бернара.
«Живое существо не является исключением из великой гармонии природы, которая заставляет вещи применяться одна к другой; оно не противоречит великим космическим силам и не вступает с ними в борьбу. Напротив: оно – лишь один из голосов в хоре всех вещей, и жизнь какого-нибудь животного есть лишь частица общей жизни вселенной».
Сначала он рассеянно пробежал эти слова, затем перечел их более внимательно, затем перечел еще несколько раз со все возрастающим интересом. «Жизнь животного есть лишь частица общей жизни вселенной». А как же самоубийство? Частица вселенной, разрушающая сама себя? Нет, не разрушающая: она не могла бы разрушить себя, даже если бы попыталась это сделать. Она просто изменит форму своего бытия. Изменит… Кусочки животных и растений становятся человеческими существами. То, что было некогда задней ногой барана и листьями шпината, станет частью руки, которая написала, частью мозга, который задумал медленные ритмы симфонии «Юпитер». А потом настал день, когда тридцать шесть лет удовольствий, страданий, голода, любви, мыслей, музыки вместе с бесчисленными неосуществленными возможностями мелодии и гармонии удобрили неведомый уголок венского кладбища, чтобы превратиться в траву и одуванчики, которые, в свою очередь, превратились в баранов, чьи задние ноги, в свою очередь, превратились в других музыкантов, чьи тела, в свою очередь… Все это очень просто, но для лорда Эдварда это было откровением. Неожиданно, в первый раз в жизни он понял, что он составляет единое целое с миром. Эта идея потрясла его; он встал с кресла и принялся взволнованно ходить взад и вперед по комнате. В сознании у него царил хаос, но мысли его были яркими и стремительными, а не тусклыми, туманными и ленивыми, как всегда.
«Может быть, когда я был в Вене в прошлом году, я поглотил часть субстанции Моцарта. Может быть, со шницелем по-венски, или с сосиской, или даже со стаканом пива. Приобщение, физическое приобщение. Или тогда, на замечательном исполнении «Волшебной флейты», – тоже приобщение, другого рода, а может быть, на самом деле такое же. Пресуществление, каннибализм, химия. В конце концов все сводится к химии. Бараньи ноги и шпинат… все это химия. Водород, кислород… Ну а еще что? Господи, как ужасно, как ужасно ничего не знать! Все те годы в Итоне. Какой от них толк? Латинские стихи. Чего ради? En! distenta ferunt perpingues ubera vaccae[5 - «Станет обильный удой давать тучное вымя коровы» (лат.) – строка из Горация.]. Почему меня не учили чему-нибудь дельному? «…Голос в хоре всех вещей»… Все это точно музыка. Гармония, и контрапункт, и модуляция. Но нужно уметь слушать. Китайская музыка… мы ничего в ней не понимаем. Хор всех вещей; благодаря Итону он для меня китайская музыка. Гликогенная функция печени… для меня это все равно что на языке банту: так же непонятно. Как унизительно! Но я могу научиться, я научусь, научусь…»
Лорд Эдвард пришел в необыкновенное возбуждение, никогда в жизни он не чувствовал себя таким счастливым.
Вечером он сказал отцу, что не намеревается выставлять свою кандидатуру в парламент. Старый джентльмен, еще не оправившийся после утренних разоблачений относительно Парнелла, пришел в бешенство. Лорд Эдвард оставался невозмутимым; он твердо решил. На следующий день он послал в газету объявление о том, что ищет учителя. Весной следующего года он работал в Берлине у Дюбуа-Реймона.
С тех пор прошло сорок лет. Исследования в области осмоса, косвенным образом доставившие ему жену, доставили ему также репутацию крупного ученого. Его работа об ассимиляции и росте считалась классической. Но большой теоретический трактат по физической биологии, создание которого он считал главной задачей своей жизни, был еще не закончен. «Жизнь какого-нибудь животного есть лишь частица общей жизни вселенной». Слова Клода Бернара, некогда вдохновившие его, были основной темой всех его работ. Книга, над которой он трудился все эти годы, будет лишь статистической и математической иллюстрацией к этим словам.
Наверху, в лаборатории, рабочий день только начинался: лорд Эдвард предпочитал работать ночью. Днем слишком шумно. Позавтракав в половине второго, он прогуливался час-другой; вернувшись, он читал или писал до восьми часов. После ленча, с девяти или с половины десятого, он вместе со своим ассистентом проводил опыты, по окончании которых они усаживались за работу над книгой или обсуждали ее основные положения. В час ночи лорд Эдвард ужинал, а между четырьмя и пятью ложился спать.
Обрывки b-mоll’ной сюиты еле слышно доносились из зала. Двое мужчин, работавших в лаборатории, были слишком заняты, чтобы обращать внимание на музыку.
– Пинцет, – сказал лорд Эдвард своему ассистенту. У него был низкий голос, нечеткий и как бы лишенный определенных очертаний. «Меховой голос», – как говорила его дочь Люси, когда была маленькой.
Иллидж протянул ему тонкий блестящий инструмент. Лорд Эдвард издал низкий звук, означавший благодарность, и поднес пинцет к анестезированному тритону, распластанному на миниатюрном операционном столе. Критический взгляд Иллиджа выразил одобрение. Старик работал изумительно четко. Ловкость сэра Эдварда всегда поражала Иллиджа. Никто не поверил бы, что такое громоздкое и неуклюжее существо, как Старик, может быть таким аккуратным. Его большие руки умели проделывать тончайшие операции – приятно было смотреть на них.
– Готово! – сказал сэр Эдвард и выпрямился настолько, насколько позволяла ему согнутая ревматизмом спина. – Я думаю, так правильно. Как по-вашему?
Это была любовь без претензий, но теплая, естественная, а следовательно – хорошая; это была честная, добродушная, блаженная чувственность. Для Хильды, знавшей раньше только стыдливую, извиняющуюся любовь ископаемого младенца, она была откровением. Она пробудила в ней умершие было чувства. Она с восторгом нашла самое себя. Но восторг ее не переходил границ. Она никогда не теряла голову. Потеряв голову, она вместе с тем потеряла бы Тэнтемаунт-Хаус, миллионы Тэнтемаунта и титул Тэнтемаунта. Она вовсе не собиралась терять все это. Поэтому голова ее оставалась трезвой и рассудительной среди самых бурных восторгов, как скала среди бурного моря. Наслаждаясь, она никогда не наносила этим ущерба своему положению в обществе. Благодаря трезвой голове и желанию сохранить себе положение в обществе она никогда не теряла способности смотреть со стороны на свои самые бурные восторги. Джон Бидлэйк одобрял ее умение совместить несовместимое.
– Благодарение Богу, Хильда, – часто говорил он, – ты – разумная женщина.
На собственном горьком опыте он испытал, как утомительны женщины, считающие, что ради любви можно пожертвовать всем на свете. Ему нравились женщины, любовь была необходимым удовольствием. Но ни одна женщина не стоила того, чтобы ради нее запутывать и портить себе жизнь. К безрассудным женщинам, принимающим любовь чересчур всерьез, Джон Бидлэйк относился беспощадно. Против их лозунга «Все за любовь» он выставлял свой: «Дайте мне жить спокойно». Он всегда оставался победителем. В борьбе за спокойную жизнь он не знал жалости и не знал страха.
Хильда Тэнтемаунт стремилась к спокойной жизни не меньше, чем Джон. Их связь продолжалась несколько лет, а потом кончилась незаметно для них самих. Они остались добрыми друзьями или заговорщиками, как их называли, злонамеренными заговорщиками, вступающими в союз, чтобы вместе позабавиться на чужой счет.
Сейчас они смеялись. Вернее, смеялся Джон, не терпевший музыки. Леди Эдвард пыталась сохранить декорум.
– Замолчите же наконец, – прошептала она.
– Да вы только посмотрите, до чего это комично, – настаивал Бидлэйк.
– Ш-ш…
– Но я говорю шепотом. – Ему надоело это бесконечное шиканье.
– Да, как лев.
– Ничего не поделаешь, – раздраженно ответил он. Когда он говорил шепотом, он считал, что никто, кроме собеседника, не должен его слышать. Он сердился, когда ему говорили, что то, что он считал верным, на самом деле неверно. – Лев! Подумать только! – возмущенно пробормотал он. Но его лицо сейчас же прояснилось. – Смотрите, – сказал он, – вот еще одна опоздавшая. На сколько спорим, что она сделает то же, что все остальные?
– Ш-ш… – повторила леди Эдвард.
Но Джон Бидлэйк не обращал на нее внимания. Он смотрел в сторону двери, где стояла последняя из опоздавших. Желание незаметно скрыться в молчаливой толпе боролось в ней с долгом гостьи сообщить хозяйке дома о своем приходе. Она растерянно смотрела по сторонам. Леди Эдвард приветствовала ее через головы гостей взмахом веера и улыбкой. Опоздавшая ответила ей улыбкой, послала воздушный поцелуй, приложила палец к губам, показала на свободное место в другом конце зала и распростерла руки, выражая этим жестом, что она извиняется за опоздание и сожалеет, что при сложившихся обстоятельствах ей нельзя подойти и поговорить с леди Эдвард; затем, втянув голову в плечи, сжавшись в комок и словно стараясь занимать как можно меньше пространства, она очень осторожно, на цыпочках, направилась к свободному месту.
Бидлэйк веселился от всей души. Он передразнивал все жесты бедной дамы. Он с подчеркнутым жаром ответил ей на воздушный поцелуй, а когда она приложила палец к губам, он закрыл рот всей пятерней. Жест, выражавший сожаление, стал в его гротескно-преувеличенной передаче жестом смехотворного отчаяния. А когда она на цыпочках пошла между рядами, он принялся хлопать себя по лбу и считать по пальцам, как делают в Неаполе, чтобы отвести дурной глаз. Он с торжеством обернулся к леди Эдвард.
– Я вам говорил, – прошептал он, и его лицо покрылось морщинами от сдерживаемого смеха. – Можно подумать, что находишься в санатории для глухонемых или разговариваешь с пигмеями в Центральной Африке. – Он открыл рот и показал пальцем, он сделал вид, что пьет из стакана. – Мой хочет есть, – сказал он. – Мой очень хочет пить.
Леди Эдвард ударила его веером.
Тем временем музыканты играли b-mоll’ную сюиту Баха для флейты и струнного оркестра. Молодой Толли вел оркестр со свойственной ему неподражаемой грацией, изгибаясь, как лебедь, и чертя руками по воздуху пышные арабески, словно он танцевал под музыку. Двенадцать безымянных скрипачей и виолончелистов пиликали по его приказу. А великий Понджилеони взасос целовал свою флейту. Он дул через отверстие, и цилиндрический воздушный столб вибрировал; раздумья Баха наполняли четырехугольный римский зал. В начальном largo Иоганн Себастьян при помощи воздушного столба и амбушюра Понджилеони твердо и ясно сказал: в мире есть величие и благородство; есть люди, рожденные королями; есть завоеватели, прирожденные властители земли. Размышления об этой земле, столь сложной и многолюдной, продолжались в allegro. Вам кажется, что вы нашли истину; скрипки возвещают ее, чистую, ясную, четкую; вы торжествуете: вот она, в ваших руках. Но она ускользает от вас, и вот уже новый облик ее в звуках виолончелей и еще новый – в звуках воздушного столба Понджилеони. Каждая часть живет своей особой жизнью; они соприкасаются, их пути перекрещиваются, они сливаются на мгновение в гармонии; она кажется конечной и совершенной, но потом распадается снова. Каждая часть одинока, отдельна, одна. «Я есмь я, – говорит скрипка, – мир движется вокруг меня». «Вокруг меня», – поет виолончель. «Вокруг меня», – твердит флейта. И все одинаково правы и одинаково не правы, и никто из них не слушает остальных.
Человеческая фраза состоит из двухсот миллионов частей. Ее шум говорит что-то статистику и ничего не говорит художнику. Только выбирая каждый раз одну-две части, художник может что-то понять. Вот здесь, например, одна часть: Иоганн Себастьян рассказывает о ней. Начинается рондо, чудесное и мелодично-простое, почти как народная песня. Девушка поет сама себе о любви, одиноко, немножечко грустно. Девушка поет среди холмов, а по небу плывут облака. Одинокий, как облако, слушает ее песню поэт. Мысли, которые вызвала в нем песня, – это сарабанда, следующая за рондо. Медленно и нежно размышляет он о красоте (несмотря на грязь и глупость), о добре (несмотря на все зло), о единстве (несмотря на все запутанное разнообразие) мира. Это – красота, это – добро, это – единство. Их не постичь интеллектом, они не поддаются анализу, но в их реальности нерушимо убеждается дух. Девушка поет сама себе под бегущими по небу облаками – и вот уже в нас родилась уверенность. Утреннее небо безоблачно, и рождается уверенность. Это иллюзия или откровение глубочайшей истины? Кто знает? Понджилеони дул, скрипачи проводили натертым канифолью конским волосом по натянутым бараньим кишкам; и в продолжение всей сарабанды поэт неторопливо размышлял о своей нежной и спокойной уверенности.
– Эта музыка начинает надоедать мне, – шепотом сказал Джон Бидлэйк хозяйке дома. – Скоро она кончится?
Старый Бидлэйк не любил и не понимал музыку и откровенно признавался в этом. Он мог позволить себе быть откровенным. Какой смысл такому замечательному художнику, каким был Джон Бидлэйк, притворяться, будто он любит музыку? Он посмотрел на сидящих гостей и улыбнулся.
– У них такой вид, точно они сидят в церкви, – сказал он.
Леди Эдвард погрозила ему веером.
– Кто эта маленькая женщина в черном, – продолжал он, – которая закатывает глаза и качается всем телом, точно святая Тереза в экстазе?
– Фанни Логан, – прошептала леди Эдвард. – Но замолчите же наконец!
– Принято говорить, что порок преклоняется перед добродетелью, – неугомонно продолжал Джон Бидлэйк. – Но теперь все позволено – моральное лицемерие нам больше не нужно. Осталось лицемерие интеллектуальное. Преклонение филистеров перед искусством – так, что ли? Посмотрите-ка, как они преклоняются – постные рожи и благоговейное молчание!
– Вы должны быть благодарны за то, что их преклонение перед вами выражается в гинеях, – сказала леди Эдвард. – А теперь извольте молчать.
Бидлэйк с комическим ужасом прикрыл ладонью рот. Толли сладострастно взмахивал руками; Понджилеони дул; скрипачи пиликали. А Бах, поэт, размышлял об истине и красоте.
Слезы подступали к глазам Фанни Логан. Ее легко было растрогать, особенно музыкой; а когда она испытывала какое-нибудь чувство, она не старалась подавить его, но всем существом отдавалась ему. Как прекрасна музыка, как печальна и в то же время как успокоительна! Она чувствовала, как музыка претворяется в чудесное ощущение, незаметно, но настойчиво наполняющее все извилины ее существа. Все ее тело вздрагивало и покачивалось в такт мелодии. Она думала о своем покойном муже; поток музыки приносил ей воспоминания о нем, о милом, милом Эрике; с тех пор прошло почти два года; он умер таким молодым! Слезы потекли быстрей. Она отерла их. Музыка была бесконечно печальна, но в то же время она утешала. Она принимала все: преждевременную смерть бедняжки Эрика, его болезнь, его нежелание умирать; она принимала все. Она выражала всю печаль мира, но из глубин этой печали она утверждала – спокойно, примиренно, – что все правильно, все идет так, как нужно. За пределами печали простиралось более широкое, более полное блаженство. Слезы струились из глаз миссис Логан; но, несмотря на печаль, это были блаженные слезы. Ей хотелось поделиться своими чувствами с дочерью. Но Полли сидела в другом ряду. Миссис Логан видела за два ряда от себя ее затылок и ее тонкую шею с ниткой жемчуга, которую милый Эрик подарил ей, когда ей исполнилось восемнадцать лет, за несколько месяцев до своей смерти. И вдруг, словно почувствовав на себе взгляд матери, словно догадавшись о ее переживаниях, Полли обернулась и с улыбкой взглянула на нее. Грустное и музыкальное блаженство миссис Логан стало теперь полным.
Но не только глаза матери смотрели в сторону Полли. Удобно расположившись немного сбоку и позади нее, Хьюго Брокл восторженно изучал ее профиль. Как она очаровательна! Он размышлял, хватит ли у него смелости сказать ей, что в детстве они играли вместе в Кенсингтонском парке. Он подойдет к ней после музыки и скажет: «А знаете, мы были представлены друг другу в детских колясочках». Или, чтобы проявить еще более неожиданное остроумие: «Вы – та самая особа, которая стукнула меня по голове ракеткой».
Взгляд Джона Бидлэйка, беспокойно блуждавший по комнате, неожиданно натолкнулся на Мэри Беттер-тон. Да, это чудовище – Мэри Беттертон! Он опустил руку, он потрогал дерево кресла. Когда Джон Бидлэйк видел что-нибудь неприятное, он всегда чувствовал себя спокойней, потрогав дерево. Конечно, он не верил в Бога; он любил рассказывать анекдоты о священниках. Но дерево, дерево – в этом что-то есть… И подумать только, что он был влюблен в нее, безумно влюблен, двадцать, двадцать два – он боялся вспомнить, сколько лет тому назад. Какая старая, какая отвратительная толстуха! Он снова потрогал ножку кресла. Он отвернулся и попробовал думать о чем-нибудь другом, только не о Мэри Беттертон. Но воспоминания о том времени, когда Мэри была молода, преследовали его. Тогда он еще ездил верхом. Перед ним возник образ его самого на черном коне и Мэри – на гнедом. В те дни они часто выезжали вместе. Он писал тогда третью и лучшую картину из серии «Купальщицы». Какая картина, черт возьми! Даже в то время Мэри, с точки зрения некоторых, была слишком полна. Он этого не находил: полнота всегда нравилась ему. Эти современные женщины, старающиеся быть похожими на водосточные трубы… Он снова взглянул на нее и вздрогнул. Он ненавидел ее за то, что она так отвратительна, за то, что она была когда-то так прелестна. А ведь он на добрых двадцать лет старше ее!
III
Двумя этажами выше, между piano nobile[4 - Бельэтаж (ит.).] и мансардами прислуги, лорд Эдвард Тэнтемаунт работал у себя в лаборатории.
Младшие сыновья Тэнтемаунтов обычно шли в армию. Но так как наследник был калекой, отец предназначил лорда Эдварда к политической карьере, которую старшие сыновья по традиции начинали в палате общин и величественно заканчивали в палате лордов. Едва лорд Эдвард достиг совершеннолетия, как на руки ему свалились избиратели, о которых он обязан был заботиться. Он заботился о них не за страх, а за совесть. Но до чего он не любил произносить речи! А когда встречаешься с потенциальным избирателем, что следует ему сказать? И он никак не мог запомнить основных пунктов программы консервативной партии, а тем более – проникнуться к ним энтузиазмом. Решительно, политическая деятельность не была его призванием.
«Ну а чем бы ты хотел заняться?» – спрашивал его отец.
Но вся беда была в том, что лорд Эдвард сам этого не знал. Единственное, что доставляло ему истинное удовольствие, было посещение концертов. Но ведь нельзя же всю жизнь только и делать, что ходить в концерты! Четвертый маркиз не мог скрыть своего гнева и разочарования. «Мальчишка – кретин», – говорил он, и сам лорд Эдвард готов был согласиться с ним. Он был никчемным неудачником; в мире не было для него места. Бывали минуты, когда он думал о самоубийстве. «Если бы он хоть начал прожигать жизнь!» – жаловался его отец. Но к прожиганию жизни юноша был еще меньше склонен, чем к занятиям политикой. «Даже спортом не интересуется», – гласил следующий пункт обвинительного приговора. Это была правда.
Избиение птиц, даже в обществе принца Уэльского, решительно не привлекало лорда Эдварда: он не ощущал ничего, кроме разве некоторого отвращения. Он предпочитал сидеть дома и читать, рассеянно, неразборчиво, всего понемногу. Но даже чтение не удовлетворяло его. Главное достоинство этого занятия состоит в том, что оно занимает ум и помогает убивать время. Но какой в этом толк? Убивать время с помощью книги немногим лучше, чем убивать фазанов и время с помощью ружья. Он мог бы предаваться чтению до конца своих дней, но этим он все равно ничего бы не достиг.
Вечером 18 апреля 1887 года он сидел в библиотеке Тэнтемаунт-Хауса и размышлял о том, стоит ли вообще жить и как лучше умереть – утопиться или застрелиться? В этот день «Таймс» опубликовала подложное письмо Парнелла, якобы санкционировавшее убийство в Феникс-Парке. Четвертый маркиз с самого завтрака пребывал в волнении, едва не доведшем его до апоплексии. В клубах только и говорили, что об этом письме. «Вероятно, это очень важно», – говорил сам себе лорд Эдвард. Но он не мог заинтересоваться ни парнелловским движением, ни убийствами. Послушав, что говорят об этом в клубе, он в отчаянии отправился домой. Дверь библиотеки была открыта. Он вошел и бросился в кресло, чувствуя себя совершенно разбитым, как после тридцатимильной прогулки. «Я, наверно, идиот», – уверял он сам себя, размышляя о политическом энтузиазме других и о собственном безразличии. Он был слишком скромен, чтобы считать идиотами всех остальных. «Я безнадежен, безнадежен».
Он громко застонал, и его стон зловеще прозвучал в ученой тишине большой библиотеки. Смерть, конец всему; река, револьвер… Время шло. Лорд Эдвард понял, что даже о смерти он не может думать связно и последовательно: даже смерть скучна. На столе около него лежал последний номер «Куотерли». Может быть, это окажется менее скучным, чем смерть? Он взял его, открыл наудачу и принялся читать абзац из середины статьи о каком-то Клоде Бернаре. До тех пор он никогда не слыхал о Клоде Бернаре. Наверное, какой-нибудь француз. «Интересно, – думал он, – что это такое – гликогенная функция печени? Видимо, что-то ученое». Он пробежал глазами страницу. В одном месте стояли кавычки: это была цитата из сочинений Клода Бернара.
«Живое существо не является исключением из великой гармонии природы, которая заставляет вещи применяться одна к другой; оно не противоречит великим космическим силам и не вступает с ними в борьбу. Напротив: оно – лишь один из голосов в хоре всех вещей, и жизнь какого-нибудь животного есть лишь частица общей жизни вселенной».
Сначала он рассеянно пробежал эти слова, затем перечел их более внимательно, затем перечел еще несколько раз со все возрастающим интересом. «Жизнь животного есть лишь частица общей жизни вселенной». А как же самоубийство? Частица вселенной, разрушающая сама себя? Нет, не разрушающая: она не могла бы разрушить себя, даже если бы попыталась это сделать. Она просто изменит форму своего бытия. Изменит… Кусочки животных и растений становятся человеческими существами. То, что было некогда задней ногой барана и листьями шпината, станет частью руки, которая написала, частью мозга, который задумал медленные ритмы симфонии «Юпитер». А потом настал день, когда тридцать шесть лет удовольствий, страданий, голода, любви, мыслей, музыки вместе с бесчисленными неосуществленными возможностями мелодии и гармонии удобрили неведомый уголок венского кладбища, чтобы превратиться в траву и одуванчики, которые, в свою очередь, превратились в баранов, чьи задние ноги, в свою очередь, превратились в других музыкантов, чьи тела, в свою очередь… Все это очень просто, но для лорда Эдварда это было откровением. Неожиданно, в первый раз в жизни он понял, что он составляет единое целое с миром. Эта идея потрясла его; он встал с кресла и принялся взволнованно ходить взад и вперед по комнате. В сознании у него царил хаос, но мысли его были яркими и стремительными, а не тусклыми, туманными и ленивыми, как всегда.
«Может быть, когда я был в Вене в прошлом году, я поглотил часть субстанции Моцарта. Может быть, со шницелем по-венски, или с сосиской, или даже со стаканом пива. Приобщение, физическое приобщение. Или тогда, на замечательном исполнении «Волшебной флейты», – тоже приобщение, другого рода, а может быть, на самом деле такое же. Пресуществление, каннибализм, химия. В конце концов все сводится к химии. Бараньи ноги и шпинат… все это химия. Водород, кислород… Ну а еще что? Господи, как ужасно, как ужасно ничего не знать! Все те годы в Итоне. Какой от них толк? Латинские стихи. Чего ради? En! distenta ferunt perpingues ubera vaccae[5 - «Станет обильный удой давать тучное вымя коровы» (лат.) – строка из Горация.]. Почему меня не учили чему-нибудь дельному? «…Голос в хоре всех вещей»… Все это точно музыка. Гармония, и контрапункт, и модуляция. Но нужно уметь слушать. Китайская музыка… мы ничего в ней не понимаем. Хор всех вещей; благодаря Итону он для меня китайская музыка. Гликогенная функция печени… для меня это все равно что на языке банту: так же непонятно. Как унизительно! Но я могу научиться, я научусь, научусь…»
Лорд Эдвард пришел в необыкновенное возбуждение, никогда в жизни он не чувствовал себя таким счастливым.
Вечером он сказал отцу, что не намеревается выставлять свою кандидатуру в парламент. Старый джентльмен, еще не оправившийся после утренних разоблачений относительно Парнелла, пришел в бешенство. Лорд Эдвард оставался невозмутимым; он твердо решил. На следующий день он послал в газету объявление о том, что ищет учителя. Весной следующего года он работал в Берлине у Дюбуа-Реймона.
С тех пор прошло сорок лет. Исследования в области осмоса, косвенным образом доставившие ему жену, доставили ему также репутацию крупного ученого. Его работа об ассимиляции и росте считалась классической. Но большой теоретический трактат по физической биологии, создание которого он считал главной задачей своей жизни, был еще не закончен. «Жизнь какого-нибудь животного есть лишь частица общей жизни вселенной». Слова Клода Бернара, некогда вдохновившие его, были основной темой всех его работ. Книга, над которой он трудился все эти годы, будет лишь статистической и математической иллюстрацией к этим словам.
Наверху, в лаборатории, рабочий день только начинался: лорд Эдвард предпочитал работать ночью. Днем слишком шумно. Позавтракав в половине второго, он прогуливался час-другой; вернувшись, он читал или писал до восьми часов. После ленча, с девяти или с половины десятого, он вместе со своим ассистентом проводил опыты, по окончании которых они усаживались за работу над книгой или обсуждали ее основные положения. В час ночи лорд Эдвард ужинал, а между четырьмя и пятью ложился спать.
Обрывки b-mоll’ной сюиты еле слышно доносились из зала. Двое мужчин, работавших в лаборатории, были слишком заняты, чтобы обращать внимание на музыку.
– Пинцет, – сказал лорд Эдвард своему ассистенту. У него был низкий голос, нечеткий и как бы лишенный определенных очертаний. «Меховой голос», – как говорила его дочь Люси, когда была маленькой.
Иллидж протянул ему тонкий блестящий инструмент. Лорд Эдвард издал низкий звук, означавший благодарность, и поднес пинцет к анестезированному тритону, распластанному на миниатюрном операционном столе. Критический взгляд Иллиджа выразил одобрение. Старик работал изумительно четко. Ловкость сэра Эдварда всегда поражала Иллиджа. Никто не поверил бы, что такое громоздкое и неуклюжее существо, как Старик, может быть таким аккуратным. Его большие руки умели проделывать тончайшие операции – приятно было смотреть на них.
– Готово! – сказал сэр Эдвард и выпрямился настолько, насколько позволяла ему согнутая ревматизмом спина. – Я думаю, так правильно. Как по-вашему?