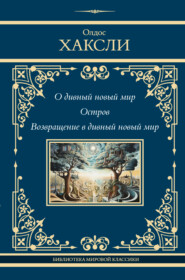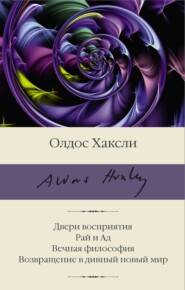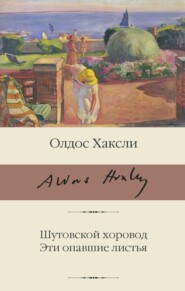По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Контрапункт
Автор
Жанр
Год написания книги
1928
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Циник ограничивает свой жизненный опыт только одной половиной фактов, меньшей половиной, потому что факты духовной жизни более многочисленны, чем факты телесной жизни.
– Их бесконечно больше!
– В своей узкой области он может достигнуть большого мастерства. Возьмите, например, Бидлэйка. Он замечательный мастер. В своем творчестве он воплощает совершеннейшую технику современной живописи. Или по крайней мере воплощал.
– Да, воплощал, – вздохнула миссис Беттертон. – В первые годы нашего знакомства. – Она словно хотела сказать, что если он и писал когда-нибудь хорошо, то только под ее влиянием.
– Но свой гений он растрачивает на мелочи. В своем творчестве он синтезирует ограниченное, относительно несущественное.
– Именно это я всегда ему говорила, – сказала миссис Беттертон, в новом и более лестном для своей репутации свете интерпретируя тогдашние свои споры с Бидлэйком о прерафаэлитах. – Возьмите, например, Бёрн-Джонса, говорила я ему. – В ее ушах прозвучал оглушительный раблезианский хохот Джона Бидлэйка. – Я не говорю, конечно, что Бёрн-Джонс очень хороший художник, – поспешно добавила она. («Он пишет так, – говорил Джон Бидлэйк, глубоко шокируя и оскорбляя ее этими словами, – словно он никогда в жизни не видел голого зада».) – Но его темы благородны. Если бы у вас, говорила я, были его идеалы, были его мечты, вы стали бы действительно великим художником.
Барлеп кивнул и одобрительно улыбнулся. «Да она на стороне ангелов, – думал он, – она нуждается в поощрении. На мне лежит огромная ответственность». Демон подмигнул.
«В его улыбке, – рассуждала про себя миссис Беттертон, – есть что-то от портретов Леонардо и Содомы – что-то таинственное, тонкое, скрытное».
– Хотя, конечно, – продолжал Барлеп, пережевывая свою статью фразу за фразой, – в произведении искусства тема – это еще далеко не все. Уитьер и Лонгфелло были начинены высокими идеями. Но их стихи весьма посредственны.
– Как это верно!
– Единственное обобщение, на которое можно рискнуть, – это что величайшие произведения искусства были написаны на высокие темы и что произведение, тема которого незначительна, как бы совершенно оно ни было выполнено, никогда не достигает подлинной высоты совершенства.
– А вот и Уолтер, – прервала его миссис Беттер-тон. – Бродит, как нераскаянный дух. Уолтер!
Услышав, что его окликают, Уолтер обернулся. Боже милостивый – Беттертониха! И Барлеп! Он изобразил улыбку. Но миссис Беттертон и его коллега по «Литературному миру» меньше всего интересовали его в эту минуту.
– А мы как раз говорили о проблеме великого в искусстве, – объяснила миссис Беттертон. – Мистер Барлеп высказывал такие глубокие мысли! – И она принялась повторять Уолтеру все глубокие суждения Барлепа.
Уолтер пытался понять, почему Барлеп держал себя с ним так холодно, так замкнуто, почти враждебно. Иметь дело с Барлепом было нелегко. Никогда нельзя было понять, как он относится к вам. Он или любил, или ненавидел. Общение с ним было длинным рядом сцен: он вел себя или очень враждебно, или, что, с точки зрения Уолтера, было еще более утомительно, слишком нежно. Так или иначе, поток эмоций не переставал бурлить ни на минуту, не давая передохнуть в стоячей воде ровных отношений. Поток не стихал. Почему теперь он повернул в сторону враждебности?
Тем временем миссис Беттертон выкладывала глубокие суждения. Уолтер находил, что они очень похожи на некоторые абзацы из статьи Барлепа, которую он только сегодня корректировал перед отсылкой в типографию. Воссозданная в виде целой серии взрывов восторга на основании словесного воспроизведения самого Барлепа, статья звучала довольно глупо. Так вот оно что! Может быть, поэтому?.. Он взглянул на Барлепа. Лицо Барлепа окаменело.
– Пожалуй, мне пора идти, – резко сказал Барлеп, когда миссис Беттертон сделала паузу.
– Нет, что вы! – запротестовала она. – Почему?
Он сделал над собой усилие и улыбнулся своей улыбкой в стиле Содомы.
– Мирское слишком уж над нами тяготеет, – произнес он таинственно. Он любил произносить таинственные изречения, неожиданно вставляя их посреди разговора.
– Вот уж чего о вас никак не скажешь, – льстиво сказала миссис Беттертон.
– Все дело в толпе, – объяснил он. – Чуть-чуть побуду в толпе – и она начинает меня пугать. Я чувствую себя так, точно мою душу задавили насмерть. Если бы я остался, я начал бы рыдать. – И он распрощался.
– Какой замечательный человек! – воскликнула миссис Беттертон, когда он еще не успел отойти настолько, чтобы не услышать. – Какой вы счастливый, что работаете с ним!
– Он прекрасный редактор, – сказал Уолтер.
– Но я говорю о его индивидуальности – как бы это выразить? – о его духовном начале.
Уолтер кивнул головой и довольно неопределенно сказал «да»: он вовсе не склонен был приходить в восторг от духовного начала Барлепа.
– В наш век, – продолжала миссис Беттертон, – он настоящий оазис в пустыне легкомыслия и цинизма.
– У него бывают блестящие идеи, – осторожно согласился Уолтер.
Он думал о том, скоро ли ему удастся сбежать от нее.
– Вот Уолтер, – сказала леди Эдвард.
– Какой Уолтер? – спросил Бидлэйк. Подводные течения званого вечера снова свели их вместе.
– Ваш Уолтер.
– Ах, мой! – Хотя он не очень стремился увидеть своего сына, он посмотрел по направлению ее взгляда. – Как он вытянулся! – сказал он. Ему не нравилось, что его дети росли: вырастая, они оттесняли его на задний план, год за годом оттесняли к забвению и смерти. Вот Уолтер. Он родился совсем недавно, а сейчас мальчишке уже, наверное, двадцать пять лет.
– Бедняга Уолтер! Вид у него не блестящий.
– Такой вид, словно у него глисты, – свирепо сказал Бидлэйк.
– А как эта его печальная история? – спросила она.
– Все так же, – пожал плечами Бидлэйк.
– Я никогда не видела эту женщину.
– Зато я видел. Она ужасна.
– Что? Вульгарна?
– Нет, нет! Хуже: она так утонченна, так невероятно утонченна! А как она говорит! – Он заговорил, растягивая слова, тоненьким голоском, который должен был изображать голос Марджори: – Как маленькая невинная деточка. И она такая серьезная, такая культурная. – Он засмеялся своим раскатистым смехом. – Знаете, что она мне как-то сказала? Надо вам заметить, со мной она всегда говорит об искусстве. Искусстве с большой буквы, конечно. Она сказала, – здесь его голос снова перешел на младенческий фальцет: – «Мне кажется, можно любить одинаково Фра Анджелико и Рубенса». – Он снова разразился гомерическим смехом. – Какая дура! А нос у нее по крайней мере на три дюйма длинней, чем следует.
Марджори открыла шкатулку, в которой она хранила свои письма. Письма Уолтера. Она развязала ленточку и пересмотрела их все, одно за другим. «Дорогая миссис Карлинг, посылаю Вам томик писем Китса, о которых мы говорили сегодня. Прошу Вас, не трудитесь возвращать его мне: у меня есть другой экземпляр. И я перечту его, чтобы доставить себе удовольствие сопровождать Вас, хотя бы и на расстоянии, в Вашем духовном путешествии».
Это было его первое письмо. Она прочла его до конца, и в ее памяти воскресла та радость, которую вызвали тогда в ней эти слова о духовном путешествии. В разговорах он всегда избегал затрагивать личные темы, он был болезненно застенчив. Она не ожидала, что он станет писать так. Позднее, когда их переписка стала регулярной, она привыкла к его странностям. Она убедилась, что с пером в руке он гораздо смелей, чем лицом к лицу. Всю свою любовь – по крайней мере когда она выражалась словами и когда в начале ухаживания он бывал сколько-нибудь пылок – он изливал в письмах. Это вполне удовлетворяло Марджори. Она готова была до бесконечности продолжать эту культурную и на словах пламенную любовь по почте. Ей нравилась самая идея любви, но любовники нравились ей только на расстоянии и в воображении. Заочный курс страсти казался ей идеальной формой отношений с мужчиной. Еще больше нравились ей личные отношения с женщинами, потому что женщины, даже при личном общении с ними, сохраняют все положительные свойства мужчины на расстоянии. Можно сидеть с женщиной в одной комнате, и она будет требовать от вас не больше того, что требует мужчина, находящийся на другом конце системы почтовых отделений. Уолтер, застенчивый в разговоре и страстный и смелый в письмах, сочетал, с точки зрения Марджори, все достоинства обоих полов. И сверх того, он проявлял такой глубокий, такой лестный интерес ко всему, что она делала, чувствовала и думала. Бедняжка Марджори не была избалована вниманием.
«Сфинкс», – прочла она в третьем письме. (Он называл ее так за ее загадочное молчание. Карлинг по той же причине звал ее Брюквой или Рыбой.) «Сфинкс, почему Вы прячетесь в скорлупу молчания? Можно подумать, что Вы стыдитесь своей доброты, нежности и чуткости. Но скрыть их Вам все равно не удается».
Слезы подступили к ее глазам. Он так хорошо относился к ней, он был таким нежным и ласковым! А теперь…
«Любовь, – читала она сквозь слезы в следующем письме, – любовь превращает физическое желание в духовное: она обладает магическим свойством претворять тело в душу…»
Да, даже у него бывали такие желания. Даже у него. Вероятно, они бывают у всех мужчин. Как это отвратительно! Она вздрогнула, с ужасом вспоминая Карлинга, вспоминая даже Уолтера. Да, даже Уолтера, хотя он был таким милым и деликатным. Уолтер понимал ее. Тем удивительнее его теперешнее поведение. Он точно стал другим человеком, вернее – диким животным, животно-жестоким, животно-похотливым.
«Как он может быть таким жестоким? – спрашивала она себя. – Как он может быть намеренно жестоким, Уолтер?» Ее Уолтер, настоящий Уолтер, был такой мягкий, чуткий и деликатный, такой необычайно заботливый и добрый. Она полюбила его за его доброту и нежность, несмотря на то что он был мужчина и у него бывали такие желания; вся ее преданность была направлена на того нежного, заботливого, деликатного Уолтера, которого она узнала и оценила, когда они стали жить вместе. Она любила в нем даже слабости и недостатки, происходившие от деликатности; любила его даже за то, что он переплачивал шоферам и носильщикам, за то, что он пригоршнями раздавал серебро бродягам, рассказывавшим явно лживые истории о работе, ожидающей их в другом конце Англии, и об отсутствии денег на дорогу. Он с чрезмерной готовностью становился на точки зрения других. В своем стремлении быть справедливым к другим он часто бывал несправедлив к самому себе. Он всегда предпочитал жертвовать своими правами, лишь бы не нарушать права других людей. Марджори понимала, что в таких случаях деликатность граничит со слабостью, становится пороком; к тому же эта деликатность происходила от робости, от того, что он был недотрогой и брезгливо уклонялся не только от всякого столкновения, но даже от всякого неприятного соприкосновения с людьми. И все-таки она любила его за это, любила даже тогда, когда от этого страдала она сама. Потому что, включив ее в свой собственный мирок, который он противопоставлял всему остальному миру, он стал приносить в жертву своей преувеличенной деликатности не только свои, но и ее интересы. Как часто говорила она ему, что его работа в «Литературном мире» оплачивается слишком низко! Она вспомнила их последний разговор на эту самую неприятную для него тему.
– Барлеп выжимает из тебя все соки, Уолтер, – сказала она.
– Журнал сейчас в очень затруднительном положении. – Он всегда находил, чем оправдать проступки других людей по отношению к себе.
– Их бесконечно больше!
– В своей узкой области он может достигнуть большого мастерства. Возьмите, например, Бидлэйка. Он замечательный мастер. В своем творчестве он воплощает совершеннейшую технику современной живописи. Или по крайней мере воплощал.
– Да, воплощал, – вздохнула миссис Беттертон. – В первые годы нашего знакомства. – Она словно хотела сказать, что если он и писал когда-нибудь хорошо, то только под ее влиянием.
– Но свой гений он растрачивает на мелочи. В своем творчестве он синтезирует ограниченное, относительно несущественное.
– Именно это я всегда ему говорила, – сказала миссис Беттертон, в новом и более лестном для своей репутации свете интерпретируя тогдашние свои споры с Бидлэйком о прерафаэлитах. – Возьмите, например, Бёрн-Джонса, говорила я ему. – В ее ушах прозвучал оглушительный раблезианский хохот Джона Бидлэйка. – Я не говорю, конечно, что Бёрн-Джонс очень хороший художник, – поспешно добавила она. («Он пишет так, – говорил Джон Бидлэйк, глубоко шокируя и оскорбляя ее этими словами, – словно он никогда в жизни не видел голого зада».) – Но его темы благородны. Если бы у вас, говорила я, были его идеалы, были его мечты, вы стали бы действительно великим художником.
Барлеп кивнул и одобрительно улыбнулся. «Да она на стороне ангелов, – думал он, – она нуждается в поощрении. На мне лежит огромная ответственность». Демон подмигнул.
«В его улыбке, – рассуждала про себя миссис Беттертон, – есть что-то от портретов Леонардо и Содомы – что-то таинственное, тонкое, скрытное».
– Хотя, конечно, – продолжал Барлеп, пережевывая свою статью фразу за фразой, – в произведении искусства тема – это еще далеко не все. Уитьер и Лонгфелло были начинены высокими идеями. Но их стихи весьма посредственны.
– Как это верно!
– Единственное обобщение, на которое можно рискнуть, – это что величайшие произведения искусства были написаны на высокие темы и что произведение, тема которого незначительна, как бы совершенно оно ни было выполнено, никогда не достигает подлинной высоты совершенства.
– А вот и Уолтер, – прервала его миссис Беттер-тон. – Бродит, как нераскаянный дух. Уолтер!
Услышав, что его окликают, Уолтер обернулся. Боже милостивый – Беттертониха! И Барлеп! Он изобразил улыбку. Но миссис Беттертон и его коллега по «Литературному миру» меньше всего интересовали его в эту минуту.
– А мы как раз говорили о проблеме великого в искусстве, – объяснила миссис Беттертон. – Мистер Барлеп высказывал такие глубокие мысли! – И она принялась повторять Уолтеру все глубокие суждения Барлепа.
Уолтер пытался понять, почему Барлеп держал себя с ним так холодно, так замкнуто, почти враждебно. Иметь дело с Барлепом было нелегко. Никогда нельзя было понять, как он относится к вам. Он или любил, или ненавидел. Общение с ним было длинным рядом сцен: он вел себя или очень враждебно, или, что, с точки зрения Уолтера, было еще более утомительно, слишком нежно. Так или иначе, поток эмоций не переставал бурлить ни на минуту, не давая передохнуть в стоячей воде ровных отношений. Поток не стихал. Почему теперь он повернул в сторону враждебности?
Тем временем миссис Беттертон выкладывала глубокие суждения. Уолтер находил, что они очень похожи на некоторые абзацы из статьи Барлепа, которую он только сегодня корректировал перед отсылкой в типографию. Воссозданная в виде целой серии взрывов восторга на основании словесного воспроизведения самого Барлепа, статья звучала довольно глупо. Так вот оно что! Может быть, поэтому?.. Он взглянул на Барлепа. Лицо Барлепа окаменело.
– Пожалуй, мне пора идти, – резко сказал Барлеп, когда миссис Беттертон сделала паузу.
– Нет, что вы! – запротестовала она. – Почему?
Он сделал над собой усилие и улыбнулся своей улыбкой в стиле Содомы.
– Мирское слишком уж над нами тяготеет, – произнес он таинственно. Он любил произносить таинственные изречения, неожиданно вставляя их посреди разговора.
– Вот уж чего о вас никак не скажешь, – льстиво сказала миссис Беттертон.
– Все дело в толпе, – объяснил он. – Чуть-чуть побуду в толпе – и она начинает меня пугать. Я чувствую себя так, точно мою душу задавили насмерть. Если бы я остался, я начал бы рыдать. – И он распрощался.
– Какой замечательный человек! – воскликнула миссис Беттертон, когда он еще не успел отойти настолько, чтобы не услышать. – Какой вы счастливый, что работаете с ним!
– Он прекрасный редактор, – сказал Уолтер.
– Но я говорю о его индивидуальности – как бы это выразить? – о его духовном начале.
Уолтер кивнул головой и довольно неопределенно сказал «да»: он вовсе не склонен был приходить в восторг от духовного начала Барлепа.
– В наш век, – продолжала миссис Беттертон, – он настоящий оазис в пустыне легкомыслия и цинизма.
– У него бывают блестящие идеи, – осторожно согласился Уолтер.
Он думал о том, скоро ли ему удастся сбежать от нее.
– Вот Уолтер, – сказала леди Эдвард.
– Какой Уолтер? – спросил Бидлэйк. Подводные течения званого вечера снова свели их вместе.
– Ваш Уолтер.
– Ах, мой! – Хотя он не очень стремился увидеть своего сына, он посмотрел по направлению ее взгляда. – Как он вытянулся! – сказал он. Ему не нравилось, что его дети росли: вырастая, они оттесняли его на задний план, год за годом оттесняли к забвению и смерти. Вот Уолтер. Он родился совсем недавно, а сейчас мальчишке уже, наверное, двадцать пять лет.
– Бедняга Уолтер! Вид у него не блестящий.
– Такой вид, словно у него глисты, – свирепо сказал Бидлэйк.
– А как эта его печальная история? – спросила она.
– Все так же, – пожал плечами Бидлэйк.
– Я никогда не видела эту женщину.
– Зато я видел. Она ужасна.
– Что? Вульгарна?
– Нет, нет! Хуже: она так утонченна, так невероятно утонченна! А как она говорит! – Он заговорил, растягивая слова, тоненьким голоском, который должен был изображать голос Марджори: – Как маленькая невинная деточка. И она такая серьезная, такая культурная. – Он засмеялся своим раскатистым смехом. – Знаете, что она мне как-то сказала? Надо вам заметить, со мной она всегда говорит об искусстве. Искусстве с большой буквы, конечно. Она сказала, – здесь его голос снова перешел на младенческий фальцет: – «Мне кажется, можно любить одинаково Фра Анджелико и Рубенса». – Он снова разразился гомерическим смехом. – Какая дура! А нос у нее по крайней мере на три дюйма длинней, чем следует.
Марджори открыла шкатулку, в которой она хранила свои письма. Письма Уолтера. Она развязала ленточку и пересмотрела их все, одно за другим. «Дорогая миссис Карлинг, посылаю Вам томик писем Китса, о которых мы говорили сегодня. Прошу Вас, не трудитесь возвращать его мне: у меня есть другой экземпляр. И я перечту его, чтобы доставить себе удовольствие сопровождать Вас, хотя бы и на расстоянии, в Вашем духовном путешествии».
Это было его первое письмо. Она прочла его до конца, и в ее памяти воскресла та радость, которую вызвали тогда в ней эти слова о духовном путешествии. В разговорах он всегда избегал затрагивать личные темы, он был болезненно застенчив. Она не ожидала, что он станет писать так. Позднее, когда их переписка стала регулярной, она привыкла к его странностям. Она убедилась, что с пером в руке он гораздо смелей, чем лицом к лицу. Всю свою любовь – по крайней мере когда она выражалась словами и когда в начале ухаживания он бывал сколько-нибудь пылок – он изливал в письмах. Это вполне удовлетворяло Марджори. Она готова была до бесконечности продолжать эту культурную и на словах пламенную любовь по почте. Ей нравилась самая идея любви, но любовники нравились ей только на расстоянии и в воображении. Заочный курс страсти казался ей идеальной формой отношений с мужчиной. Еще больше нравились ей личные отношения с женщинами, потому что женщины, даже при личном общении с ними, сохраняют все положительные свойства мужчины на расстоянии. Можно сидеть с женщиной в одной комнате, и она будет требовать от вас не больше того, что требует мужчина, находящийся на другом конце системы почтовых отделений. Уолтер, застенчивый в разговоре и страстный и смелый в письмах, сочетал, с точки зрения Марджори, все достоинства обоих полов. И сверх того, он проявлял такой глубокий, такой лестный интерес ко всему, что она делала, чувствовала и думала. Бедняжка Марджори не была избалована вниманием.
«Сфинкс», – прочла она в третьем письме. (Он называл ее так за ее загадочное молчание. Карлинг по той же причине звал ее Брюквой или Рыбой.) «Сфинкс, почему Вы прячетесь в скорлупу молчания? Можно подумать, что Вы стыдитесь своей доброты, нежности и чуткости. Но скрыть их Вам все равно не удается».
Слезы подступили к ее глазам. Он так хорошо относился к ней, он был таким нежным и ласковым! А теперь…
«Любовь, – читала она сквозь слезы в следующем письме, – любовь превращает физическое желание в духовное: она обладает магическим свойством претворять тело в душу…»
Да, даже у него бывали такие желания. Даже у него. Вероятно, они бывают у всех мужчин. Как это отвратительно! Она вздрогнула, с ужасом вспоминая Карлинга, вспоминая даже Уолтера. Да, даже Уолтера, хотя он был таким милым и деликатным. Уолтер понимал ее. Тем удивительнее его теперешнее поведение. Он точно стал другим человеком, вернее – диким животным, животно-жестоким, животно-похотливым.
«Как он может быть таким жестоким? – спрашивала она себя. – Как он может быть намеренно жестоким, Уолтер?» Ее Уолтер, настоящий Уолтер, был такой мягкий, чуткий и деликатный, такой необычайно заботливый и добрый. Она полюбила его за его доброту и нежность, несмотря на то что он был мужчина и у него бывали такие желания; вся ее преданность была направлена на того нежного, заботливого, деликатного Уолтера, которого она узнала и оценила, когда они стали жить вместе. Она любила в нем даже слабости и недостатки, происходившие от деликатности; любила его даже за то, что он переплачивал шоферам и носильщикам, за то, что он пригоршнями раздавал серебро бродягам, рассказывавшим явно лживые истории о работе, ожидающей их в другом конце Англии, и об отсутствии денег на дорогу. Он с чрезмерной готовностью становился на точки зрения других. В своем стремлении быть справедливым к другим он часто бывал несправедлив к самому себе. Он всегда предпочитал жертвовать своими правами, лишь бы не нарушать права других людей. Марджори понимала, что в таких случаях деликатность граничит со слабостью, становится пороком; к тому же эта деликатность происходила от робости, от того, что он был недотрогой и брезгливо уклонялся не только от всякого столкновения, но даже от всякого неприятного соприкосновения с людьми. И все-таки она любила его за это, любила даже тогда, когда от этого страдала она сама. Потому что, включив ее в свой собственный мирок, который он противопоставлял всему остальному миру, он стал приносить в жертву своей преувеличенной деликатности не только свои, но и ее интересы. Как часто говорила она ему, что его работа в «Литературном мире» оплачивается слишком низко! Она вспомнила их последний разговор на эту самую неприятную для него тему.
– Барлеп выжимает из тебя все соки, Уолтер, – сказала она.
– Журнал сейчас в очень затруднительном положении. – Он всегда находил, чем оправдать проступки других людей по отношению к себе.