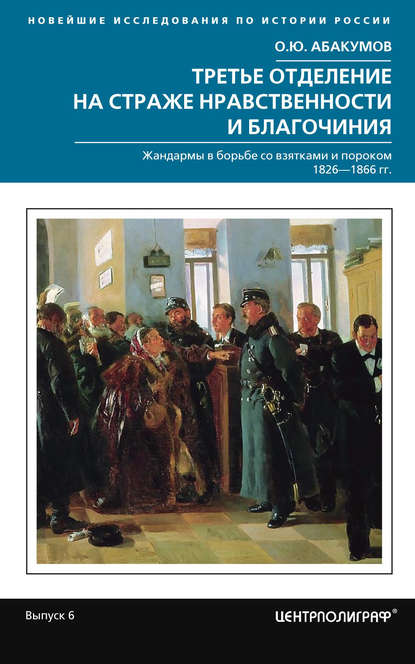По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Третье отделение на страже нравственности и благочиния. Жандармы в борьбе со взятками и пороком. 1826—1866 гг.
Автор
Год написания книги
2017
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Через год, в апреле 1849 г., начались аресты участников «пятниц» М. В. Буташевича-Петрашевского. Его Третье отделение считало главным виновником заговора и совратителем молодежи. Всего в заключении оказалось около 50 чел., а допросам подверглись 122 чел.[124 - Егоров Б. Н. Петрашевцы. Л., 1988. С. 177.]. В «Обзоре деятельности Третьего отделения за 25 лет» прямо указывалось: «Сильнейшее же влияние западные лжеучители произвели на чиновника Министерства иностранных дел Буташевича-Петрашевского, который и прежде замечен был в склонности к безнравственным поступкам. Чтение новых иностранных книг совершенно лишило его здравого смысла, и он, вовлекая в свое знакомство молодых людей, передавал им испорченность своих мыслей»[125 - ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 533. Л. 135 об.].
Под впечатлением открытого в столице заговора управляющий Третьим отделением, Л. В. Дубельт, сетовал по поводу «буйной» молодежи, у которой «привычка судить криво все более и более усиливается оттого, что у них и души, и толк вверх дном»[126 - Дубельт Л. В. Вера без добрых дел мертвая вещь // Российский архив. История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. Выпуск VI. М., 1995. С. 131.]. И он видел корень проблемы в воспитании, в нравственном воздействии на молодые умы: «Воспитание порождает смуты и беспорядки нашего времени. Воспитание, худое направление мыслей, привычка считать себя умнее других – вот настоящие причины неустройства»[127 - Там же.]. Другой компонент формирования верноподданного – это образование. «Истинное просвещение должно быть основано на религии; тогда оно и плоды принесет сторицею. А когда просвещение религии знать не хочет и только опирается на диком, бездушном эгоизме, так и плоды будут адские, как начало его адское!»[128 - Там же. С. 128.] – поучал Л. В. Дубельт.
Этому здравому началу противостоит свобода книгопечатания, которая несет вред обществу и государству: «Хороший человек не станет читать худых книг, порочного и безнравственного листка и в руки не возьмет; а дурному человеку никакая цензура не помешает доставать худые книги»[129 - Там же. С. 130.]. Вот почему «в нашей России должны ученые поступать как аптекари, владеющие и благотворными, целительными средствами, и ядами, – и отпускать ученость только по рецепту правительства»[130 - Там же. С. 113.]. Таким образом, именно власть должна формировать государственную идеологию и мировоззрение подданных.
Дело участников кружка М. В. Буташевича-Петрашевского актуализировала охранительные меры. Военный министр А. И. Чернышев, передавая шефу жандармов А. Ф. Орлову (7 января 1850 г.) слова высочайшего повеления, напоминал о недавнем следствии, которое показало, что «преступные замыслы на ниспровержение и превращение существующего в России государственного устройства возникли большею частию между людьми молодыми, недавно кончившими или еще заканчивающими курс наук в высших учебных заведениях», из этого можно заключить, что «настоящие меры наблюдения относительно духа и направления преподавания вообще не довольно еще бдительны»[131 - ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. 1850. Д. 154. Л. 1.]. Прежде всего «некоторые из преподавателей сами содействуют к превратному направлению понятий между учащимися, как это доказывается и найденными у преступников лекциями, и программами преподавателей, в которых допущены вредные для существующего порядка суждения»[132 - Там же. Л. 1–1 об.]. Кроме того, «огромное количество вторгающихся к нам иностранных сочинений самого опасного содержания […] способствуют превратному образу мыслей в умах юных и неопытных, доказывая с тем вместе, что или цензура наша не довольно осмотрительна, или что принимаемые против ввоза запрещенных книг меры недовольно еще бдительны и строги»[133 - Там же. Л. 1 об.]. Помимо этого сами молодые люди, в поисках заработка, обращались к литературному труду. При недостатке цензурного контроля появлялись статьи «коих направление явственно вредно, и посредством сего легкого способа, зараженные уже вольнодумством сочинители, разливают яд свой в умы чуждые еще пагубных мечтаний»[134 - Там же. Л. 1 об.–2.].
Военный министр сообщал высочайшее повеление, предписывавшее «усилить строгость наблюдения со стороны непосредственных начальников учебных заведений за общественным обучением, как относительно духа и направления преподавания вообще, так и относительно строгого выбора учителей и поверки их преподавания»; «со стороны цензуры иметь бдительный надзор за журнальными и газетными статьями»; «принять строжайшие меры против ввоза иностранных сочинений, опасного содержания, способствующих распространению превратного образа мыслей»[135 - Там же. Л. 2.]. Кроме того, император Николай I «усматривая, что у некоторых из злоумышленников бывали в домах собрания, на которых происходили преступные разговоры и совещания и произносились речи противу правительства, Высочайше указать соизволил, чтобы со стороны всех полицейских начальств имелось возможно бдительное наблюдение за частными сходбищами и собраниями, дабы при настоящем разврате умов на Западе и прилипчивости вредных идей не могли образоваться у нас вновь собрания подобно открытым по сему делу»[136 - Там же. Л. 2–2 об.].
Пока высшие чиновники пыталась регламентировать содержание учебных дисциплин, правила внутреннего распорядка в образовательных заведениях, содержание учебной литературы и толстых журналов, репертуар театральных представлений и ассортимент книжных магазинов, сквозь толщу запретов пробивались неформальные поведенческие практики, разрушавшие умозрительную конструкцию нравственного и добродетельного человека.
Даже любимое детище Николая I, военные корпуса, не могли обеспечить достойное нравственное развитие. Сам Л. В. Дубельт порицал существовавшие в них порядки: «Мне кажется, что казенное воспитание много портит молодежь нашу, не только в отношении нравственности в поведении, но также и насчет мнений против Государя. […] В корпусах же свирепствует такой дух непокорности, такое отчуждение от всего прекрасного, такой страшный эгоизм, что и самый лучший юноша заражается этими недугами; потом вносит их в общество и распространяет их там; а как общество наполнено воспитанниками корпусов, так и мудрено ли, что эта зараза каждый день делается сильнее!»[137 - Дубельт Л. В. Вера без добрых дел мертвая вещь. С. 122.]
Демократизация общественного быта с началом правления Александра II сказалась и на поведении учащейся молодежи. Было бы неверно утверждать, что аномальное поведение носило массовый характер, но то, что случавшиеся казусы не удавалось скрывать и решать проблему келейно, свидетельствует о набиравшей силу тенденции роста девиантного поведения юношества, зачастую принимавшего черты протеста против архаики повседневности. Информация о таких случаях становилась достоянием общественности, через систему неформальной коммуникации транслировалась повсеместно, а затем и через аппарат надзора и фиксации настроений общества доходила до императора.
В материалах архива Третьего отделения отложились разрозненные донесения агентов, касавшиеся учащейся молодежи. О драке в семинарии Невского монастыря докладывалось (13 июня 1857 г.) как об обыденном явлении, так как семинаристы, монахи и монахини «постоянно таскаются по городу – следовательно, и немудрено, что вкрадываются между ними и пьянство и разврат»[138 - ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3213. Л. 114.]. Осенью того же года зафиксирован был слух о происшествии, которое еще недавно казалось невероятным: кадеты Павловского корпуса вышли из повиновения и пошли жаловаться своему начальству за нанесенную обиду, состоявшую в том, что их обыскали и отняли папиросы и сигары[139 - Там же. Д. 3215. Л. 32.].
17 декабря 1861 г. сообщалось, что воспитанники первой гимназии были ведены в баню, но по дороге часть отстала; они зашли в погреб и «перепились». Как результат последовавшего разбора поступка 5 человек представлены к исключению[140 - Там же. Д. 938. Л. 1.].
Совсем юное поколение также «успешно» осваивало «бескультурное» пространство. 24 февраля 1861 г. агент доносил, что на балу в Екатерингофе замечено несколько воспитанников коммерческого училища, не более 14–16 лет. Удалось установить личность одного, «балагурившего с женщинами дурной нравственности»[141 - Там же. Д. 3234. Л. 134.]. Далее сообщалось, что «на вопрос агента, каким образом они […] могли в будний день очутиться на вечере в Екатерингофе, ему ответили, что они отлучаются по секрету и возвращаются туда под утро, к 7 час., когда все встают»[142 - Там же.]. Таким образом, политическая полиция выявила явное упущение администрации училища, о чем и было сообщено соответствующему начальству.
26 марта 1864 г. руководству Третьего отделения докладывалось: «В гостинице Пассата с недавнего времени после обеда стали появляться человек по 10 гимназистов, еще почти совершенные дети, с развратными женщинами. Из разговоров их можно заключить, что они ушли из дома от родителей, под предлогом посещения церкви, один гимназист выражался: «Я говею здесь каждый день»[143 - Там же. Д. 954. Л. 1.].
Массовость получаемых сведений предопределила подготовку аналитической записки (19 июня 1864 г.), в которой признавалось, что «распущенность воспитанников учебных заведений доходит до крайних пределов. Известного сорта трактирные заведения, некоторые из публичных мест и гуляний только и имеют посетителей, что гимназистов и кадет; там скрытно от родителей они предаются разврату и полному разгулу на свободе». Дело доходило до того, что юноши, поддавшись порочным страстям, убегали из дома (известно, что в одной из гимназий скрылось 5 воспитанников). Единственно, что внушало оптимизм, – так это сведения о том, что «почти все скрывающиеся мальчики присылают или прямо к родителям, или к товарищам свои письма, в которых сознаются в своих глупостях, просят успокоить их родителей и вымолить им прощение у них»[144 - Там же. Д. 944. Л. 2.].
Тенденция, свидетельствовавшая о слабом контроле администрации за обучающимися молодыми людьми, была очевидной. Об этом 24 октября 1864 г. было сообщено шефу жандармов В. А. Долгорукову: «Столичные увеселительные заведения (танцклассы), постоянно посещаемые преимущественно разгульною молодежью, с некоторого времени, как замечено, привлекают и воспитанников разных учебных заведений, коим по принятым правилам не дозволяется бывать в таких местах. Особенно часто замечаются в настоящее время в танцклассах второго разряда, где редкий вечер проходит без скандалов, воспитанники императорского лицея. Так, между прочим, 21 октября в гостинице «Москва» 7 человек лицеистов, из коих один был Ознобишин, всю ночь пили шампанское и канканировали с публичными женщинами, а третьего дня несколько лицеистов бесновались в заведении «Германия», где распущенность приняла широкие размеры»[145 - Там же. Д. 2997. Л. 5–5 об.]. Нескрываемое безобразное поведение заставило шефа жандармов вновь дать специальное поручение: «Необходимо предупредить надлежащее начальство»[146 - Там же. Л. 5.].
Подобные нравы были характерны не только для столицы. Шеф жандармов В. А. Долгоруков распорядился сообщить министру народного просвещения для принятия мер сведения, полученные из перлюстрированного письма без подписи из Владимира в Москву к студенту университета А. И. Федорову (20 февраля 1866 г.). Автор откровенно сообщал: «Мои товарищи не то, что бывшие семиклассники; они заранее приготовляются к разгульной жизни студентов, которым делать нечего. Из пансиона они потрудились сделать клуб, распивочную лавку, наконец, дом сестер милосердия. Вот Саша, приходило ли тебе когда в голову, что Владимирский дворянский пансион будет так прославлен […] от последних чисел августа у нас не выводятся карты, сопровождаемые сильнейшими попойками, справляются именины старших; не проходит недели, в которую бы старшие не отправлялись в трактиры и дом сестер милосердия, прославляя себя при этом всякими подвигами; в заключение же стали приводить красавиц прямо в пансион, чем особенно отличается Макаров, считающий себя примером для всех»[147 - Там же. Д. 960. Л. 1–1 об.]. У юных владимирских дворян даже сложился свой сленг, на котором публичный дом именовался «домом сестер милосердия».
Эпатажное поведение не маскировалось, наоборот, для его демонстрации избирался многолюдный центр столицы. 10 апреля 1869 г. шефу жандармов П. А. Шувалову докладывалось: «Получено известие, что вчера около 8 часов вечера, то есть когда еще было совершенно светло, по тротуару Невского проспекта, между Пассажем и Михайловской улицей, проходил воспитанник первой гимназии, лет 15, ведя под обеими руками двух публичных девок, как агент пишет: набеленных, с волочащимися хвостами и огромными шиньонами. Группа эта производила на проходящих чрезвычайно тягостное впечатление. Гимназист и его дамы вели очень оживленный разговор; они, по-видимому, познакомились между собою не теперь, потому что расспрашивали друг друга об общих знакомых. Агент сообщает довольно подробные приметы героя этой сцены»[148 - Там же. Д. 944. Л. 4.].
Под особым общественным и полицейским контролем были женские воспитательные заведения. По словам современника, главная задача таких учреждений была в том, «чтобы из института выходили девушки, окруженные ореолом непорочности, скромные и стыдливые». Для этого барышню надо было воспитать «в правилах прописной морали и соблюсти голубиную чистоту ее помыслов. В этих видах в классах делались даже пропуски в читаемых произведениях». Неблагопристойные поэтические строки «Поднявши хвост и разметавши гриву» заменялись на вполне невинные – «поднявши нос»[149 - А.Р. Былое. Из воспоминаний о пятидесятых и шестидесятых годах // Русская старина. 1901. № 10. С. 154. О нравах Смольного института благородных девиц и его начальницы М. П. Леонтьевой сообщалось в агентурном донесении от 18 октября 1864 г.: «Строгая нравственность г-жи Леонтьевой, как говорят, доходит до смешного: из опасения дурного примера, она не допускает держать при институте ни петухов, ни кобелей, дабы не сделать воспитанниц хотя бы случайно свидетельницами сцен, непонятных для их невинности» (ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3240. Л. 1). Одна из воспитанниц вспоминала, что М. П. Леонтьева требовала от классных дам, чтобы они все свои педагогические способности направляли «на поддержание суровой дисциплины и на строгое наблюдение за тем, чтобы никакое влияние извне не проникало в стены института» (Водовозова Е. Н. На заре жизни // Институтки: Воспоминания воспитанниц институтов благородных девиц. М., 2008. С. 221).]. С подобными задачами никак не согласовывалась информация об исключении в январе 1858 г. из Мариинского института «двух взрослых девиц, за упорное их упрямство в курении папирос (в последний раз застали курящих в сортире)»[150 - ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3216. Л. 88.].
Зимой 1860 г. сообщалось, что начальница Александринского сиротского дома пытается загасить разразившийся скандал, доказывая, что «найденный спрятанным в постели воспитанницы молодой человек приходил будто не к ней, а к служанке»[151 - Там же. Д. 3226. Л. 107.]. Благодаря городской молве политическая полиция узнала о происшествии в другом воспитательном доме и о стремлении начальства скрыть всю информацию о нем. Агент выяснил (26 августа 1864 г.) пикантные подробности скандала: «Воспитанник института глухонемых Крылов, сговорившись (пантомимами) через окно с воспитанницей Родовспомогательного заведения Ялушевскою, забрался к ней ночью через окно. Это было замечено случайно бывшим на дворе швейцаром, и Крылов пойман в будуаре воспитанницы. Крылова наказали розгами; Ялушевскую под видом неспособности исключили из заведения, а содействовавших ей в шалости двух воспитанниц […] подвергли домашнему взысканию. Случай этот, как уверяют, до сведения высшего начальства не доведен из опасения ответственности ближайших начальников и начальниц»[152 - Там же. Д. 947. Л. 1–1 об.].
Говоря о студенческой молодежи, сразу оговорюсь, что оставляю за пределами исследования политическое вольномыслие и протестное движение, имеющее хорошую историографическую традицию. Обратим внимание на внешние проявления студенческого быта, нарушающие существовавшие в обществе нормы и зафиксированные агентами политической полиции. Довольно часто в сведениях полиции упоминался неопрятный внешний вид молодых людей. Шокирующий облик для студентов был своеобразным маркером свободомыслия, неприятия ценностей традиционного общества.
В одном из агентурных донесений (1858) со ссылкой на инспектора университета сообщалось, что тот уже махнул рукой на все, пребывая в отчаянии от поведения студентов, которые «не только […] продолжают носить, что хотят: цветные галстуки и шарфы и белые выпускные воротники, но многие стали даже отращивать усы». «Все это приписывают вкоренившейся в них […] трактирной жизни, отчуждающей их более и более от семейных домов»[153 - Там же. Л. 136.], – заключал информатор.
В апреле 1861 г. внимание полиции привлек гулявший на Адмиралтейском бульваре студент: «Один молодой человек в студенческой шинели, под которой у него было надето: ситцевая полосатая рабочая блуза, большие сапоги, в которых засунуты были брюки, и конфедератка. Костюм этот обратил на него всеобщее внимание. Многие прохожие, указывая на него пальцем, замечали: напрасно правительство допускает показываться на публичных гуляниях лицам, одетым в таком революционном костюме»[154 - Там же. Д. 3235. Л. 112 об.]. В отказе от строгой форменной одежды полиции виделся крах устоев.
Петербургский агент докладывал помощнику старшего чиновника Третьего отделения Ф. И. Проскурякову (25 августа 1861 г.) о встреченных им студентах «в каких-то странных, фантастических одеждах». Символом их корпоративной принадлежности была только фуражка с голубым околышем. Он писал: «Маскарадный их костюм состоит из какого-то длинного полувоенного или полустатского плаща или пальто, темного цвета, и не говоря уже о безобразно отпущенных некоторыми из них усах и бородах, в особенности обращают на себя внимание необыкновенно длинно отпущенные ими сзади волосы, висящие по плечам и почти до половины спины»[155 - Там же. Д. 3237. Л. 46.].
Это были предшественники так называемых нигилистов, вызывающий внешний облик которых дополнял протестную мировоззренческую позицию.
Осенью 1861 г. полицейские сводки полны сообщений о волнениях студентов Санкт-Петербургского университета.
Но не вся молодежь была увлечена борьбой за студенческие вольности. «Сегодня, по случаю маскарада в немецком клубе, туда ожидают многих студентов и опасаются шкандала»[156 - Там же. Д. 3238. Л. 8 об.], – сообщал полицейский агент 7 октября 1861 г. Другой – приводил слова извозчика, который считал, что хуже студентов только черкесы: «Те тотчас драться лезут»[157 - Там же. Д. 3234. Л. 75.]. Вообще, появление компаний студентов на увеселительных мероприятиях было признаком надвигающегося скандала. Так, обратили на себя внимание и воспитанники Технологического института, в состав которых влились исключенные после студенческих волнений 1861 г. студенты университета: «Они избрали местом своих попоек и сходок трактир Баранова «Старый Царицын» против самого института. Даже тамошний местный надзиратель жалуется, что с ними ничего не может поделать. Говорят, коноводы попоек [курсив мой. – О. А.] технологических воспитанников суть два брата Лебедевы, из коих один был ранен прикладом ружья во время бывших в 1861 году студенческих беспорядков»[158 - Там же. Л. 6.].
Естественно, особое внимание полиции вызывали политические мотивы, звучавшие на пирушках. В этом контексте обращалось внимание на «недавно открытый кофейный дом [Изюмова], которому очень многие присвоили название Русской таверны»[159 - Там же. Д. 2996. Л. 1.]. Публика там собиралась разнородная – «студенты, оборванные чиновники, богатые купцы, извощики и публичные женщины», и отдыхала привычно: «Весь этот сброд обычных посетителей кофейной пляшет и поет под звуки игры шарманщика»[160 - Там же.]. Но не всё, по словам агента, в поведении «обычных посетителей» было традиционно: «Не говоря уже о песнях разврата, которые там поются, в воскресенье несколько студентов, сидя в главной зале, запели, нисколько ни стесняясь, революционные песни […], а один из аудиторов Военного министерства продекламировал стихи: «Долго нас помещики душили». Ко всему этому надобно еще прибавить происходящие в кофейной драки»[161 - Там же. Л. 1 об.].
Последней фразой, видимо, намечался возможный вариант скорого полицейского вмешательства для пресечения беспорядка, а следом можно было обратить внимание и на политическую благонадежность хозяина заведения, допускавшего такие вольности в поведении посетителей. «Прижать» Изюмова можно было и за нарушение распорядка работы кофейной: «Кофейная Изюмова всегда открыта до 4 часов утра, несмотря на то, что он, торгуя на правах кухмистера, обязан запирать свое заведение в 12 часов ночи»[162 - Там же.]. Оставалось только убедиться в достоверности полученных сведений.
Речевая «культура» молодежи пугала не меньше поведенческой. 8 июня 1861 г. в сводке донесений упоминалось, что трое кадет поздно вечером на Невском проспекте «неприлично громко ругались с двумя женщинами, которые без стыда отвечали им такими же русскими бранными словами»[163 - Там же. Д. 3236. Л. 66.]. Не сдерживал себя и какой-то студент, попавший не только в жандармскую сводку, но и в полицейскую часть. Он в кондитерского Вольфа неосторожно толкнул господина, незнакомец, оказавшийся Бессарабским вице-губернатором, спросил, как его фамилия. На что студент отвечал: «Ху…овский!»[164 - Там же. Д. 3216. Л. 101.]
Нигилизм как политическое течение заявил о себе в середине 1860-х гг. Шеф жандармов П. А. Шувалов писал в отчете Третьего отделения за 1869 г.: «Русский нигилист соединяет в себе западных атеиста, материалиста, революционера и коммуниста. Он отъявленный враг государственного и общественного строя, он не признает правительство»[165 - Отчет Третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии и корпуса жандармов за 1869 год // Россия под надзором. С. 685.].
Современник иронизировал, говоря о внешнем виде оппозиционеров: «По тогдашней либеральной моде, большинство интеллигенции прямо бравировало неряшеством. Юноши ходили нестрижеными и нечесаными, потому что им «некогда» было заниматься такими пустяками; по той же причине девушки демонстративно не мыли себе шею по целым месяцам и нимало не заботились о чистоте костюма. Странно было то, что одна и та же причина вызывала два совершенно противоположных результата у молодых людей двух полов: юноши, за недосугом, отпускали себе длинные волосы, а девушки, напротив, остригались в скобу – тоже за недосугом»[166 - А.Р. Былое. Из воспоминаний о пятидесятых и шестидесятых годах. С. 385.].
Об идейном содержании шокирующего имиджа писал Ф. М. Решетников: «Например, я видел много нигилистов. Это глупые люди. Мальчик, вбивший себе в голову, что он нигилист, то есть не верует в Бога, не признает правительство, носит длинные волосы, очки, говорит вздор и подличает; в церкви он ужасно гадок, ужасно гадок на Невском, в Пассаже, где делает пакости девушкам, женщинам». Этих людей не волновали насущные вопросы российской жизни (например, положение крестьян): «Они никак не хочут не только заступиться за мужика, но не хочут сознательно, чистосердечно назвать его гражданином – и всегда ближнему сделают пакость». Особенно досталось от молодого писателя дамам: «Женщины и преимущественно девицы ходят без кринолинов, с обрезанными волосами, с книжками: это нигилистки. И за ними волочатся очкастые, длинноволосые нигилисты […] Эти особы говорят по-ученому, но ничего не понимают, их можно резать с книжкой, но она будет хвастаться, а не объяснять; то, что скажет ей нигилист, – будет говорить и она»[167 - Решетников Ф. М. Дневник // Литературное наследство. Т. 3. М., 1932. С. 179.]. Как видим, новая поведенческая практика имела свою идеологию, пусть и воспринимаемую обывателями не адекватно базисному учению, но с четким перечнем новых ценностей[168 - О нигилизме написано достаточно много, см.: Ширинянц А. А. Нигилизм или консерватизм? (Русская интеллигенция в истории политики и мысли). М., 2011.].
После покушения Д. В. Каракозова на Александра II терпение тайной полиции в отношении протестного внешнего облика нигилистов лопнуло. Управляющий Третьим отделением Н. В. Мезенцов письмом от 10 мая 1866 г. уведомлял санкт-петербургского обер-полицмейстера о необходимости решительного пресечения демонстрации политически опасных одеяний: «На улицах Невского и других проспектов продолжают, в последнее время, показываться дамы и девицы, носящие особого рода костюм, известный под названием «нигилисток» и имеющий следующие отличия: круглые шляпы, скрывающие коротко остриженные волосы, синие очки, башлыки и отсутствие кринолина. Со дня преступления 4 апреля среда, воспитавшая злодея, заклейменная в понятии всех благомысляших людей, а потому и ношение костюма, ей присвоенного, не может, в глазах блюстителей общественного порядка, не считаться дерзостью, заслуживающей не только порицания, но и преследования». Модницы обязывались подпиской к изменению костюма, а при отказе им грозила высылка из столицы и полицейский надзор[169 - ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. 1866. Д. 131. Л. 1–1 об.].
Костюм, то есть набор аксессуаров, приобретал для власти пугающий смысл. Политическая распущенность оказалась опаснее моральной.
И. Т. Прыжов отмечал: «У великорусского народа мало-помалу сложилось новое правило жизни, что не пить – так и на свете не жить»[170 - Прыжов И. История кабаков в России. М., 1991. С. 233.]. Спиртные напитки не просто скрашивали досуг многих крестьян и горожан, их потребление было самым доступным и желанным средством выражения радости и счастья, а ситуация житейского комфорта не мыслилась вне распития, на трезвую голову.
В 1838 г. председатель департамента гражданских и духовных дел Государственного совета Н. С. Мордвинов, возражая против расширения системы винных откупов, представил Николаю I записку, в которой предлагал незамедлительно начать осуществление мер по искоренению пьянства. Он апеллировал к опыту Соединенных Штатов Америки, где «рачительно […] занимаются введением трезвости, как непреложного основания к благосостоянию народа»[171 - Архив графов Мордвиновых. Т. 8. СПб., 1903. С. 629.]. Этот пример получил распространение и в Европе, где повсеместно возникали общества трезвости. Если не терять время, то для русского народа «неисчислимые впоследствии явятся пользы»[172 - Там же. С. 630.] (30 марта 1838 г.).
Письмо с запиской «Об искоренении пьянства» было направлено и графу А. Х. Бенкендорфу. Шеф жандармов отвечал (7 апреля 1838 г.), что император прочел представленную бумагу и, «вполне признавая справедливость всего в оной изложенного, изволил, однако же, отозваться, что приступить к мерам об искоренении пьянства в России весьма затруднительно и что в деле сем надлежит действовать с величайшею осторожностью»[173 - Там же. С. 631.]. Формальность письма была особенно заметна на фоне назначения «спаивающего народ» министра финансов Е. Ф. Канкрина состоять при «особе его императорского величества»[174 - Там же.].
Тем не менее ограничения в продаже спиртных напитков существовали и контролировались полицией. Так, в Москве действовал запрет на музыку, пляски, исполнение песен в питейных домах и распивочных лавках, запрещался вход в них женщин; в кабаки запрещено было пускать «крестьян в смурых[175 - Домотканый, из некрашеной темной шерсти. Вид повседневной одежды.] кафтанах, господских людей в ливреях и воинских чинов»[176 - ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2271. Разд. 11. Т. 1. Л. 62 об.]. 16 августа 1843 г. шеф жандармов представил доклад, в котором излагал просьбу московского генерал-губернатора «дозволить входить в трактир людям в смурых кафтанах, особенно в Москве, куда съезжается множество крестьян из разных губерний, ибо в противном случае они могут обратиться в питейные дома, что еще вреднее для нравственности»[177 - Там же.]. Император с этим предложением согласился, подчеркнув, что другие запреты должны сохраниться. Как видим, нравственный критерий был определяющим: посещение трактира (ресторана) прививало определенную культуру потребления и поведения, в отличие от заведений более низкого уровня, ориентированных только на выпивку.
В 1859 г. в стране началась активность, вызвавшая некоторое замешательство в «верхах». В. А. Долгоруков докладывал императору Александру II: «В течение 1859 года случилось у нас событие совершенно неожиданное. Жители низших сословий, которые, как прежде казалось, не могут существовать без вина, начали добровольно воздерживаться от употребления крепких напитков»[178 - Нравственно-политическое обозрение за 1859 год // Россия под надзором. Отчеты Третьего отделения 1827–1869. М., 2006. С. 497.]. Началось это движение сначала в Прибалтике, затем распространилось в Поволжье (особенно в Саратовской губернии), затем проявилось в Рязанской, Тульской и Калужской губерниях. Причины были вызваны действиями откупщиков, в погоне за прибылью резко поднявших цены на водку, и низким качеством вина, отпускавшегося в кабаках. По мнению В. А. Федорова: «Это был грандиозный, хотя и пассивный, протест народных масс против наиболее тяжелого и разорительного налога – откупной системы»[179 - Федоров В. А. Крестьянское трезвенное движение 1858– 1860 гг. // Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг. М., 1962. С. 116.].
В Третье отделение поступали сведения о самоорганизации крестьян («обет трезвости») для противостояния грабительской политике откупщиков. Например, сообщалось: «В городе Балашове обет не пить вина совершен был торжественно 5 февраля: народ, подняв св. иконы и хоругви, вышел на городскую площадь, где отслужен был молебен с коленопреклонением и водосвятием; после того приставлен был к кабакам караул от народа для наблюдения, чтобы никто не покупал вина, и виновный подвергается немедленно по народному суду денежному штрафу или наказанию телесному»[180 - Выписка из частных сведений, полученных частным образом, о крестьянских обществах, условившихся не пить хлебного вина. 1859 г. позднее февраля 5 // Крестьянское движение в России в 1857 – мае 1861 гг. Сборник документов. М., 1963. С. 189.]. Жандармский штаб-офицер Андрианов переслал шефу жандармов копию решения (приговора) о неупотреблении вина мирского схода государственных крестьян Троицкого сельского общества Рыбкинской волости Краснослободского уезда Пензенской губернии. Показательно, что выступавший перед земляками старшина Н. Е. Мордовин не клеймил действия откупщиков, обиравших народ, но пополнявших государственный бюджет, а рассуждал… о здоровом образе жизни. Он вещал «о трезвой жизни и о том, сколько зол происходит от излишнего употребления горячих напитков, отчего истощается наше благосостояние, портятся душевные и телесные способности»[181 - Мирские приговоры государственных крестьян Троицкого сельского общества Рыбкинской вол. Краснослободского у. о неупотреблении вина // Крестьянское движение в России в 1857 – мае 1861 гг. С. 195.]. «Отслужа молебствие о столь благом и важном деле», единогласно и добровольно, крестьяне «обязались не пить водки, что и исполнить в точности; в питейные дома не ходить и в оных трубку не курить, […] и о нарушителях сего доносить сельскому начальству для поступления с таковыми как с вредным обществу». Из общего правила допускались и исключения: «В некоторых случаях дозволить себе покупать и водку, именно: во время свадеб – не более ведра, в крестины – один полуштоф или за болезнью престарелого человека, которому пожелается выпить водки, то может послать и взять в дом не более одной косушки, то есть пятидесятую часть ведра, но ни под каким видом не ходить в кабаки и не пить в оных»[182 - Там же.]. Нарушители подвергались денежному штрафу или должны были выполнять общественные работы («метение и очищение от грязи и сору улиц и площадей»), тех же, кто неоднократно будет нарушать приговор схода, «как пьяницу и распутной жизни человека удалить из общества» в ссылку на поселение[183 - Там же. С. 196.].
Сообщения о подобных действиях крестьян приходили и из других мест. Штаб-офицер корпуса жандармов в Тульской губернии Белоусов сообщал: «Число непьющих вина крестьян в Тульской губернии сильно возрастает, в некоторых уездах осталось очень немного селений, которые еще не последовали общему примеру»[184 - Донесение штаб-офицера корпуса жандармов в Тульской губернии Белоусова шефу корпуса В. А. Долгорукову об участившихся отказах крестьян употреблять вино // Крестьянское движение в России в 1857 – мае 1861 гг. С. 213.]. Появлялась информация и о том, как крестьяне расправлялись с нарушителями бойкота. Белоусов докладывал: «В иных местах наказание виновных делается при общей сходке. Собирается толпа, ставят на площади шест с привязанным к нему красным платком и около этого шеста наказывают провинившегося. В одном из казенных селений Богородицкого у[езда] устраивается нечто вроде шествия, причем для того, чтобы всем было известно, колотят палкою во что-нибудь металлическое»[185 - Там же. С. 213–214.].
Жандармов беспокоила стихийная самоорганизация народных масс, показывавшая «сильный дух» крестьян. Крестьянская тактика: выступление за трезвость, а не против грабителей-откупщиков, опекаемых властью, поставила местное начальство в затруднительное положение. Успокаивало то, что «отречение делается не навсегда, а на разные сроки. Носились слухи, что некоторые крестьяне ожидают условий вольной продажи вина или очень дешевой цены»[186 - Там же. С. 213.]. В то же время крестьянское единение создавало опасный прецедент. Помещики опасались, что «с наступлением весны крестьяне точно так согласятся не отправлять барщины»[187 - Выписка из частных сведений, полученных частным образом… С. 189.]. Тревожило и начавшееся самоуправство, подрывавшее монополию государственной власти и помещика на правосудие. Жандармский штаб-офицер Белоусов осторожно указывал на эту опасность: «Большие сходбища толпы, взявшей на себя правило наказания, как бы не повели к беспорядкам». Особенно в условиях грядущей отмены крепостного права: «Толпа, уверив себя в значении массы ее, как бы пугающей ближайшие власти и потому не смеющей мешаться в дела их, не возбудили бы в них дерзость к обращению и на другие предметы»[188 - Донесение штаб-офицера корпуса жандармов в Тульской губернии Белоусова… С. 214.].
Шеф жандармов регулярно информировал государя о настроениях на местах. Эти голоса были услышаны. В. А. Долгоруков отчитывался о деликатных мерах реагирования: «Правительство признало нужным при таковых обстоятельствах обратить внимание только на самовольные поступки ревнителей трезвости, которые принуждали других к воздержанию штрафами и взысканиями, а потому местным начальствам было предписано не допускать произвольного составления жителями каких-либо обществ и письменных условий, а также самоуправных наказаний»[189 - Нравственно-политическое обозрение за 1859 год. С. 498.].
С середины 1859 г. трезвенное движение стало радикализироваться, начались погромы питейных заведений. Здесь уже декларациями о здоровом образе жизни крестьяне не прикрывались. В начале июля 1859 г. жандармский офицер Кретович докладывал, что в Самарской губернии «в настоящее время дух народа, покушавшегося на самовольство, принял общий характер»[190 - Цит. по: Федоров В. А. Указ. соч. С. 120.]. В отчете Третьего отделения отмечено: «В Самарской губернии грабежи произведены из одних только корыстных видов, а в Вятской, по ограблении питейного дома в селе Петровском, опились до смерти 8 человек»[191 - Нравственно-политическое обозрение за 1859 год. С. 499.]. Здесь уже была очевидна необходимость «для укрощения буйства» использования войск, а в Пензенскую, Тамбовскую, Саратовскую и Самарскую губернии были командированы штаб- и обер-офицеры корпуса жандармов с нижними чинами. По сведениям высшей полиции, в 12 губерниях разграблено 220 питейных заведений, предотвращено 26 погромов, задержано до 400 человек[192 - Там же. С. 500. В. А. Федоров выявил, что активные трезвенные выступления затронули 15 губерний, в ходе массовых протестных действий разгромлено было более 260 питейных заведений, за участие в трезвенном движении было арестовано около 780 чел. (Федоров В. А. Указ. соч. С. 122–123).]. Тюрьмы были переполнены. Выявленных зачинщиков бунтов судили военными судами, приговаривавшими к телесным наказаниям шпицрутенами и ссылке в Сибирь. Отголоски трезвенного движения не прекращались еще несколько лет. Его затухание свидетельствовало о приоритете у крестьян протестных задач – добиваться снижения цены на водку для большей доступности потребления, а не в декларированных целях сохранения достатка, телесных и душевных сил.
Служащие в Третьем отделении чиновники хорошо понимали вред и опасность пьянства для нравственного здоровья людей и общественной безопасности. Еще в самом начале 1860-х гг. составитель жандармских сводок, пересказывая городскую молву, сетовал на странную конкуренцию Москвы и Петербурга: «Москва, как известно с незапамятных времен, считается гнездом трактиров, харчевен, портерных и кабаков, простым народом называемых заведениями. И если не в каждом доме, то непременно через дом одно, а не редко и по два таких простонародных сборища, так что (как говорят) если взять всех их вместе по всей России, то едва ли число оных будет больше, чем в одной только Москве. Теперь здешняя публика с некоторых пор стала замечать, что и Петербург в скором времени не отстанет в этом от Москвы, – по крайней мере, есть на то большая надежда, ибо очевидно, что в последние годы расплодилось здесь столько этого добра, что на каждой улице и переулке по нескольку таких обетованных простонародных мест – особенно портерных и водочных лавок!»[193 - ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3233. Л. 77.]
Неодобрительность проявлялась в самой тональности записки. Обывателей беспокоили криминальные последствия пьянства: «Как же после этого (говорят) не быть увеличивающемуся здесь воровству и вообще порче нравов простолюдин, по мнению наблюдательных людей, все больше и больше пристращая к посещению сих мест, но всякий может удостовериться, что они с утра до ночи наполнены простолюдинами всех сословий, а чтобы пить да есть, надо побольше денег, чем они достаются трудами своими, поэтому и неизбежны воровство, грабежи и все другие порочные средства»[194 - Там же.].
Количество увеселительных заведений в столице действительно постоянно росло, и большинство их было ориентировано на привлечение низших слоев общества. «С некоторого времени здесь при многих гостиницах завели сады, в которых даются увеселительные вечера с довольно дешевою платою за вход. С одной стороны, конечно, подобные заведения необходимы, но с другой – надзор за ними еще необходимее, – рассуждал чиновник Третьего отделения в докладной записке своему руководству. – Собирающаяся там публика состоит из самого буйного класса: мастеров, публичных женщин низшего сорта и разных воришек. Драки и беспорядки беспрестанные, а полиции нет; расправляются сами хозяева, а иногда даже и служители их, разумеется сильнейшие […] всегда правы бывают»[195 - Там же. Д. 2996. Л. 21–21 об.].
Иногда личность дебоширов удавалось установить и затем сообщить служебному начальству о содеянном для принятия воспитательных мер воздействия. В одном агентурном донесении отмечалось, что 15 октября 1860 г. секретарь распорядительной думы Лапшин со знакомыми «были очень пьяны, ходили в шляпах и один из них часто ругался похабными словами и между прочим обругал управляющего тамошним кварталом штабс-капитана Новицкого, который хотел было его выпроводить, но когда Лапшин зазвал Новицкого выпить шампанского, то он оставил знакомого его в покое»[196 - Там же. Д. 3232. Л. 55.]. Как видим, примирительный (или, точнее, попустительный) характер разрешения конфликтов был распространен, полицейские служащие готовы были закрывать глаза на поведение пьяниц, а хозяева и служители заведений оберегали своих пьющих завсегдатаев от административных неприятностей.
Пьянство было основной причиной постоянных конфликтов и происшествий (лето 1861 г.): «Не проходит дня, чтобы в гостинице «Орел», находящейся на Песках, в саду, где играет музыка, не было какого-нибудь скандала. Там собирается более публика окрестностей, но приезжают и известные кутилы, и много разного сброда. Один из наших агентов, которому велено посещать это заведение, доносит, что 7 числа бывший там в нетрезвом виде потомств[енный] поч[етный] гражд[анин] Самсонов, нанеся сперва многим гулявшим оскорбления, обругал, оплевал и побил приказавшего его отвезти в часть помощника надзирателя, подпоручика Глушановского, крича, что он богат, ничего не боится и всю полицию [от] какой-нибудь дряни помощ ника до самого главного – купит»[197 - Там же. Д. 2990. Л. 1.]. Любопытно, что препровождаемый в часть дебошир с гордостью кричал глазевшему на него народу: «Я помощнику три оплеухи дал»[198 - Там же.]. Видимо, этот коммерческий способ разрешения конфликтов с полицией был вполне вероятен.
Другое важное обстоятельство заключалось в том, что, несмотря на усилия содержательницы гостиницы купчихи Бурениной и ее мужа замять скандал и добиться освобождения Самсонова, бывшие при этом посторонние лица не позволили это сделать, заявив, что если Самсонова, оскорбившего офицерский мундир, освободят, то они сами донесут об этом происшествии обер-полицеймейстеру.
Тот же полицейский агент, справно отрабатывая выданные средства, доносил, что «там же [в гостинице «Орел». – О. А.] из числа посетителей какой-то молодой человек, когда заиграли какую-то пляску, стал кривляться на все возможные манеры, окончив свои кривляния, он ни с того, ни с другого дал две оплеухи одному чиновнику ведомства путей сообщения, человеку уже пожилому, сидевшему очень смирно на скамье…»[199 - Там же. Л. 1 об.]. «Песенник» Яковлев не только не пошел за полицейским, как того требовала публика, но и помог скрыться дебоширу.
Под впечатлением открытого в столице заговора управляющий Третьим отделением, Л. В. Дубельт, сетовал по поводу «буйной» молодежи, у которой «привычка судить криво все более и более усиливается оттого, что у них и души, и толк вверх дном»[126 - Дубельт Л. В. Вера без добрых дел мертвая вещь // Российский архив. История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. Выпуск VI. М., 1995. С. 131.]. И он видел корень проблемы в воспитании, в нравственном воздействии на молодые умы: «Воспитание порождает смуты и беспорядки нашего времени. Воспитание, худое направление мыслей, привычка считать себя умнее других – вот настоящие причины неустройства»[127 - Там же.]. Другой компонент формирования верноподданного – это образование. «Истинное просвещение должно быть основано на религии; тогда оно и плоды принесет сторицею. А когда просвещение религии знать не хочет и только опирается на диком, бездушном эгоизме, так и плоды будут адские, как начало его адское!»[128 - Там же. С. 128.] – поучал Л. В. Дубельт.
Этому здравому началу противостоит свобода книгопечатания, которая несет вред обществу и государству: «Хороший человек не станет читать худых книг, порочного и безнравственного листка и в руки не возьмет; а дурному человеку никакая цензура не помешает доставать худые книги»[129 - Там же. С. 130.]. Вот почему «в нашей России должны ученые поступать как аптекари, владеющие и благотворными, целительными средствами, и ядами, – и отпускать ученость только по рецепту правительства»[130 - Там же. С. 113.]. Таким образом, именно власть должна формировать государственную идеологию и мировоззрение подданных.
Дело участников кружка М. В. Буташевича-Петрашевского актуализировала охранительные меры. Военный министр А. И. Чернышев, передавая шефу жандармов А. Ф. Орлову (7 января 1850 г.) слова высочайшего повеления, напоминал о недавнем следствии, которое показало, что «преступные замыслы на ниспровержение и превращение существующего в России государственного устройства возникли большею частию между людьми молодыми, недавно кончившими или еще заканчивающими курс наук в высших учебных заведениях», из этого можно заключить, что «настоящие меры наблюдения относительно духа и направления преподавания вообще не довольно еще бдительны»[131 - ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. 1850. Д. 154. Л. 1.]. Прежде всего «некоторые из преподавателей сами содействуют к превратному направлению понятий между учащимися, как это доказывается и найденными у преступников лекциями, и программами преподавателей, в которых допущены вредные для существующего порядка суждения»[132 - Там же. Л. 1–1 об.]. Кроме того, «огромное количество вторгающихся к нам иностранных сочинений самого опасного содержания […] способствуют превратному образу мыслей в умах юных и неопытных, доказывая с тем вместе, что или цензура наша не довольно осмотрительна, или что принимаемые против ввоза запрещенных книг меры недовольно еще бдительны и строги»[133 - Там же. Л. 1 об.]. Помимо этого сами молодые люди, в поисках заработка, обращались к литературному труду. При недостатке цензурного контроля появлялись статьи «коих направление явственно вредно, и посредством сего легкого способа, зараженные уже вольнодумством сочинители, разливают яд свой в умы чуждые еще пагубных мечтаний»[134 - Там же. Л. 1 об.–2.].
Военный министр сообщал высочайшее повеление, предписывавшее «усилить строгость наблюдения со стороны непосредственных начальников учебных заведений за общественным обучением, как относительно духа и направления преподавания вообще, так и относительно строгого выбора учителей и поверки их преподавания»; «со стороны цензуры иметь бдительный надзор за журнальными и газетными статьями»; «принять строжайшие меры против ввоза иностранных сочинений, опасного содержания, способствующих распространению превратного образа мыслей»[135 - Там же. Л. 2.]. Кроме того, император Николай I «усматривая, что у некоторых из злоумышленников бывали в домах собрания, на которых происходили преступные разговоры и совещания и произносились речи противу правительства, Высочайше указать соизволил, чтобы со стороны всех полицейских начальств имелось возможно бдительное наблюдение за частными сходбищами и собраниями, дабы при настоящем разврате умов на Западе и прилипчивости вредных идей не могли образоваться у нас вновь собрания подобно открытым по сему делу»[136 - Там же. Л. 2–2 об.].
Пока высшие чиновники пыталась регламентировать содержание учебных дисциплин, правила внутреннего распорядка в образовательных заведениях, содержание учебной литературы и толстых журналов, репертуар театральных представлений и ассортимент книжных магазинов, сквозь толщу запретов пробивались неформальные поведенческие практики, разрушавшие умозрительную конструкцию нравственного и добродетельного человека.
Даже любимое детище Николая I, военные корпуса, не могли обеспечить достойное нравственное развитие. Сам Л. В. Дубельт порицал существовавшие в них порядки: «Мне кажется, что казенное воспитание много портит молодежь нашу, не только в отношении нравственности в поведении, но также и насчет мнений против Государя. […] В корпусах же свирепствует такой дух непокорности, такое отчуждение от всего прекрасного, такой страшный эгоизм, что и самый лучший юноша заражается этими недугами; потом вносит их в общество и распространяет их там; а как общество наполнено воспитанниками корпусов, так и мудрено ли, что эта зараза каждый день делается сильнее!»[137 - Дубельт Л. В. Вера без добрых дел мертвая вещь. С. 122.]
Демократизация общественного быта с началом правления Александра II сказалась и на поведении учащейся молодежи. Было бы неверно утверждать, что аномальное поведение носило массовый характер, но то, что случавшиеся казусы не удавалось скрывать и решать проблему келейно, свидетельствует о набиравшей силу тенденции роста девиантного поведения юношества, зачастую принимавшего черты протеста против архаики повседневности. Информация о таких случаях становилась достоянием общественности, через систему неформальной коммуникации транслировалась повсеместно, а затем и через аппарат надзора и фиксации настроений общества доходила до императора.
В материалах архива Третьего отделения отложились разрозненные донесения агентов, касавшиеся учащейся молодежи. О драке в семинарии Невского монастыря докладывалось (13 июня 1857 г.) как об обыденном явлении, так как семинаристы, монахи и монахини «постоянно таскаются по городу – следовательно, и немудрено, что вкрадываются между ними и пьянство и разврат»[138 - ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3213. Л. 114.]. Осенью того же года зафиксирован был слух о происшествии, которое еще недавно казалось невероятным: кадеты Павловского корпуса вышли из повиновения и пошли жаловаться своему начальству за нанесенную обиду, состоявшую в том, что их обыскали и отняли папиросы и сигары[139 - Там же. Д. 3215. Л. 32.].
17 декабря 1861 г. сообщалось, что воспитанники первой гимназии были ведены в баню, но по дороге часть отстала; они зашли в погреб и «перепились». Как результат последовавшего разбора поступка 5 человек представлены к исключению[140 - Там же. Д. 938. Л. 1.].
Совсем юное поколение также «успешно» осваивало «бескультурное» пространство. 24 февраля 1861 г. агент доносил, что на балу в Екатерингофе замечено несколько воспитанников коммерческого училища, не более 14–16 лет. Удалось установить личность одного, «балагурившего с женщинами дурной нравственности»[141 - Там же. Д. 3234. Л. 134.]. Далее сообщалось, что «на вопрос агента, каким образом они […] могли в будний день очутиться на вечере в Екатерингофе, ему ответили, что они отлучаются по секрету и возвращаются туда под утро, к 7 час., когда все встают»[142 - Там же.]. Таким образом, политическая полиция выявила явное упущение администрации училища, о чем и было сообщено соответствующему начальству.
26 марта 1864 г. руководству Третьего отделения докладывалось: «В гостинице Пассата с недавнего времени после обеда стали появляться человек по 10 гимназистов, еще почти совершенные дети, с развратными женщинами. Из разговоров их можно заключить, что они ушли из дома от родителей, под предлогом посещения церкви, один гимназист выражался: «Я говею здесь каждый день»[143 - Там же. Д. 954. Л. 1.].
Массовость получаемых сведений предопределила подготовку аналитической записки (19 июня 1864 г.), в которой признавалось, что «распущенность воспитанников учебных заведений доходит до крайних пределов. Известного сорта трактирные заведения, некоторые из публичных мест и гуляний только и имеют посетителей, что гимназистов и кадет; там скрытно от родителей они предаются разврату и полному разгулу на свободе». Дело доходило до того, что юноши, поддавшись порочным страстям, убегали из дома (известно, что в одной из гимназий скрылось 5 воспитанников). Единственно, что внушало оптимизм, – так это сведения о том, что «почти все скрывающиеся мальчики присылают или прямо к родителям, или к товарищам свои письма, в которых сознаются в своих глупостях, просят успокоить их родителей и вымолить им прощение у них»[144 - Там же. Д. 944. Л. 2.].
Тенденция, свидетельствовавшая о слабом контроле администрации за обучающимися молодыми людьми, была очевидной. Об этом 24 октября 1864 г. было сообщено шефу жандармов В. А. Долгорукову: «Столичные увеселительные заведения (танцклассы), постоянно посещаемые преимущественно разгульною молодежью, с некоторого времени, как замечено, привлекают и воспитанников разных учебных заведений, коим по принятым правилам не дозволяется бывать в таких местах. Особенно часто замечаются в настоящее время в танцклассах второго разряда, где редкий вечер проходит без скандалов, воспитанники императорского лицея. Так, между прочим, 21 октября в гостинице «Москва» 7 человек лицеистов, из коих один был Ознобишин, всю ночь пили шампанское и канканировали с публичными женщинами, а третьего дня несколько лицеистов бесновались в заведении «Германия», где распущенность приняла широкие размеры»[145 - Там же. Д. 2997. Л. 5–5 об.]. Нескрываемое безобразное поведение заставило шефа жандармов вновь дать специальное поручение: «Необходимо предупредить надлежащее начальство»[146 - Там же. Л. 5.].
Подобные нравы были характерны не только для столицы. Шеф жандармов В. А. Долгоруков распорядился сообщить министру народного просвещения для принятия мер сведения, полученные из перлюстрированного письма без подписи из Владимира в Москву к студенту университета А. И. Федорову (20 февраля 1866 г.). Автор откровенно сообщал: «Мои товарищи не то, что бывшие семиклассники; они заранее приготовляются к разгульной жизни студентов, которым делать нечего. Из пансиона они потрудились сделать клуб, распивочную лавку, наконец, дом сестер милосердия. Вот Саша, приходило ли тебе когда в голову, что Владимирский дворянский пансион будет так прославлен […] от последних чисел августа у нас не выводятся карты, сопровождаемые сильнейшими попойками, справляются именины старших; не проходит недели, в которую бы старшие не отправлялись в трактиры и дом сестер милосердия, прославляя себя при этом всякими подвигами; в заключение же стали приводить красавиц прямо в пансион, чем особенно отличается Макаров, считающий себя примером для всех»[147 - Там же. Д. 960. Л. 1–1 об.]. У юных владимирских дворян даже сложился свой сленг, на котором публичный дом именовался «домом сестер милосердия».
Эпатажное поведение не маскировалось, наоборот, для его демонстрации избирался многолюдный центр столицы. 10 апреля 1869 г. шефу жандармов П. А. Шувалову докладывалось: «Получено известие, что вчера около 8 часов вечера, то есть когда еще было совершенно светло, по тротуару Невского проспекта, между Пассажем и Михайловской улицей, проходил воспитанник первой гимназии, лет 15, ведя под обеими руками двух публичных девок, как агент пишет: набеленных, с волочащимися хвостами и огромными шиньонами. Группа эта производила на проходящих чрезвычайно тягостное впечатление. Гимназист и его дамы вели очень оживленный разговор; они, по-видимому, познакомились между собою не теперь, потому что расспрашивали друг друга об общих знакомых. Агент сообщает довольно подробные приметы героя этой сцены»[148 - Там же. Д. 944. Л. 4.].
Под особым общественным и полицейским контролем были женские воспитательные заведения. По словам современника, главная задача таких учреждений была в том, «чтобы из института выходили девушки, окруженные ореолом непорочности, скромные и стыдливые». Для этого барышню надо было воспитать «в правилах прописной морали и соблюсти голубиную чистоту ее помыслов. В этих видах в классах делались даже пропуски в читаемых произведениях». Неблагопристойные поэтические строки «Поднявши хвост и разметавши гриву» заменялись на вполне невинные – «поднявши нос»[149 - А.Р. Былое. Из воспоминаний о пятидесятых и шестидесятых годах // Русская старина. 1901. № 10. С. 154. О нравах Смольного института благородных девиц и его начальницы М. П. Леонтьевой сообщалось в агентурном донесении от 18 октября 1864 г.: «Строгая нравственность г-жи Леонтьевой, как говорят, доходит до смешного: из опасения дурного примера, она не допускает держать при институте ни петухов, ни кобелей, дабы не сделать воспитанниц хотя бы случайно свидетельницами сцен, непонятных для их невинности» (ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3240. Л. 1). Одна из воспитанниц вспоминала, что М. П. Леонтьева требовала от классных дам, чтобы они все свои педагогические способности направляли «на поддержание суровой дисциплины и на строгое наблюдение за тем, чтобы никакое влияние извне не проникало в стены института» (Водовозова Е. Н. На заре жизни // Институтки: Воспоминания воспитанниц институтов благородных девиц. М., 2008. С. 221).]. С подобными задачами никак не согласовывалась информация об исключении в январе 1858 г. из Мариинского института «двух взрослых девиц, за упорное их упрямство в курении папирос (в последний раз застали курящих в сортире)»[150 - ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3216. Л. 88.].
Зимой 1860 г. сообщалось, что начальница Александринского сиротского дома пытается загасить разразившийся скандал, доказывая, что «найденный спрятанным в постели воспитанницы молодой человек приходил будто не к ней, а к служанке»[151 - Там же. Д. 3226. Л. 107.]. Благодаря городской молве политическая полиция узнала о происшествии в другом воспитательном доме и о стремлении начальства скрыть всю информацию о нем. Агент выяснил (26 августа 1864 г.) пикантные подробности скандала: «Воспитанник института глухонемых Крылов, сговорившись (пантомимами) через окно с воспитанницей Родовспомогательного заведения Ялушевскою, забрался к ней ночью через окно. Это было замечено случайно бывшим на дворе швейцаром, и Крылов пойман в будуаре воспитанницы. Крылова наказали розгами; Ялушевскую под видом неспособности исключили из заведения, а содействовавших ей в шалости двух воспитанниц […] подвергли домашнему взысканию. Случай этот, как уверяют, до сведения высшего начальства не доведен из опасения ответственности ближайших начальников и начальниц»[152 - Там же. Д. 947. Л. 1–1 об.].
Говоря о студенческой молодежи, сразу оговорюсь, что оставляю за пределами исследования политическое вольномыслие и протестное движение, имеющее хорошую историографическую традицию. Обратим внимание на внешние проявления студенческого быта, нарушающие существовавшие в обществе нормы и зафиксированные агентами политической полиции. Довольно часто в сведениях полиции упоминался неопрятный внешний вид молодых людей. Шокирующий облик для студентов был своеобразным маркером свободомыслия, неприятия ценностей традиционного общества.
В одном из агентурных донесений (1858) со ссылкой на инспектора университета сообщалось, что тот уже махнул рукой на все, пребывая в отчаянии от поведения студентов, которые «не только […] продолжают носить, что хотят: цветные галстуки и шарфы и белые выпускные воротники, но многие стали даже отращивать усы». «Все это приписывают вкоренившейся в них […] трактирной жизни, отчуждающей их более и более от семейных домов»[153 - Там же. Л. 136.], – заключал информатор.
В апреле 1861 г. внимание полиции привлек гулявший на Адмиралтейском бульваре студент: «Один молодой человек в студенческой шинели, под которой у него было надето: ситцевая полосатая рабочая блуза, большие сапоги, в которых засунуты были брюки, и конфедератка. Костюм этот обратил на него всеобщее внимание. Многие прохожие, указывая на него пальцем, замечали: напрасно правительство допускает показываться на публичных гуляниях лицам, одетым в таком революционном костюме»[154 - Там же. Д. 3235. Л. 112 об.]. В отказе от строгой форменной одежды полиции виделся крах устоев.
Петербургский агент докладывал помощнику старшего чиновника Третьего отделения Ф. И. Проскурякову (25 августа 1861 г.) о встреченных им студентах «в каких-то странных, фантастических одеждах». Символом их корпоративной принадлежности была только фуражка с голубым околышем. Он писал: «Маскарадный их костюм состоит из какого-то длинного полувоенного или полустатского плаща или пальто, темного цвета, и не говоря уже о безобразно отпущенных некоторыми из них усах и бородах, в особенности обращают на себя внимание необыкновенно длинно отпущенные ими сзади волосы, висящие по плечам и почти до половины спины»[155 - Там же. Д. 3237. Л. 46.].
Это были предшественники так называемых нигилистов, вызывающий внешний облик которых дополнял протестную мировоззренческую позицию.
Осенью 1861 г. полицейские сводки полны сообщений о волнениях студентов Санкт-Петербургского университета.
Но не вся молодежь была увлечена борьбой за студенческие вольности. «Сегодня, по случаю маскарада в немецком клубе, туда ожидают многих студентов и опасаются шкандала»[156 - Там же. Д. 3238. Л. 8 об.], – сообщал полицейский агент 7 октября 1861 г. Другой – приводил слова извозчика, который считал, что хуже студентов только черкесы: «Те тотчас драться лезут»[157 - Там же. Д. 3234. Л. 75.]. Вообще, появление компаний студентов на увеселительных мероприятиях было признаком надвигающегося скандала. Так, обратили на себя внимание и воспитанники Технологического института, в состав которых влились исключенные после студенческих волнений 1861 г. студенты университета: «Они избрали местом своих попоек и сходок трактир Баранова «Старый Царицын» против самого института. Даже тамошний местный надзиратель жалуется, что с ними ничего не может поделать. Говорят, коноводы попоек [курсив мой. – О. А.] технологических воспитанников суть два брата Лебедевы, из коих один был ранен прикладом ружья во время бывших в 1861 году студенческих беспорядков»[158 - Там же. Л. 6.].
Естественно, особое внимание полиции вызывали политические мотивы, звучавшие на пирушках. В этом контексте обращалось внимание на «недавно открытый кофейный дом [Изюмова], которому очень многие присвоили название Русской таверны»[159 - Там же. Д. 2996. Л. 1.]. Публика там собиралась разнородная – «студенты, оборванные чиновники, богатые купцы, извощики и публичные женщины», и отдыхала привычно: «Весь этот сброд обычных посетителей кофейной пляшет и поет под звуки игры шарманщика»[160 - Там же.]. Но не всё, по словам агента, в поведении «обычных посетителей» было традиционно: «Не говоря уже о песнях разврата, которые там поются, в воскресенье несколько студентов, сидя в главной зале, запели, нисколько ни стесняясь, революционные песни […], а один из аудиторов Военного министерства продекламировал стихи: «Долго нас помещики душили». Ко всему этому надобно еще прибавить происходящие в кофейной драки»[161 - Там же. Л. 1 об.].
Последней фразой, видимо, намечался возможный вариант скорого полицейского вмешательства для пресечения беспорядка, а следом можно было обратить внимание и на политическую благонадежность хозяина заведения, допускавшего такие вольности в поведении посетителей. «Прижать» Изюмова можно было и за нарушение распорядка работы кофейной: «Кофейная Изюмова всегда открыта до 4 часов утра, несмотря на то, что он, торгуя на правах кухмистера, обязан запирать свое заведение в 12 часов ночи»[162 - Там же.]. Оставалось только убедиться в достоверности полученных сведений.
Речевая «культура» молодежи пугала не меньше поведенческой. 8 июня 1861 г. в сводке донесений упоминалось, что трое кадет поздно вечером на Невском проспекте «неприлично громко ругались с двумя женщинами, которые без стыда отвечали им такими же русскими бранными словами»[163 - Там же. Д. 3236. Л. 66.]. Не сдерживал себя и какой-то студент, попавший не только в жандармскую сводку, но и в полицейскую часть. Он в кондитерского Вольфа неосторожно толкнул господина, незнакомец, оказавшийся Бессарабским вице-губернатором, спросил, как его фамилия. На что студент отвечал: «Ху…овский!»[164 - Там же. Д. 3216. Л. 101.]
Нигилизм как политическое течение заявил о себе в середине 1860-х гг. Шеф жандармов П. А. Шувалов писал в отчете Третьего отделения за 1869 г.: «Русский нигилист соединяет в себе западных атеиста, материалиста, революционера и коммуниста. Он отъявленный враг государственного и общественного строя, он не признает правительство»[165 - Отчет Третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии и корпуса жандармов за 1869 год // Россия под надзором. С. 685.].
Современник иронизировал, говоря о внешнем виде оппозиционеров: «По тогдашней либеральной моде, большинство интеллигенции прямо бравировало неряшеством. Юноши ходили нестрижеными и нечесаными, потому что им «некогда» было заниматься такими пустяками; по той же причине девушки демонстративно не мыли себе шею по целым месяцам и нимало не заботились о чистоте костюма. Странно было то, что одна и та же причина вызывала два совершенно противоположных результата у молодых людей двух полов: юноши, за недосугом, отпускали себе длинные волосы, а девушки, напротив, остригались в скобу – тоже за недосугом»[166 - А.Р. Былое. Из воспоминаний о пятидесятых и шестидесятых годах. С. 385.].
Об идейном содержании шокирующего имиджа писал Ф. М. Решетников: «Например, я видел много нигилистов. Это глупые люди. Мальчик, вбивший себе в голову, что он нигилист, то есть не верует в Бога, не признает правительство, носит длинные волосы, очки, говорит вздор и подличает; в церкви он ужасно гадок, ужасно гадок на Невском, в Пассаже, где делает пакости девушкам, женщинам». Этих людей не волновали насущные вопросы российской жизни (например, положение крестьян): «Они никак не хочут не только заступиться за мужика, но не хочут сознательно, чистосердечно назвать его гражданином – и всегда ближнему сделают пакость». Особенно досталось от молодого писателя дамам: «Женщины и преимущественно девицы ходят без кринолинов, с обрезанными волосами, с книжками: это нигилистки. И за ними волочатся очкастые, длинноволосые нигилисты […] Эти особы говорят по-ученому, но ничего не понимают, их можно резать с книжкой, но она будет хвастаться, а не объяснять; то, что скажет ей нигилист, – будет говорить и она»[167 - Решетников Ф. М. Дневник // Литературное наследство. Т. 3. М., 1932. С. 179.]. Как видим, новая поведенческая практика имела свою идеологию, пусть и воспринимаемую обывателями не адекватно базисному учению, но с четким перечнем новых ценностей[168 - О нигилизме написано достаточно много, см.: Ширинянц А. А. Нигилизм или консерватизм? (Русская интеллигенция в истории политики и мысли). М., 2011.].
После покушения Д. В. Каракозова на Александра II терпение тайной полиции в отношении протестного внешнего облика нигилистов лопнуло. Управляющий Третьим отделением Н. В. Мезенцов письмом от 10 мая 1866 г. уведомлял санкт-петербургского обер-полицмейстера о необходимости решительного пресечения демонстрации политически опасных одеяний: «На улицах Невского и других проспектов продолжают, в последнее время, показываться дамы и девицы, носящие особого рода костюм, известный под названием «нигилисток» и имеющий следующие отличия: круглые шляпы, скрывающие коротко остриженные волосы, синие очки, башлыки и отсутствие кринолина. Со дня преступления 4 апреля среда, воспитавшая злодея, заклейменная в понятии всех благомысляших людей, а потому и ношение костюма, ей присвоенного, не может, в глазах блюстителей общественного порядка, не считаться дерзостью, заслуживающей не только порицания, но и преследования». Модницы обязывались подпиской к изменению костюма, а при отказе им грозила высылка из столицы и полицейский надзор[169 - ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. 1866. Д. 131. Л. 1–1 об.].
Костюм, то есть набор аксессуаров, приобретал для власти пугающий смысл. Политическая распущенность оказалась опаснее моральной.
И. Т. Прыжов отмечал: «У великорусского народа мало-помалу сложилось новое правило жизни, что не пить – так и на свете не жить»[170 - Прыжов И. История кабаков в России. М., 1991. С. 233.]. Спиртные напитки не просто скрашивали досуг многих крестьян и горожан, их потребление было самым доступным и желанным средством выражения радости и счастья, а ситуация житейского комфорта не мыслилась вне распития, на трезвую голову.
В 1838 г. председатель департамента гражданских и духовных дел Государственного совета Н. С. Мордвинов, возражая против расширения системы винных откупов, представил Николаю I записку, в которой предлагал незамедлительно начать осуществление мер по искоренению пьянства. Он апеллировал к опыту Соединенных Штатов Америки, где «рачительно […] занимаются введением трезвости, как непреложного основания к благосостоянию народа»[171 - Архив графов Мордвиновых. Т. 8. СПб., 1903. С. 629.]. Этот пример получил распространение и в Европе, где повсеместно возникали общества трезвости. Если не терять время, то для русского народа «неисчислимые впоследствии явятся пользы»[172 - Там же. С. 630.] (30 марта 1838 г.).
Письмо с запиской «Об искоренении пьянства» было направлено и графу А. Х. Бенкендорфу. Шеф жандармов отвечал (7 апреля 1838 г.), что император прочел представленную бумагу и, «вполне признавая справедливость всего в оной изложенного, изволил, однако же, отозваться, что приступить к мерам об искоренении пьянства в России весьма затруднительно и что в деле сем надлежит действовать с величайшею осторожностью»[173 - Там же. С. 631.]. Формальность письма была особенно заметна на фоне назначения «спаивающего народ» министра финансов Е. Ф. Канкрина состоять при «особе его императорского величества»[174 - Там же.].
Тем не менее ограничения в продаже спиртных напитков существовали и контролировались полицией. Так, в Москве действовал запрет на музыку, пляски, исполнение песен в питейных домах и распивочных лавках, запрещался вход в них женщин; в кабаки запрещено было пускать «крестьян в смурых[175 - Домотканый, из некрашеной темной шерсти. Вид повседневной одежды.] кафтанах, господских людей в ливреях и воинских чинов»[176 - ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2271. Разд. 11. Т. 1. Л. 62 об.]. 16 августа 1843 г. шеф жандармов представил доклад, в котором излагал просьбу московского генерал-губернатора «дозволить входить в трактир людям в смурых кафтанах, особенно в Москве, куда съезжается множество крестьян из разных губерний, ибо в противном случае они могут обратиться в питейные дома, что еще вреднее для нравственности»[177 - Там же.]. Император с этим предложением согласился, подчеркнув, что другие запреты должны сохраниться. Как видим, нравственный критерий был определяющим: посещение трактира (ресторана) прививало определенную культуру потребления и поведения, в отличие от заведений более низкого уровня, ориентированных только на выпивку.
В 1859 г. в стране началась активность, вызвавшая некоторое замешательство в «верхах». В. А. Долгоруков докладывал императору Александру II: «В течение 1859 года случилось у нас событие совершенно неожиданное. Жители низших сословий, которые, как прежде казалось, не могут существовать без вина, начали добровольно воздерживаться от употребления крепких напитков»[178 - Нравственно-политическое обозрение за 1859 год // Россия под надзором. Отчеты Третьего отделения 1827–1869. М., 2006. С. 497.]. Началось это движение сначала в Прибалтике, затем распространилось в Поволжье (особенно в Саратовской губернии), затем проявилось в Рязанской, Тульской и Калужской губерниях. Причины были вызваны действиями откупщиков, в погоне за прибылью резко поднявших цены на водку, и низким качеством вина, отпускавшегося в кабаках. По мнению В. А. Федорова: «Это был грандиозный, хотя и пассивный, протест народных масс против наиболее тяжелого и разорительного налога – откупной системы»[179 - Федоров В. А. Крестьянское трезвенное движение 1858– 1860 гг. // Революционная ситуация в России в 1859–1861 гг. М., 1962. С. 116.].
В Третье отделение поступали сведения о самоорганизации крестьян («обет трезвости») для противостояния грабительской политике откупщиков. Например, сообщалось: «В городе Балашове обет не пить вина совершен был торжественно 5 февраля: народ, подняв св. иконы и хоругви, вышел на городскую площадь, где отслужен был молебен с коленопреклонением и водосвятием; после того приставлен был к кабакам караул от народа для наблюдения, чтобы никто не покупал вина, и виновный подвергается немедленно по народному суду денежному штрафу или наказанию телесному»[180 - Выписка из частных сведений, полученных частным образом, о крестьянских обществах, условившихся не пить хлебного вина. 1859 г. позднее февраля 5 // Крестьянское движение в России в 1857 – мае 1861 гг. Сборник документов. М., 1963. С. 189.]. Жандармский штаб-офицер Андрианов переслал шефу жандармов копию решения (приговора) о неупотреблении вина мирского схода государственных крестьян Троицкого сельского общества Рыбкинской волости Краснослободского уезда Пензенской губернии. Показательно, что выступавший перед земляками старшина Н. Е. Мордовин не клеймил действия откупщиков, обиравших народ, но пополнявших государственный бюджет, а рассуждал… о здоровом образе жизни. Он вещал «о трезвой жизни и о том, сколько зол происходит от излишнего употребления горячих напитков, отчего истощается наше благосостояние, портятся душевные и телесные способности»[181 - Мирские приговоры государственных крестьян Троицкого сельского общества Рыбкинской вол. Краснослободского у. о неупотреблении вина // Крестьянское движение в России в 1857 – мае 1861 гг. С. 195.]. «Отслужа молебствие о столь благом и важном деле», единогласно и добровольно, крестьяне «обязались не пить водки, что и исполнить в точности; в питейные дома не ходить и в оных трубку не курить, […] и о нарушителях сего доносить сельскому начальству для поступления с таковыми как с вредным обществу». Из общего правила допускались и исключения: «В некоторых случаях дозволить себе покупать и водку, именно: во время свадеб – не более ведра, в крестины – один полуштоф или за болезнью престарелого человека, которому пожелается выпить водки, то может послать и взять в дом не более одной косушки, то есть пятидесятую часть ведра, но ни под каким видом не ходить в кабаки и не пить в оных»[182 - Там же.]. Нарушители подвергались денежному штрафу или должны были выполнять общественные работы («метение и очищение от грязи и сору улиц и площадей»), тех же, кто неоднократно будет нарушать приговор схода, «как пьяницу и распутной жизни человека удалить из общества» в ссылку на поселение[183 - Там же. С. 196.].
Сообщения о подобных действиях крестьян приходили и из других мест. Штаб-офицер корпуса жандармов в Тульской губернии Белоусов сообщал: «Число непьющих вина крестьян в Тульской губернии сильно возрастает, в некоторых уездах осталось очень немного селений, которые еще не последовали общему примеру»[184 - Донесение штаб-офицера корпуса жандармов в Тульской губернии Белоусова шефу корпуса В. А. Долгорукову об участившихся отказах крестьян употреблять вино // Крестьянское движение в России в 1857 – мае 1861 гг. С. 213.]. Появлялась информация и о том, как крестьяне расправлялись с нарушителями бойкота. Белоусов докладывал: «В иных местах наказание виновных делается при общей сходке. Собирается толпа, ставят на площади шест с привязанным к нему красным платком и около этого шеста наказывают провинившегося. В одном из казенных селений Богородицкого у[езда] устраивается нечто вроде шествия, причем для того, чтобы всем было известно, колотят палкою во что-нибудь металлическое»[185 - Там же. С. 213–214.].
Жандармов беспокоила стихийная самоорганизация народных масс, показывавшая «сильный дух» крестьян. Крестьянская тактика: выступление за трезвость, а не против грабителей-откупщиков, опекаемых властью, поставила местное начальство в затруднительное положение. Успокаивало то, что «отречение делается не навсегда, а на разные сроки. Носились слухи, что некоторые крестьяне ожидают условий вольной продажи вина или очень дешевой цены»[186 - Там же. С. 213.]. В то же время крестьянское единение создавало опасный прецедент. Помещики опасались, что «с наступлением весны крестьяне точно так согласятся не отправлять барщины»[187 - Выписка из частных сведений, полученных частным образом… С. 189.]. Тревожило и начавшееся самоуправство, подрывавшее монополию государственной власти и помещика на правосудие. Жандармский штаб-офицер Белоусов осторожно указывал на эту опасность: «Большие сходбища толпы, взявшей на себя правило наказания, как бы не повели к беспорядкам». Особенно в условиях грядущей отмены крепостного права: «Толпа, уверив себя в значении массы ее, как бы пугающей ближайшие власти и потому не смеющей мешаться в дела их, не возбудили бы в них дерзость к обращению и на другие предметы»[188 - Донесение штаб-офицера корпуса жандармов в Тульской губернии Белоусова… С. 214.].
Шеф жандармов регулярно информировал государя о настроениях на местах. Эти голоса были услышаны. В. А. Долгоруков отчитывался о деликатных мерах реагирования: «Правительство признало нужным при таковых обстоятельствах обратить внимание только на самовольные поступки ревнителей трезвости, которые принуждали других к воздержанию штрафами и взысканиями, а потому местным начальствам было предписано не допускать произвольного составления жителями каких-либо обществ и письменных условий, а также самоуправных наказаний»[189 - Нравственно-политическое обозрение за 1859 год. С. 498.].
С середины 1859 г. трезвенное движение стало радикализироваться, начались погромы питейных заведений. Здесь уже декларациями о здоровом образе жизни крестьяне не прикрывались. В начале июля 1859 г. жандармский офицер Кретович докладывал, что в Самарской губернии «в настоящее время дух народа, покушавшегося на самовольство, принял общий характер»[190 - Цит. по: Федоров В. А. Указ. соч. С. 120.]. В отчете Третьего отделения отмечено: «В Самарской губернии грабежи произведены из одних только корыстных видов, а в Вятской, по ограблении питейного дома в селе Петровском, опились до смерти 8 человек»[191 - Нравственно-политическое обозрение за 1859 год. С. 499.]. Здесь уже была очевидна необходимость «для укрощения буйства» использования войск, а в Пензенскую, Тамбовскую, Саратовскую и Самарскую губернии были командированы штаб- и обер-офицеры корпуса жандармов с нижними чинами. По сведениям высшей полиции, в 12 губерниях разграблено 220 питейных заведений, предотвращено 26 погромов, задержано до 400 человек[192 - Там же. С. 500. В. А. Федоров выявил, что активные трезвенные выступления затронули 15 губерний, в ходе массовых протестных действий разгромлено было более 260 питейных заведений, за участие в трезвенном движении было арестовано около 780 чел. (Федоров В. А. Указ. соч. С. 122–123).]. Тюрьмы были переполнены. Выявленных зачинщиков бунтов судили военными судами, приговаривавшими к телесным наказаниям шпицрутенами и ссылке в Сибирь. Отголоски трезвенного движения не прекращались еще несколько лет. Его затухание свидетельствовало о приоритете у крестьян протестных задач – добиваться снижения цены на водку для большей доступности потребления, а не в декларированных целях сохранения достатка, телесных и душевных сил.
Служащие в Третьем отделении чиновники хорошо понимали вред и опасность пьянства для нравственного здоровья людей и общественной безопасности. Еще в самом начале 1860-х гг. составитель жандармских сводок, пересказывая городскую молву, сетовал на странную конкуренцию Москвы и Петербурга: «Москва, как известно с незапамятных времен, считается гнездом трактиров, харчевен, портерных и кабаков, простым народом называемых заведениями. И если не в каждом доме, то непременно через дом одно, а не редко и по два таких простонародных сборища, так что (как говорят) если взять всех их вместе по всей России, то едва ли число оных будет больше, чем в одной только Москве. Теперь здешняя публика с некоторых пор стала замечать, что и Петербург в скором времени не отстанет в этом от Москвы, – по крайней мере, есть на то большая надежда, ибо очевидно, что в последние годы расплодилось здесь столько этого добра, что на каждой улице и переулке по нескольку таких обетованных простонародных мест – особенно портерных и водочных лавок!»[193 - ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 3. Д. 3233. Л. 77.]
Неодобрительность проявлялась в самой тональности записки. Обывателей беспокоили криминальные последствия пьянства: «Как же после этого (говорят) не быть увеличивающемуся здесь воровству и вообще порче нравов простолюдин, по мнению наблюдательных людей, все больше и больше пристращая к посещению сих мест, но всякий может удостовериться, что они с утра до ночи наполнены простолюдинами всех сословий, а чтобы пить да есть, надо побольше денег, чем они достаются трудами своими, поэтому и неизбежны воровство, грабежи и все другие порочные средства»[194 - Там же.].
Количество увеселительных заведений в столице действительно постоянно росло, и большинство их было ориентировано на привлечение низших слоев общества. «С некоторого времени здесь при многих гостиницах завели сады, в которых даются увеселительные вечера с довольно дешевою платою за вход. С одной стороны, конечно, подобные заведения необходимы, но с другой – надзор за ними еще необходимее, – рассуждал чиновник Третьего отделения в докладной записке своему руководству. – Собирающаяся там публика состоит из самого буйного класса: мастеров, публичных женщин низшего сорта и разных воришек. Драки и беспорядки беспрестанные, а полиции нет; расправляются сами хозяева, а иногда даже и служители их, разумеется сильнейшие […] всегда правы бывают»[195 - Там же. Д. 2996. Л. 21–21 об.].
Иногда личность дебоширов удавалось установить и затем сообщить служебному начальству о содеянном для принятия воспитательных мер воздействия. В одном агентурном донесении отмечалось, что 15 октября 1860 г. секретарь распорядительной думы Лапшин со знакомыми «были очень пьяны, ходили в шляпах и один из них часто ругался похабными словами и между прочим обругал управляющего тамошним кварталом штабс-капитана Новицкого, который хотел было его выпроводить, но когда Лапшин зазвал Новицкого выпить шампанского, то он оставил знакомого его в покое»[196 - Там же. Д. 3232. Л. 55.]. Как видим, примирительный (или, точнее, попустительный) характер разрешения конфликтов был распространен, полицейские служащие готовы были закрывать глаза на поведение пьяниц, а хозяева и служители заведений оберегали своих пьющих завсегдатаев от административных неприятностей.
Пьянство было основной причиной постоянных конфликтов и происшествий (лето 1861 г.): «Не проходит дня, чтобы в гостинице «Орел», находящейся на Песках, в саду, где играет музыка, не было какого-нибудь скандала. Там собирается более публика окрестностей, но приезжают и известные кутилы, и много разного сброда. Один из наших агентов, которому велено посещать это заведение, доносит, что 7 числа бывший там в нетрезвом виде потомств[енный] поч[етный] гражд[анин] Самсонов, нанеся сперва многим гулявшим оскорбления, обругал, оплевал и побил приказавшего его отвезти в часть помощника надзирателя, подпоручика Глушановского, крича, что он богат, ничего не боится и всю полицию [от] какой-нибудь дряни помощ ника до самого главного – купит»[197 - Там же. Д. 2990. Л. 1.]. Любопытно, что препровождаемый в часть дебошир с гордостью кричал глазевшему на него народу: «Я помощнику три оплеухи дал»[198 - Там же.]. Видимо, этот коммерческий способ разрешения конфликтов с полицией был вполне вероятен.
Другое важное обстоятельство заключалось в том, что, несмотря на усилия содержательницы гостиницы купчихи Бурениной и ее мужа замять скандал и добиться освобождения Самсонова, бывшие при этом посторонние лица не позволили это сделать, заявив, что если Самсонова, оскорбившего офицерский мундир, освободят, то они сами донесут об этом происшествии обер-полицеймейстеру.
Тот же полицейский агент, справно отрабатывая выданные средства, доносил, что «там же [в гостинице «Орел». – О. А.] из числа посетителей какой-то молодой человек, когда заиграли какую-то пляску, стал кривляться на все возможные манеры, окончив свои кривляния, он ни с того, ни с другого дал две оплеухи одному чиновнику ведомства путей сообщения, человеку уже пожилому, сидевшему очень смирно на скамье…»[199 - Там же. Л. 1 об.]. «Песенник» Яковлев не только не пошел за полицейским, как того требовала публика, но и помог скрыться дебоширу.