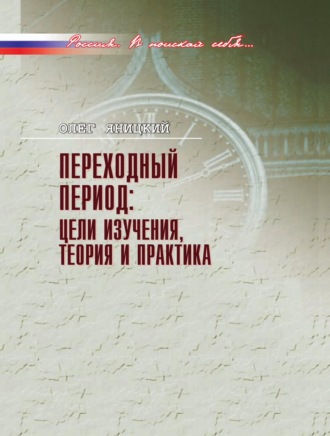
Переходный период: цели изучения, теория и практика
Следует различать (но не абсолютизировать) сети обмена материальными ресурсами и продуктами производства, собственно информационные сети как инструмент управления, науки и образования и силовые социальные сети. Последние используются двояким образом: как «сети развития» и как «силовые сети», как инструмент и оружие для достижения собственных геополитических целей и подавления сопротивления так называемой «пятой колонны».
Сегодня социальные сети – это общественный организм, используемый не только как инструмент для других агентов, но требующий постоянного притока ресурсов. То есть сеть из средства связи и доступа к ресурсам сегодня превратилась в относительно автономную сферу общественного производства, требующую ресурсов. Откуда они берутся? Из самых разных источников, но прежде всего от системы бизнес – власть, но она не просто «берет» их из этого источника, сегодня общество и его рынок устроены таким образом, что ни один социальный институт или организация не могут существовать, если они не платят «дань» масс-медиа.
Современные экономические и политические санкции суть силовой инструмент давления на вероятного противника посредством лишения его доступа к «сетям развития», включающим производство, распространение и установку новых технологических продуктов, которые сегодня нужны России и многим другим странам, вступающим в «переходный период». Западные идеологи утверждают, что это давление касается только олигархической верхушки РФ и не затрагивает интересов рядовых граждан. На деле, как показывает ежедневная экономическая практика, происходит ровно наоборот: отдельные олигархи РФ выпрашивают у США некоторые послабления, а рядовые граждане страдают.
Сегодня гибридная война есть главный инструмент динамического экономического, политического и психологического противоборства глобальных игроков. На производство этого продукта в мире брошены лучшие интеллектуальные ресурсы, гражданской и военной науки. Однако остается нерешенным вопрос принципиальной важности: как идея гибридной войны соотносится с необходимостью поддержания хотя бы относительного мира и согласия во всем мире? Куда испарилось движение за мир, созданное еще в 1955 г. выдающимися учеными? И уже совсем трудный, но необходимый вопрос: каким будет переходный период от гибридной войны к всеобщему миру?
Люди суть одновременно создатели и подчиненные социальных сетей. Это отнюдь не означает, что горы, реки и моря утеряли свое коммуникативное значение для людей. Чем дальше, тем больше человечество, преодолевая законы природы – в данном случае законы биосферы, – в то же время становится все более зависимым от нее, о чем Ф. Энгельс неоднократно писал в «Диалектике природы». Например, Китай, создавая свой новый «Шелковый путь», постепенно трансформировал программу его создания в «Пояс и путь», акцентируя внимание на необходимости учета в этом трансконтинентальном проекте сопротивления не только других государств, но и ограничений, налагаемых на этот проект существующими природными условиями.
Наконец, как пишет М. Кастельс [Castells, 2004: 17], «интернет родился на почти невероятном пересечении Большой науки, военно-технических исследований и культуры свободы» (в западном ее понимании). То есть Кастельс фактически подтверждает мой тезис о необходимости междисциплинарного взаимодействия. Все социальные сети этих институциональных структур взаимодействуют со «встречными» потоками вещества и энергии, вступая с ними в противоречия и конфликты, что естественно, так как любое современное производство, включая и производство культурных ценностей, содержит в своих структуре и функциях как материальный, так и информационный сетевой элемент. Это означает, что мы сегодня живем в двух мирах: материальном и информационном.
3.5. Некоторые выводы
Итак, современный переходный период – это эпоха формирования сетевого общества, охватившего все стороны общественной жизни. Человеческие сообщества все более осознают свою включенность и потому зависимость от той комплексной (интегрированной) системы, которую я называю социобиотехносферой. Всякий переходный период от одного способа производства к другому чреват негативными экологическими и социальными последствиями и общим ростом глобальной социальной напряженности. Трактовка этого периода как перехода от модерна к постмодерну – слишком общая и не раскрывающая его механизмов и противоречий. Между тем переходный период – это, в частности, транзит от общества, живущего уроками от последствий уже случившихся событий (кризисов, войн, природных и техногенных катастроф), к обществу непрерывных и все более ускоряющихся глобальных изменений. Теоретическое осмысление этих критических событий есть важнейший инструмент познания сетевого общества. Однако пока весь мир находится в состоянии «между» двумя и даже несколькими способами общественного производства, это указывает на необходимость построения многомерной модели переходного периода, в котором весь мир, и мы в том числе, сегодня находимся. Это, в свою очередь, указывает на тот факт, что эпоха существования обособленных социальных миров закончилась, их взаимозависимость растет. Следовательно, сегодня изучение социальных общностей любого масштаба должно вестись в контексте глобальной динамики.
Глава 4
Экспертное знание как инструмент оценки сложных объектов
Экспертиза (под разными названиями) – весьма древний инструмент оценки ситуации, расстановки социальных и иных сил и предсказания будущего. Институт «высших сил» и интерпретаторов их мнения, старейшин, шаманов, советчиков и советников возник едва ли не на заре возникновения человеческого общества. Но нас в данном случае будет интересовать роль и функции этого института в условиях перехода от НТР-3 к НТР-4 или, в западной терминологии, перехода от модерна к постмодерну и потом – к информационному обществу.
Однако, следуя принципу многозначности любых, в том числе экспертных оценок, я буду придерживаться принципа многостороннего анализа, учитывающего историю развития этого оценочного инструмента и роль личностных и коллективных факторов в формировании междисциплинарного подхода.
4.1. Краткая история эволюции экспертной оценки
Как отмечено выше, историческое знание здесь важно для понимания эволюции этого метода. Можно выделить этапы его становления. Уже в глубокой древности в ареалах зарождения человеческой цивилизации (Месопотамия, Египет, Китай, полуостров Юкатан, Восточная Сибирь) существовали две параллельно развивавшихся формы такой оценки, которые я условно называю религиозно-мистической и рационально-космической. Обе они апеллировали к «высшим силам» и имели духовное и материальное происхождение.
Показательно, что с развитием человеческого общества его коллективное поведение становилось все более рациональным, что не мешало периодически обращаться к «высшим силам» как в повседневной жизни, так и в критических ситуациях. Обязательные молебны, крестные ходы, необходимость покаяния и благословения, равно как и многие другие атрибуты церковной жизни сопровождали и сопровождают сегодня сугубо рациональные действия человека и его сообществ. Я знал лично нескольких российских академиков, выдающихся теоретиков, математиков и физиков, которые были глубоко верующими людьми. Но вот важный момент: эти ученые никогда не «смешивали» свои религиозные убеждения с методами и принципами рационального мышления и действия.
Экспертиза именно как социальный институт возникла сравнительно недавно, где-то в середине прошлого столетия. Экспертизу нельзя смешивать с авторитарными и диктаторскими указаниями иных правителей, если подобные директивы не основаны на коллективном опыте и дискуссии. В этом смысле современная демократия как политика, основанная на мнении большинства, представляется мне не настоящей демократией, даже если принятое решение отвечает требованиям конкретного исторического момента. Завтра ситуация изменится, а политика еще долго будет строиться по вчерашним и позавчерашним лекалам.
Обратимся к опыту крестьянской России. Индивидуальное крестьянское хозяйство было идеальной моделью соединения знаний и практического опыта. Кроме того, оно практически не давало отходов, этого бича современного высокотехнологичного сельского хозяйства. Конечно, методы селекции постепенно развивались, но они еще долгое время были результатом естественного отбора, а не тотальной химизации земледелия. Не парадокс ли: в России периодически случались и засухи, и наводнения, но вплоть до Октябрьской революции страна не знала голода как массового общественного явления. Напротив, Россия весь XIX век и часть ХХ века экспортировала зерно и другие продукты сельскохозяйственного производства.
Что касается собственно промышленной революции (НТР-3), то в обозначенный выше исторический период она тоже развивалась вполне естественным образом, предполагающим соединение коллективного опыта и индивидуального экспериментирования. В тот период индивидуальный и коллективный опыт были сообщающимися сосудами, поскольку обмен ими осуществлялся в рамках крестьянской общины и университетов. Чтобы В. В. Вернадский мог выдвинуть в начала 1920-х гг. концепцию биосферы, надо было быть не только гениальным ученым, но и экспериментатором, и политическим деятелем, который прошел путь от «земского гласного» Моршанского уезда Тамбовской области до члена ЦК партии конституционных демократов. Концепция биосферы по своей сути интернациональна, так как она вовлекает в свой кругооборот самые разные страны и народы независимо от их желания.
Как говорил другой наш выдающийся ученый акад. Н. И. Вавилов, «настоящий ученый, прежде всего, интернационален». И ниже: «Мы вступаем в полосу коллективного творчества, но и дальше… индивидуальность будет иметь огромное значение» [Вавилов, 1990: 400, 458]. В этом томике выступлений, писем и замечаний Вавилов не раз отмечал, что у части научных работников и организаторов науки есть большое желание превратиться не только в администраторов, но и прокуроров в отношении ведущихся научных исследований. То есть стать над исследовательским процессом в качестве его регуляторов.
Чем дальше, тем больше внутри самого института науки разрастается административный и бюрократический аппарат, который не просто «кормится» за счет научных исследований, но и стремится поставить этот процесс в жесткие рамки все большего числа формальных требований всевозрастающего количества обязательных кодов, правил, нормативов, протоколов и т. д. Что, естественно, тормозит научную работу, отнимая уйму времени на выстраивание и форматирование отчетов, которые когда-то в недрах неизвестного ведомства были разработаны совсем для других целей.
4.2. Семья и соседство как основа формирования экспертного знания
С моей точки зрения, до недавнего времени существовало два тесно связанных между собою архетипа формирования личности эксперта: эмпирический и научный. Эмпирический архетип формировала прежде всего семья как первичный многофункциональный организм, в котором отдельные виды практической деятельности были тесно связаны во времени и пространстве, а также «пересекались», сливаясь друг с другом или вытесняя один другого. Со временем этот организм развивался, но та или иная форма его целостности, взаимосвязанности его разнокачественных процессов сохранялась, передаваясь из поколения в поколение. Это – один архетип сохранения устойчивости через изменения. Это именно тот эмпирический архетип, который Р. Парк и его коллеги назвали «человеческой экологией» (human ecology).
Другой архетип, который я назвал «научным», представлен условной фигурой молодого человека, который вырос и сформировался в научной среде. Причем в среде разнообразной, естественнонаучной и гуманитарной, теоретической и прикладной, кабинетной и полевой, сопряженной с длительным пребыванием в разнообразных социальных и научных средах. В ней формируется тип исследователя, который одинаково хорошо ориентируется в научной и обыденной социальной средах, как дружественной, так и враждебной. Это в конечном счете тот тип, который я называю «бывалым» человеком (experienced man). Чаще всего этот тип формируется в таких отраслях знания-практики, которые требуют уменья применять полученные знания в самых разных социальных ситуациях (научном эксперименте, экспедиционной работе, спасательных операциях и т. д.). Этот вид научно-практической деятельности предполагает также общение с людьми, весьма далекими от специализации агента, например с местным населением, браконьерами, представителями местных органов власти и силовых структур и др. Образцом такого человека был для меня проф. Ф. Р. Штильмарк, ученый, охотовед, наблюдатель [Штильмарк, 2006].
Здесь самое интересное то, что эти два архетипа, по крайней мере в ХХ в., начали не только сближаться, но и соединяться. На мой взгляд, фазы этого сближения и соединения отражают объективный процесс. А именно – ответ процесса познания на факт существующей взаимосвязи и метаболизма между отдельными структурами и процессами объективного мира. Для подтверждения этой гипотезы я провел специальное исследование, которое подтвердило это мое предположение. Процесс познания сближения и соединения этих структур и процессов проходит четыре и более ступеней, от кажущейся разобщенности научного и практического знания к постепенному сближению. И в конечном счете к слиянию в форме междисциплинарного знания, носителем которого может быть как отдельный ученый, так и коллектив, который способен решать сложные межведомственные проблемы [Яницкий, 2004].
Однако в последнее десятилетие появился и быстро приобрел политический вес третий архетип, административно-бюрократический. Когда в лучшем случае некоторая система оценок из одной сферы, например технологической, переносится в совсем другую сферу, в сферу исторического или социологического знания.
4.3. Эксперт: коллективный, индивидуальный, заказной
Эксперт бывает двух категорий: тот, от которого требуют дать оценку конкретной работы, например рецензент журнальной статьи или научной разработки, и эксперт, призванный комплексно оценивать стратегические перспективные разработки, крупные междисциплинарные и межведомственные проекты и т. п.
В обоих случаях предполагается, что тот, кто заказывает подобную экспертизу (отзыв, заключение), сам разбирается в предмете рецензируемой работы и вместе с тем уверен, что эксперт обладает нужными профессиональными и морально-этическими качествами. То есть он знает предмет рецензируемой работы и одновременно способен проявить «нейтральность» (по Р. Мертону), то есть дать свое заключение независимо от своего отношения к индивидуальному или коллективному создателю анализируемого продукта.
К сожалению, в реальности современная экспертная практика все дальше уходит от этого идеала по многим причинам. Очень часто случается, что ни тот, кто направляет данную работу на экспертизу, ни избранный им индивидуальный эксперт или организация, не способен даже приблизительно по достоинству оценить работу, подлежащую экспертизе. Все чаще экспертизу заказывает такая организация или ведомство, которому невозможно отказать, например прокуратура или другая ветвь судебной системы. Время, отведенное на экспертизу, особенно больших затратных проектов, всегда строго регламентировано. В практике нередки случаи, когда рецензент или эксперт отказывается или не может дать заключения по уважительной причине, а заказчик требует сделать экспертизу в отведенные сроки.
Но главная причина – это заказной характер экспертизы. Конкретных причин здесь может быть много, но чаще всего – это столкновение интересов разных экономических и политических лоббистов, проталкивающих свои «подопечные» проекты или решения. В западной литературе есть даже специальный термин «политически ангажированная экспертиза» (politically-engaged expertize). Естественно, что при наличии такой экспертизы производится «зачистка» корпуса независимых экспертов. Поэтому во избежание заказных оценок и экспертиз, особенно при разработке глобальных междисциплинарных проектов, их организаторы обычно предпочитают организовывать «перекрестные» взаимодействия авторов и экспертов на больших слушаниях или конференциях [Yanitsky, 1984]. К сожалению, заказной характер экспертизы сегодня стал уже частью производственной и научной работы.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

