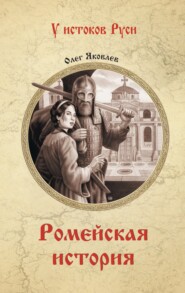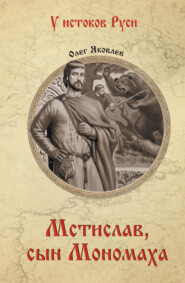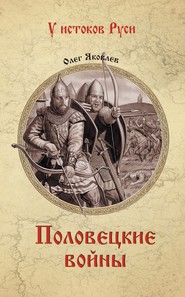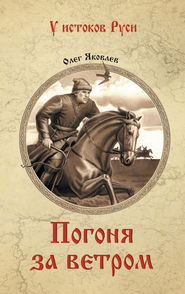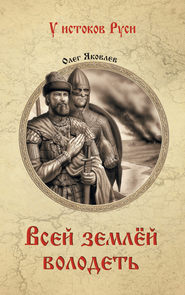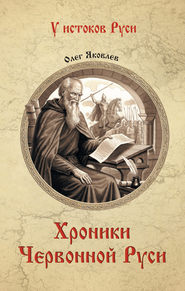По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Во дни усобиц
Автор
Серия
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нет, списатель, – грустно улыбнулась Роксана. – Путь мой в монастырь лежит. Княжна Янка в Царьград поплыла, толковала с митрополитом. Воротиться должна вот. И будет у нас на Руси своя обитель женская.
– Но ты молода, красна собою. Зачем губить свою красу за монастырской стеной?! – вскричал, снова вскочив на ноги, Авраамка.
Будто только сейчас заметил он красные жилки у неё на белках, увидел желтизну кожи, крохотные точечки угрей на тонком иконописном носу, морщины, седую прядь выбившихся из-под повойника шелковистых волос.
– Ты больна? Тебе нужен покой? – озабоченно спросил он.
– Нет, я болела, но Бог помог мне. Не отговаривай. Твёрдо умыслила я уйти от мира. В келье спокойней будет век свой доживать.
Сам не зная как, Авраамка порывисто обхватил Роксану за тонкий стан.
– Пусти! – Роксана попыталась вырваться. – Грех творишь, Авраамка!
– Хоть напоследок, на прощанье, дай расцелую тебя, лада!
Сладостный жаркий поцелуй ожёг уста женщины, она с приглушённым смешком ответила тем же. В эти мгновения Роксана вдруг поняла: есть в мире иная любовь, не такая, как была у них с Глебом – приземлённая, простая, без затей и красивых слов, немного даже грязная, полная пламенных страстей, но лишённая высокого полёта. Любовь гречина была совсем какая-то другая – ясная, чистая, как росинка.
– Не верила, а ныне вижу: правду баил ты. Велика любовь твоя, безудержна и безгрешна она! – изумлённо, с нежностью и лаской в голосе промолвила вдовая княгиня.
Да, Авраамка любил её, любил сильно, как не любил никто другой и не полюбит уже никогда. И разве вина его в том, что обстоятельства, судьба оказались выше их обоих? Что же, не выпало им счастье, но они пронесут в своих сердцах до скончания лет это чистое и светлое чувство, и этот поцелуй, его пламя будет согревать их в тяжкие часы.
– Куда ж ты топерича? – шёпотом спросила Роксана.
– В угры, в Эстергом. Софья Изяславна, королева вдовая, звала вот. Латынь я знаю, буду церковные книги списывать, переводить для королевичей. Может, ещё на что сгожусь.
– Ну, тогда прощай. Не свидимся, верно, боле. Вот тебе от меня. Помни, носи у сердца.
Она вынула из резной деревянной шкатулки маленькую камею[117 - Камея – резной камень с выпуклым изображением.] на серебряной цепочке. Сардониксовый[118 - Сардоникс – минерал, разновидность оникса, другое название – ленточный агат.] орёл простирал над морской пучиной широкие крыла.
– Да хранит тя Господь, Авраамка, – со вздохом вымолвила Роксана, повесив камею ему на шею.
Они долго стояли друг против друга на крыльце, не в силах отвести взоры. В глазах у обоих стояли чистые прозрачные слёзы.
Наконец Авраамка решительно поворотился, опрометью сбежал с крыльца и выскочил за ограду. Закрывая глаза руками, мчался он по пыльной улочке знакомым путём, горестно вздыхая. Навсегда угасла, истлела в душе где-то ещё теплившаяся доселе надежда на любовь и земное счастье. Только маленькая камея из сардоникса согревала его своим теплом, он чувствовал на своей шее любимые пальцы, ощущал прикосновение трепетных уст, видел как наяву потускневшее от горестей, но по-прежнему прекрасное лицо.
…Утром соловый иноходец унёс Авраамку в неведомую даль, за широкие поля, туда, где заходило каждый вечер солнце и пламенела багряная заря.
Уходил, истаивал в густом тумане одинокий всадник. А в высокой башне кирпичного дома тихо вздыхала, взглядывая вдаль, одинокая молодая женщина в чёрном вдовьем повойнике.
Глава 20. Свеи под Ладогой
Солнце стояло в зените над Святой Софией, золочёный главный купол собора, видный на многие вёрсты, слепил глаза. Обширные неохватные поля открывались за городом, ни пригорка никакого не было вокруг – только островки леса, да болота, да снова поля и поля до самого окоёма. Лишь у берега Волхова нестройной цепочкой шли пологие пригорки и холмики, то исчезали они, терялись посреди равнины, то возникали вновь. Ближе к Ильменю берег становился круче, и здесь, на самом высоком месте, располагалось обнесённое тыном Городище. Дома дружинников долгой чередой спускались к вымолу; наверху, за изгородью стояли бретьяницы[119 - Бретьяница – кладовая.], оружейни, кузницы. И загородный терем княжой со въездными воротами, крутым крыльцом и гульбищем, немного простоватый, без украс и разноцветья, мрачной громадой раскинулся над Городищем, как хищный орёл, разбросавший крылья.
…В хоромах с утра царила суматоха, комонные[120 - Комонный – конный.] гонцы сновали по пыльной дороге так часто, что дружинники-англы и ворота не успевали иной раз закрыть.
Душно в княжеских палатах. Посадник Яровит, уже с раннего утра бывший у князя, вытирает с чела пот, хмурит смоляные брови, исподлобья глядит на шагающего в волнении из угла в угол Святополка.
Гонец-ладожанин, сжимая в руках шапку, сбивчиво рассказывал:
– Свеи… В озеро Невское[121 - Озеро Невское (озеро Нево) – Ладожское озеро.] вошли… Сёла мечу и огню предали… Кораблей у их с полсотни. С рассветом на пристань двинули… Ну, мы посад выжгли, в крепости затворились, отбили их покудова.
Святополк резко повернулся и застыл у окна, оцепенело стиснув пальцы.
– Что делать будем, боярин? – спросил, глядя на Яровита, и со вздохом добавил: – Покоя нет грешным! То встань, то чудины, то свеи теперича!
– Да, видно, крепкая брань нас ждёт, – раздумчиво промолвил Яровит. – Вот что, князь. Ты вели Магнусу дружину готовить. Всех, кого можно собрать, чтоб собрал. А мы с тобою – в город, на вече.
– Вече?! – удивлённо пожал плечами Святополк. – До него ли сейчас?
Яровит невольно улыбнулся.
– Привыкай, князь. Новгород – не Киев, не Волынь. Порядки тут не те. Читал ведь леготные грамоты. Без веча никакого дела не делается.
…Внизу гудела многолюдная толпа. Стоя на степени, Святополк сжимал бледные уста. И страшно было, и горько, и гнев накатывал. Что он, в конце концов, мальчишка какой-то – торчит тут перед чернью и перед боярами, выслушивает их речи, их упрёки, терпит их наглость?!
– Поцто, княже, не посторожил свеев?!
– Поцто дружину малую в Ладоге держишь?!
– С этакою силищею не совладать ладожанам?! – неслось со всех сторон.
Только и видел Святополк разверстые рты и всклокоченные бороды. Шум, гам, драки уже кое-где вспыхивали.
Выручил – в который раз – посадник Яровит. Встал рядом с князем, поднял вверх десницу, промолвил веско:
– Не время спорить нам, мужи новгородские! Ворог стоит под Ладогой в великой силе. Дружина княжеская уже готова. Если не поможете вы ладожанам и дружине – быть беде! Потому всякий, кто оружие в руках держать способен, пусть меч берёт, добрую кольчугу, копьё, щит. И ступает на ладьи под начало тысяцкого и сотских. Только всем миром, купно одолеем мы свеев!
Посадника, по всему видно было, в Новгороде уважали. Тотчас прошёл по толпе одобрительный гул. Споры и упрёки как-то вмиг, разом оборвались. Люди плотными рядами двинулись в сторону вымолов.
На дальнем краю площади, возле Ярославова дворища, молодая жёнка с задумчивым бледным лицом, в цветастом платье и в парчовом убрусе на голове, долго стояла у ограды. Она видела, как Яровит сошёл со степени, сказал что-то князю, сел на коня и рысью помчал к мосту. Была в посаднике какая-то завораживающая сила, словно был он неким волшбитом-чародеем, в словах его, в каждом движении сквозила убедительная спокойная мудрость.
Своего состояния Милана-Гликерия понять не могла. Вот хотела ведь намедни, упрятавшись, пустить в него стрелу – за Ратшу, за вдовство своё постылое! А теперь сомнения тяжкие обуревают Миланину душу, всё спрашивает она себя – верно ли умыслила?! Так и стояла, задумавшись, не зная, как быть, покуда не окликнул её знакомый купец:
– Гликерья! Що стоишь тута! Айда к вымолу!
И вот она уже примеряет крепкую дощатую бронь, надевает на голову островерхий шишак с кольчатою бармицею, вот восходит на качающуюся на воде ладью, и уже несёт её быстроходная птица-ладья, разрезая волны, вниз по мутному Волхову, и свежий вечерний ветерок перехватывает дыхание. Вокруг неё – воины-ополченцы, они посматривают на неё, кто с восхищением, кто с насмешкой, а она, сама не зная почему, всё выискивает глазами на соседних ладьях статную фигуру Яровита.
…Во вторую ночь конная дружина Святополка ударила на свейский лагерь под Ладогой. Бились при свете факелов, было плохо видно, холодный сабельный звон и суматошные крики застигнутых врасплох свеев раздирали гулкий ночной воздух. Рубились яро, в диком исступлении. Святополк, прежде чем под ним убили коня, успел съездить кого-то саблей по шелому, наотмашь, со всей силы. Раненный в плечо, он кубарем скатился вниз по склону холма, в густые заросли. Весь перепачканный грязью, обжигая ладони крапивой, князь тяжело поднялся и перехватил саблю в левую руку. На него налетел какой-то свейский кнехт[122 - Кнехт – пехотинец.], они стиснули друг друга в смертельных объятиях и, чертыхаясь от жалящей боли, повалились обратно в крапиву. Кнехт ухватил Святополка за горло, князь, вырываясь, ударил его коленом в грудь; кнехт вскрикнул, отпрянул, и Святополк, вскочив на ноги, метнулся посторонь.
Рассвет он встретил в поросшей густым кустарником балке неподалёку от берега озера. Над водой подымались столбы пожарищ – горели длинные свейские драккары.
Изодрав в кровь лицо, Святополк взобрался на холм. Тотчас к нему подлетел обрадованный комонный туровец-дружинник.
– Княже, с ног сбились, искали тя повсюду! Поранен?
– Да вот плечо разнылось. – Святополк устало сел на подведённого гриднем свежего коня.
Побили наши свеев. Сорок три ладьи потопили! – рассказывал с восторгом туровец. – Едва с десяток целыми ушли.
– Но ты молода, красна собою. Зачем губить свою красу за монастырской стеной?! – вскричал, снова вскочив на ноги, Авраамка.
Будто только сейчас заметил он красные жилки у неё на белках, увидел желтизну кожи, крохотные точечки угрей на тонком иконописном носу, морщины, седую прядь выбившихся из-под повойника шелковистых волос.
– Ты больна? Тебе нужен покой? – озабоченно спросил он.
– Нет, я болела, но Бог помог мне. Не отговаривай. Твёрдо умыслила я уйти от мира. В келье спокойней будет век свой доживать.
Сам не зная как, Авраамка порывисто обхватил Роксану за тонкий стан.
– Пусти! – Роксана попыталась вырваться. – Грех творишь, Авраамка!
– Хоть напоследок, на прощанье, дай расцелую тебя, лада!
Сладостный жаркий поцелуй ожёг уста женщины, она с приглушённым смешком ответила тем же. В эти мгновения Роксана вдруг поняла: есть в мире иная любовь, не такая, как была у них с Глебом – приземлённая, простая, без затей и красивых слов, немного даже грязная, полная пламенных страстей, но лишённая высокого полёта. Любовь гречина была совсем какая-то другая – ясная, чистая, как росинка.
– Не верила, а ныне вижу: правду баил ты. Велика любовь твоя, безудержна и безгрешна она! – изумлённо, с нежностью и лаской в голосе промолвила вдовая княгиня.
Да, Авраамка любил её, любил сильно, как не любил никто другой и не полюбит уже никогда. И разве вина его в том, что обстоятельства, судьба оказались выше их обоих? Что же, не выпало им счастье, но они пронесут в своих сердцах до скончания лет это чистое и светлое чувство, и этот поцелуй, его пламя будет согревать их в тяжкие часы.
– Куда ж ты топерича? – шёпотом спросила Роксана.
– В угры, в Эстергом. Софья Изяславна, королева вдовая, звала вот. Латынь я знаю, буду церковные книги списывать, переводить для королевичей. Может, ещё на что сгожусь.
– Ну, тогда прощай. Не свидимся, верно, боле. Вот тебе от меня. Помни, носи у сердца.
Она вынула из резной деревянной шкатулки маленькую камею[117 - Камея – резной камень с выпуклым изображением.] на серебряной цепочке. Сардониксовый[118 - Сардоникс – минерал, разновидность оникса, другое название – ленточный агат.] орёл простирал над морской пучиной широкие крыла.
– Да хранит тя Господь, Авраамка, – со вздохом вымолвила Роксана, повесив камею ему на шею.
Они долго стояли друг против друга на крыльце, не в силах отвести взоры. В глазах у обоих стояли чистые прозрачные слёзы.
Наконец Авраамка решительно поворотился, опрометью сбежал с крыльца и выскочил за ограду. Закрывая глаза руками, мчался он по пыльной улочке знакомым путём, горестно вздыхая. Навсегда угасла, истлела в душе где-то ещё теплившаяся доселе надежда на любовь и земное счастье. Только маленькая камея из сардоникса согревала его своим теплом, он чувствовал на своей шее любимые пальцы, ощущал прикосновение трепетных уст, видел как наяву потускневшее от горестей, но по-прежнему прекрасное лицо.
…Утром соловый иноходец унёс Авраамку в неведомую даль, за широкие поля, туда, где заходило каждый вечер солнце и пламенела багряная заря.
Уходил, истаивал в густом тумане одинокий всадник. А в высокой башне кирпичного дома тихо вздыхала, взглядывая вдаль, одинокая молодая женщина в чёрном вдовьем повойнике.
Глава 20. Свеи под Ладогой
Солнце стояло в зените над Святой Софией, золочёный главный купол собора, видный на многие вёрсты, слепил глаза. Обширные неохватные поля открывались за городом, ни пригорка никакого не было вокруг – только островки леса, да болота, да снова поля и поля до самого окоёма. Лишь у берега Волхова нестройной цепочкой шли пологие пригорки и холмики, то исчезали они, терялись посреди равнины, то возникали вновь. Ближе к Ильменю берег становился круче, и здесь, на самом высоком месте, располагалось обнесённое тыном Городище. Дома дружинников долгой чередой спускались к вымолу; наверху, за изгородью стояли бретьяницы[119 - Бретьяница – кладовая.], оружейни, кузницы. И загородный терем княжой со въездными воротами, крутым крыльцом и гульбищем, немного простоватый, без украс и разноцветья, мрачной громадой раскинулся над Городищем, как хищный орёл, разбросавший крылья.
…В хоромах с утра царила суматоха, комонные[120 - Комонный – конный.] гонцы сновали по пыльной дороге так часто, что дружинники-англы и ворота не успевали иной раз закрыть.
Душно в княжеских палатах. Посадник Яровит, уже с раннего утра бывший у князя, вытирает с чела пот, хмурит смоляные брови, исподлобья глядит на шагающего в волнении из угла в угол Святополка.
Гонец-ладожанин, сжимая в руках шапку, сбивчиво рассказывал:
– Свеи… В озеро Невское[121 - Озеро Невское (озеро Нево) – Ладожское озеро.] вошли… Сёла мечу и огню предали… Кораблей у их с полсотни. С рассветом на пристань двинули… Ну, мы посад выжгли, в крепости затворились, отбили их покудова.
Святополк резко повернулся и застыл у окна, оцепенело стиснув пальцы.
– Что делать будем, боярин? – спросил, глядя на Яровита, и со вздохом добавил: – Покоя нет грешным! То встань, то чудины, то свеи теперича!
– Да, видно, крепкая брань нас ждёт, – раздумчиво промолвил Яровит. – Вот что, князь. Ты вели Магнусу дружину готовить. Всех, кого можно собрать, чтоб собрал. А мы с тобою – в город, на вече.
– Вече?! – удивлённо пожал плечами Святополк. – До него ли сейчас?
Яровит невольно улыбнулся.
– Привыкай, князь. Новгород – не Киев, не Волынь. Порядки тут не те. Читал ведь леготные грамоты. Без веча никакого дела не делается.
…Внизу гудела многолюдная толпа. Стоя на степени, Святополк сжимал бледные уста. И страшно было, и горько, и гнев накатывал. Что он, в конце концов, мальчишка какой-то – торчит тут перед чернью и перед боярами, выслушивает их речи, их упрёки, терпит их наглость?!
– Поцто, княже, не посторожил свеев?!
– Поцто дружину малую в Ладоге держишь?!
– С этакою силищею не совладать ладожанам?! – неслось со всех сторон.
Только и видел Святополк разверстые рты и всклокоченные бороды. Шум, гам, драки уже кое-где вспыхивали.
Выручил – в который раз – посадник Яровит. Встал рядом с князем, поднял вверх десницу, промолвил веско:
– Не время спорить нам, мужи новгородские! Ворог стоит под Ладогой в великой силе. Дружина княжеская уже готова. Если не поможете вы ладожанам и дружине – быть беде! Потому всякий, кто оружие в руках держать способен, пусть меч берёт, добрую кольчугу, копьё, щит. И ступает на ладьи под начало тысяцкого и сотских. Только всем миром, купно одолеем мы свеев!
Посадника, по всему видно было, в Новгороде уважали. Тотчас прошёл по толпе одобрительный гул. Споры и упрёки как-то вмиг, разом оборвались. Люди плотными рядами двинулись в сторону вымолов.
На дальнем краю площади, возле Ярославова дворища, молодая жёнка с задумчивым бледным лицом, в цветастом платье и в парчовом убрусе на голове, долго стояла у ограды. Она видела, как Яровит сошёл со степени, сказал что-то князю, сел на коня и рысью помчал к мосту. Была в посаднике какая-то завораживающая сила, словно был он неким волшбитом-чародеем, в словах его, в каждом движении сквозила убедительная спокойная мудрость.
Своего состояния Милана-Гликерия понять не могла. Вот хотела ведь намедни, упрятавшись, пустить в него стрелу – за Ратшу, за вдовство своё постылое! А теперь сомнения тяжкие обуревают Миланину душу, всё спрашивает она себя – верно ли умыслила?! Так и стояла, задумавшись, не зная, как быть, покуда не окликнул её знакомый купец:
– Гликерья! Що стоишь тута! Айда к вымолу!
И вот она уже примеряет крепкую дощатую бронь, надевает на голову островерхий шишак с кольчатою бармицею, вот восходит на качающуюся на воде ладью, и уже несёт её быстроходная птица-ладья, разрезая волны, вниз по мутному Волхову, и свежий вечерний ветерок перехватывает дыхание. Вокруг неё – воины-ополченцы, они посматривают на неё, кто с восхищением, кто с насмешкой, а она, сама не зная почему, всё выискивает глазами на соседних ладьях статную фигуру Яровита.
…Во вторую ночь конная дружина Святополка ударила на свейский лагерь под Ладогой. Бились при свете факелов, было плохо видно, холодный сабельный звон и суматошные крики застигнутых врасплох свеев раздирали гулкий ночной воздух. Рубились яро, в диком исступлении. Святополк, прежде чем под ним убили коня, успел съездить кого-то саблей по шелому, наотмашь, со всей силы. Раненный в плечо, он кубарем скатился вниз по склону холма, в густые заросли. Весь перепачканный грязью, обжигая ладони крапивой, князь тяжело поднялся и перехватил саблю в левую руку. На него налетел какой-то свейский кнехт[122 - Кнехт – пехотинец.], они стиснули друг друга в смертельных объятиях и, чертыхаясь от жалящей боли, повалились обратно в крапиву. Кнехт ухватил Святополка за горло, князь, вырываясь, ударил его коленом в грудь; кнехт вскрикнул, отпрянул, и Святополк, вскочив на ноги, метнулся посторонь.
Рассвет он встретил в поросшей густым кустарником балке неподалёку от берега озера. Над водой подымались столбы пожарищ – горели длинные свейские драккары.
Изодрав в кровь лицо, Святополк взобрался на холм. Тотчас к нему подлетел обрадованный комонный туровец-дружинник.
– Княже, с ног сбились, искали тя повсюду! Поранен?
– Да вот плечо разнылось. – Святополк устало сел на подведённого гриднем свежего коня.
Побили наши свеев. Сорок три ладьи потопили! – рассказывал с восторгом туровец. – Едва с десяток целыми ушли.