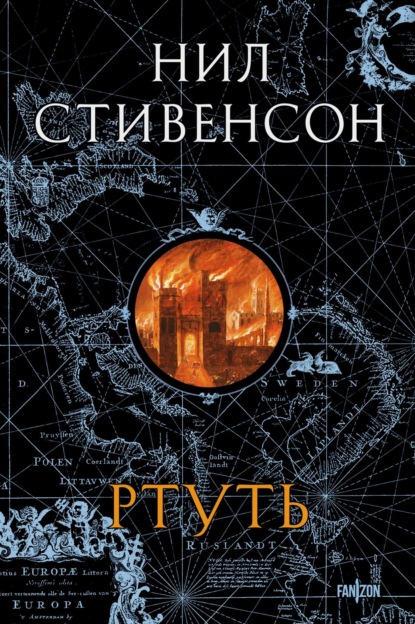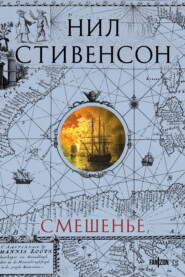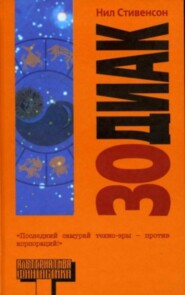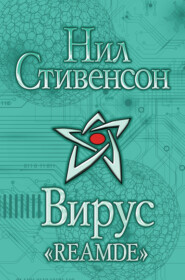По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ртуть
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Отличный вопрос, юноша, – когда речь о Моравии, ничего нельзя знать наверняка. Если бы в сорок первом Коменский послушал меня и согласился возглавить Гарвард…
– Колонисты опередили бы нас на двадцать пять лет!
– Совершенно справедливо. Вместо этого натурфилософия процветает в Оксфорде, отчасти в Кембридже, а Гарвард – убогая дыра.
– А почему он не послушал вашего совета?
– Трагедия центральноевропейских учёных в том, что они вечно пытаются применить философскую хватку к политике.
– В то время как Королевское общество?..
– Строго аполитично. – Уилкинс театрально подмигнул. – Если будем держаться подальше от политики, то уже через несколько поколений сможем запускать крылатые колесницы на Луну. Надо устранить лишь некоторые преграды на пути прогресса.
– Какие же именно?
– Латынь.
– Латынь?! Но она…
– Да, она универсальный язык учёных, богословов и прочая, и прочая. А как звучна! Скажешь на ней любую галиматью, и ваш брат университетский выученик придёт в восторг или, по крайней мере, сконфузится. Вот так римским папам и удавалось столько веков впаривать людям дурную религию – они просто говорили на латыни. Зато если перевести их замысловатые фразы на философский язык, сразу проявятся противоречия и размытость.
– М-м-м… я бы сказал даже, что на правильном философском языке, когда бы такой существовал, нельзя было бы, не преступая законов грамматики, выразить ложное утверждение.
– Вы только что сформулировали самое краткое из его определений, – весело произнёс Уилкинс. – Уж не вздумалось ли вам со мною соперничать?
– Нет, – торопливо отвечал Даниель, со страху не различивший юмора. – Я лишь рассуждал по аналогии с Декартовым анализом, в котором, при чёткой терминологии, любое ложное высказывание будет неправомерным.
– При чёткой терминологии! Вот она, загвоздка! – сказал Уилкинс. – Чтобы записать термины, я сочиняю философский язык и всеобщий алфавит – на котором образованные люди всех рас и народов будут выражать свои мысли.
– Я к вашим услугам, сэр, – промолвил Даниель. – Когда можно приступать?
– Прямо сейчас! Пока Гук не покончил с лягушками – если он придёт и застанет вас без дела, то закабалит, как чёрного невольника. Будете разгребать требуху или, что хуже, проверять его часы, стоя перед маятником и считая… колебания… с утра… до самого… вечера.
Подошёл Гук. Он был не только горбат, но и кособок. Длинные каштановые волосы висели нечёсаными прядями. Он немного выпрямился и задрал голову, так что волосы разошлись, словно занавес, явив бледный лик. Щетина подчёркивала худобу запавших щёк, отчего серые глаза казались ещё больше. Гук сказал:
– Лягушки тоже.
– Меня уже ничто не удивляет, мистер Гук.
– Я заключаю, что из них состоят все живые существа.
– А вас не посещает мысль что-нибудь из этого записать? Мистер Гук? Мистер Гук?
Однако Гук уже ушёл на конюшню, ставить какой-то новый эксперимент.
– Из чего состоят??? – спросил Даниель.
– В последнее время, всякий раз, глядя на что-либо через свой микроскоп, мистер Гук обнаруживает, что оно сложено из крохотных ячеек, как стена – из кирпичей, – сообщил Уилкинс.
– И на что же походят эти кирпичи?
– Он не зовёт их кирпичами. Не забывайте, они полые. Он решил назвать их клетками… Впрочем, в эту чепуху вам встревать незачем. Идёмте со мной, любезный Даниель. Выбросьте клетки из головы. Чтобы постичь философский язык, вы должны усвоить, что всё на Земле и на Небе можно разделить на сорок различных родов… в каждом из которых, разумеется, есть свои более мелкие категории.
Уилкинс провёл его в помещение для слуг, где стояла конторка, а книги и бумаги громоздились бессистемно, словно пчелиные соты. Уилкинс двигался так стремительно, что от поднятого им ветра по комнате запорхали листки. Даниель поймал один и прочёл:
– «Петушье просо, листовник сколопендровый, кандык, гроздовик, взморник, кукушкины слёзки, заразиха, петров крест, ложечница лекарственная, цикламен, камнеломка, заячья капуста, подмаренник, плаун вонючий, цикорий, осот, одуванчик, пастушья сумка, икотник, вербейник, вика».
Уилкинс нетерпеливо кивал:
– Коробочкообразующие травы, не колокольчатые, и ягодоносные вечнозелёные кустарники. Каким-то образом они затесались среди желуденосных и орехоносных деревьев.
– Так философский язык – своего рода ботанический…
– Гляньте на меня – я содрогаюсь! Содрогаюсь от одной мысли. Даниель, умоляю вас, сосредоточьтесь и вникните. В этом списке у нас все животные от глиста до тигра. Здесь – классификация хворей: от гнойников, чирьев, нарывов, жировиков и коросты до ипохондрической болезни, заворота кишок и удушья.
– Удушье – хворь?
– Превосходный вопрос. За дело – и разрешите его! – прогремел Уилкинс.
Даниель тем временем поднял с пола ещё листок.
– «Палка, женило, ствол…»
– Синонимы слов «срамной уд», – нетерпеливо произнёс Уилкинс.
– «Побирушка, голоштанник, христарадник…»
– Синонимы к слову «нищий». В философском языке будет лишь одно слово для срамных удов, одно слово для нищих. Быстро, Даниель, есть ли разница между тем, чтобы стонать и сетовать?
– Я бы сказал, да, но…
– С другой стороны, можно ли объединить под общим названием коленопреклонение и реверанс?
– Я… я не знаю, доктор!
– Тогда, как я говорю, за работу! Сам же я сейчас увяз в бесконечном отступлении по поводу ковчега.
– Который Завета? Или…
– Другой.
– А он здесь при чём?
– Очевидно, в философском языке должно быть по одному и только одному слову для каждого типа животных. Каждое обязано отражать классификацию; как названия жерди и бруса должны быть заметно схожи, так и наименования малиновки и дрозда. При том птичьи термины не должны походить на рыбьи.
– Замысел представляется мне… э… дерзким.
– Пол-Оксфорда шлёт мне нудные перечни. Моё – наше – дело их упорядочить, составить таблицу всех птиц и зверей в мире. В таблицу уже занесены животные, которые досаждают другим животным: блоха, вошь. Предназначенные к дальнейшим метаморфозам: гусеница, личинка. Однорогие панцирные крылатые насекомые. Скорлупчатые конусообразные бескровные твари, и (предвосхищая ваш вопрос) я разделил их на спиральнозавитых и всех прочих. Чешуйчатые речные рыбы, травоядные длиннокрылые птицы, плотоядные котообразные звери – так или иначе, когда я составил все перечни и таблицы, мне стало ясно (возвращаясь к «Книге Бытия», глава шестая, стихи пятнадцатый – двадцать второй), что Ной каким-то образом затолкал этих тварей в посудину из дерева гофер длиной триста локтей! Я испугался, что некоторые континентальные учёные, склонные к афеизму, могут злоупотребить моими словами и обратить их в доказательство того, что события, описанные в Книге Бытия, якобы не могли произойти.
– Колонисты опередили бы нас на двадцать пять лет!
– Совершенно справедливо. Вместо этого натурфилософия процветает в Оксфорде, отчасти в Кембридже, а Гарвард – убогая дыра.
– А почему он не послушал вашего совета?
– Трагедия центральноевропейских учёных в том, что они вечно пытаются применить философскую хватку к политике.
– В то время как Королевское общество?..
– Строго аполитично. – Уилкинс театрально подмигнул. – Если будем держаться подальше от политики, то уже через несколько поколений сможем запускать крылатые колесницы на Луну. Надо устранить лишь некоторые преграды на пути прогресса.
– Какие же именно?
– Латынь.
– Латынь?! Но она…
– Да, она универсальный язык учёных, богословов и прочая, и прочая. А как звучна! Скажешь на ней любую галиматью, и ваш брат университетский выученик придёт в восторг или, по крайней мере, сконфузится. Вот так римским папам и удавалось столько веков впаривать людям дурную религию – они просто говорили на латыни. Зато если перевести их замысловатые фразы на философский язык, сразу проявятся противоречия и размытость.
– М-м-м… я бы сказал даже, что на правильном философском языке, когда бы такой существовал, нельзя было бы, не преступая законов грамматики, выразить ложное утверждение.
– Вы только что сформулировали самое краткое из его определений, – весело произнёс Уилкинс. – Уж не вздумалось ли вам со мною соперничать?
– Нет, – торопливо отвечал Даниель, со страху не различивший юмора. – Я лишь рассуждал по аналогии с Декартовым анализом, в котором, при чёткой терминологии, любое ложное высказывание будет неправомерным.
– При чёткой терминологии! Вот она, загвоздка! – сказал Уилкинс. – Чтобы записать термины, я сочиняю философский язык и всеобщий алфавит – на котором образованные люди всех рас и народов будут выражать свои мысли.
– Я к вашим услугам, сэр, – промолвил Даниель. – Когда можно приступать?
– Прямо сейчас! Пока Гук не покончил с лягушками – если он придёт и застанет вас без дела, то закабалит, как чёрного невольника. Будете разгребать требуху или, что хуже, проверять его часы, стоя перед маятником и считая… колебания… с утра… до самого… вечера.
Подошёл Гук. Он был не только горбат, но и кособок. Длинные каштановые волосы висели нечёсаными прядями. Он немного выпрямился и задрал голову, так что волосы разошлись, словно занавес, явив бледный лик. Щетина подчёркивала худобу запавших щёк, отчего серые глаза казались ещё больше. Гук сказал:
– Лягушки тоже.
– Меня уже ничто не удивляет, мистер Гук.
– Я заключаю, что из них состоят все живые существа.
– А вас не посещает мысль что-нибудь из этого записать? Мистер Гук? Мистер Гук?
Однако Гук уже ушёл на конюшню, ставить какой-то новый эксперимент.
– Из чего состоят??? – спросил Даниель.
– В последнее время, всякий раз, глядя на что-либо через свой микроскоп, мистер Гук обнаруживает, что оно сложено из крохотных ячеек, как стена – из кирпичей, – сообщил Уилкинс.
– И на что же походят эти кирпичи?
– Он не зовёт их кирпичами. Не забывайте, они полые. Он решил назвать их клетками… Впрочем, в эту чепуху вам встревать незачем. Идёмте со мной, любезный Даниель. Выбросьте клетки из головы. Чтобы постичь философский язык, вы должны усвоить, что всё на Земле и на Небе можно разделить на сорок различных родов… в каждом из которых, разумеется, есть свои более мелкие категории.
Уилкинс провёл его в помещение для слуг, где стояла конторка, а книги и бумаги громоздились бессистемно, словно пчелиные соты. Уилкинс двигался так стремительно, что от поднятого им ветра по комнате запорхали листки. Даниель поймал один и прочёл:
– «Петушье просо, листовник сколопендровый, кандык, гроздовик, взморник, кукушкины слёзки, заразиха, петров крест, ложечница лекарственная, цикламен, камнеломка, заячья капуста, подмаренник, плаун вонючий, цикорий, осот, одуванчик, пастушья сумка, икотник, вербейник, вика».
Уилкинс нетерпеливо кивал:
– Коробочкообразующие травы, не колокольчатые, и ягодоносные вечнозелёные кустарники. Каким-то образом они затесались среди желуденосных и орехоносных деревьев.
– Так философский язык – своего рода ботанический…
– Гляньте на меня – я содрогаюсь! Содрогаюсь от одной мысли. Даниель, умоляю вас, сосредоточьтесь и вникните. В этом списке у нас все животные от глиста до тигра. Здесь – классификация хворей: от гнойников, чирьев, нарывов, жировиков и коросты до ипохондрической болезни, заворота кишок и удушья.
– Удушье – хворь?
– Превосходный вопрос. За дело – и разрешите его! – прогремел Уилкинс.
Даниель тем временем поднял с пола ещё листок.
– «Палка, женило, ствол…»
– Синонимы слов «срамной уд», – нетерпеливо произнёс Уилкинс.
– «Побирушка, голоштанник, христарадник…»
– Синонимы к слову «нищий». В философском языке будет лишь одно слово для срамных удов, одно слово для нищих. Быстро, Даниель, есть ли разница между тем, чтобы стонать и сетовать?
– Я бы сказал, да, но…
– С другой стороны, можно ли объединить под общим названием коленопреклонение и реверанс?
– Я… я не знаю, доктор!
– Тогда, как я говорю, за работу! Сам же я сейчас увяз в бесконечном отступлении по поводу ковчега.
– Который Завета? Или…
– Другой.
– А он здесь при чём?
– Очевидно, в философском языке должно быть по одному и только одному слову для каждого типа животных. Каждое обязано отражать классификацию; как названия жерди и бруса должны быть заметно схожи, так и наименования малиновки и дрозда. При том птичьи термины не должны походить на рыбьи.
– Замысел представляется мне… э… дерзким.
– Пол-Оксфорда шлёт мне нудные перечни. Моё – наше – дело их упорядочить, составить таблицу всех птиц и зверей в мире. В таблицу уже занесены животные, которые досаждают другим животным: блоха, вошь. Предназначенные к дальнейшим метаморфозам: гусеница, личинка. Однорогие панцирные крылатые насекомые. Скорлупчатые конусообразные бескровные твари, и (предвосхищая ваш вопрос) я разделил их на спиральнозавитых и всех прочих. Чешуйчатые речные рыбы, травоядные длиннокрылые птицы, плотоядные котообразные звери – так или иначе, когда я составил все перечни и таблицы, мне стало ясно (возвращаясь к «Книге Бытия», глава шестая, стихи пятнадцатый – двадцать второй), что Ной каким-то образом затолкал этих тварей в посудину из дерева гофер длиной триста локтей! Я испугался, что некоторые континентальные учёные, склонные к афеизму, могут злоупотребить моими словами и обратить их в доказательство того, что события, описанные в Книге Бытия, якобы не могли произойти.