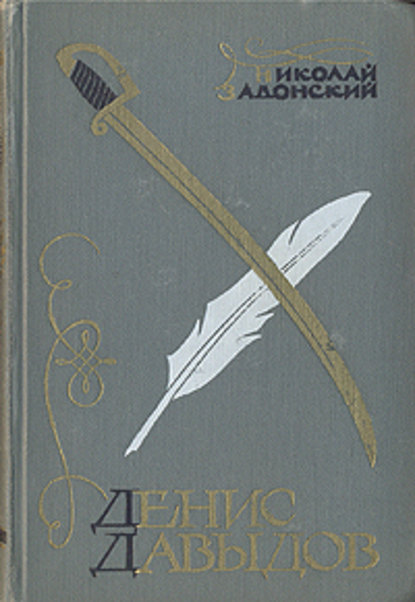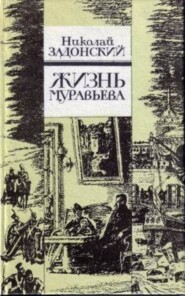По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Денис Давыдов (Историческая хроника)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И теперь, бродя по двору с вечной сигарой в зубах и деланной улыбкой на лице, он был в неважном настроении.
– Вы, кажется, чего-то ожидаете здесь, сэр? – вежливо с ним. поздоровавшись, осведомился Денис.
– Вы угадали, любезный друг, – ответил Вильсон, беря Дениса под руку и отводя в сторону. – Жду известия о решительном направлении армии после того несчастья, которое я давно предвидел и которое не может не терзать каждое истинно английское и русское сердце…
– Извините, сэр, – понимая, что дело идет о березинской переправе, сказал Денис, – я слышал, будто вина за это падает на адмирала Чичагова…
– Ах, милый друг! Я не имею ни малейших оснований обвинять адмирала, он делал то, что ему было приказано, – отозвался Вильсон. – Но если б светлейший не был так упрям и прислушивался к моим увещаниям и разумным советам других лиц, Бонапарт был бы теперь вне всякой сферы зловредного влияния на сем свете…
Денису эта самоуверенная фраза показалась оскорбительной. Не зная еще всех подробностей дела, он твердо был убежден, что Кутузов сделал все от него зависящее, чтобы помешать переправе Наполеона. Даже если бы все было и иначе, какое право имеет этот надменный англичанин вечно совать нос куда не надо и критиковать действия главнокомандующего русских войск? Денису сразу припомнился происшедший пять лет назад разговор между Раевским и этим сэром. «Мало тебе одного урока, – мелькнула мысль, – хорошо же, получишь сейчас другой».
– Как! – отступая шаг назад, воскликнул он. – Вы считаете, что фельдмаршал, коего наш народ и войско называют спасителем отечества, обязан слушать какие-то советы каких-то лиц?
– Позвольте, любезный друг, возразить вам, что разумные советы…
– Советы Кутузову! – чувствуя, как гнев еще более распаляет его, перебил Денис. – Да знаете ли вы, кто такой Кутузов? Если б вы, прежде чем в чем бы то ни было упрекать фельдмаршала, взяли на себя труд раскрыть книгу жизни этого полководца, то увидели бы, что, служба его отечеству продолжается непрерывно свыше пятидесяти лет; что две пули, прошедшие в разные времена сквозь могучую голову полководца, нимало не ослабили высоких его умственных способностей; что он, независимо от многих блистательных подвигов, совершенных им, командовал крайней колонною левого фланга в Измаильском приступе, заслужив известный отзыв Суворова: «Кутузов был на моем левом крыле, но был моей правой рукою». Знаете ли вы, – запальчиво продолжал Денис, – что этот самый Кутузов, истребив на Дунае турецкую армию, вооружением коей занимались не только французы, но и англичане, заключил славный мир, столь способствующий ныне изгнанию от нас всей ополченной Европы с ее доселе непобедимым полководцем…
– А вы почему так горячитесь, полковник? – сердито и беспокойно оглядываясь по сторонам, сказал Вильсон. – Разве я оспариваю достоинства фельдмаршала?
– Вы не смогли бы этого сделать при всем желании, сэр, – продолжал Денис, – ибо Кутузов сохранил во всем блеске честь русского оружия, тогда как честь оружия союзников наших сокрушалась о гранитные колонны, предводительствуемые Наполеоном, а их армии были рассеяны! Простите, сэр, мою солдатскую откровенность. Но я потерял бы уважение к себе, если б не сделал этих замечаний о полководце, глубокими соображениями которого спасено мое отечество и чье имя для нас, русских, драгоценно и священно…[37 - Блестящая оценка деятельности М.И.Кутузова, данная Давыдовым, заимствована из его письма к Вальтеру Скотту.]
С этими словами, не дожидаясь ответа, Денис отвесил поклон недоумевающему англичанину и направился к дверям избы.
… Кутузов, как и прошлый раз, принял его словно сына. Усадил рядом с собой, подробно расспросил о делах при Копысе и Белыничах. При этом не удержался от шутки, вспомнив о ранее слышанной истории с мнимым мэром Поповым:
– Как у тебя духа стало пугать его? У него такая хорошенькая жена!
Осмелев от ласкового обращения фельдмаршала, Денис высказался откровенно:
– Полагаю, у могилевского архиерея еще более жен, которые, может быть, красивее жены Попова, но я желал бы, чтоб сия неоценимая особа попалась мне в руки, я бы с нею рассчитался по-приятельски…
– За что же ты так на пастыря духовного рассердился? – спросил Кутузов.
– За присягу французам, к коей он приводил могилевских жителей, и за поминание в церквах Наполеона…
– Да что ты? – удивился, покачав головой, Кутузов. – Прямо и верить не хочется… Экая ведь пакость!
– Чтоб в этом удостовериться, – продолжал Денис, – прикажите нарядить следствие. Ваша светлость, не награждайте почестями истинных сынов России, ибо какая награда может сравниться со спокойной совестью после исполнения своего долга, но щадить изменников столь же опасно и вредно, как истреблять карантины в чумное время.
И Денис тут же передал фельдмаршалу список могилевских дворян и чиновников, присягавших и помогавших неприятелю. Прочитав его, Кутузов тяжело вздохнул:
– Видно, верно в пословице говорится, что в одно перо и птица не родится… Согласен с тобой, голубчик, щадить негодяев сих нельзя, да придется обождать до поры до времени. Пока неприятеля не изгнали, не стоит оглаской этой народ смущать. А списочек твой я сам поберегу, со всеми, даст бог, рассчитаемся…[38 - Впоследствии архиепископ Варлаам Шишацкий за присягу Наполеону был расстрижен в монахи. Понесли наказание и остальные могилевские чиновники-изменники.]
Денис пробыл на этот раз в главной квартире недолго. Получив от Коновницына более верные сведения о переправе на Березине и повеление следовать с отрядом в Ковно, чтобы истребить там все неприятельские запасы, Денис спустя два-три часа после беседы с фельдмаршалом уже находился в дороге, догонял свою партию.
Но до Ковно, как ни спешили туда партизаны, дойти не удалось. 30 ноября, когда отряд, несколько обойдя город Вильно, занятый два дня назад русскими войсками, пришел в Новые Троки, Денис получил предписание снова явиться в главную квартиру к Кутузову, остановившемуся в виленском замке.
«От Новых Трок до села Понари мы следовали весьма покойно, – записал впоследствии в своем дневнике Денис. – У последнего селения, там, где дорога разделяется на две, идущие одна на Новые Троки, другая на Ковно, груды трупов, человеческих и лошадиных, множество повозок, лафетов и палубов едва давали мне возможность следовать по этому пути; множество раненых неприятелей валялось на снегу или, спрятавшись в повозках, ожидало смерти от холода и голода… Сердце мое разрывалось от стонов, воплей разнородных страдальцев. То был страшный гимн избавления моей родины!
1 декабря явился я к светлейшему. Как главная квартира изменилась! Вместо разоренной деревушки и курной избы, окруженной караульными, выходившими и входившими в нее должностными людьми и проходившими мимо войсками, вместо тесной горницы, куда прямо входили из сеней и где видели мы светлейшего на складных креслах, рассматривавшего планы во время борьбы своей с гением величайшего завоевателя, я увидел улицу и двор, уставленные великолепными каретами, колясками и санями. Толпы подобострастных польских вельмож в русских мундирах, множество наших и неприятельских пленных генералов, штаб– и обер-офицеров, из которых многие с костылями, изувеченные, другие же бодрые и веселые, – всё, теснясь, стремилось к крыльцу, в переднюю и в залы человека, за два года перед этим в этом же городе заведовавшего лишь одним гарнизонным полком, несколькими гражданскими чиновниками, а ныне предводительствующего всеми русскими силами и спасителя своего отечества! Когда я вошел, одежда моя обратила на меня всеобщее внимание. Среди облитых золотом генералов, красиво одетых офицеров и литовских граждан я явился в черном чекмене, красных шароварах, с круглой курчавой бородой и черкесской шапкой. Поляки шепотом расспрашивали обо мне; некоторые из них отвечали: «Партизан Давыдов»; самолюбие мое было живо затронуто, когда я услыхал несколько прилагательных, обративших внимание этой толпы. Через две минуты я был позван в кабинет светлейшего, который сказал мне, что граф Ожаровский идет на Лиду, австрийцы прикрывают Гродно и что он весьма доволен мирным поведением Ожаровского относительно их; желая совершенно изгнать неприятеля из пределов России, он посылает меня прямо в Гродно для занятия этого города и очищения окрестностей его от неприятеля; он при этом приказал действовать более дружелюбными переговорами, чем оружием».
XVIII
Никогда еще неприязнь императора Александра к Кутузову не достигала, кажется, такой степени, как морозным вечером 11 декабря, когда он, сидя в санях с Аракчеевым и Волконским, приближался к Вильно.
Вся эта война, ныне победоносно завершаемая, доставила ему, императору, столько унижений и оскорблений, что он, лишь пересиливая себя, мог с улыбкой принимать поздравления по случаю изгнания неприятеля.
Александр с детства мечтал о лаврах полководца. Аустерлиц, где впервые так ярко обнаружилась его бездарность, несколько поколебал, но не убил стремления к военной деятельности. «Я был молод, неопытен, Кутузов должен был удержать меня от сражения», – оправдывая себя, говорил император приближенным, хотя сам отлично сознавал, что Кутузов, фактически отстраненный им от командования, никак «удержать» его не мог.
Но вот началась эта война. И все планы императора, подсказанные Пфулем, снова оказались никуда не годными. Теперь уже было трудней найти себе оправдание. Сестра Екатерина Павловна, не щадя его самолюбия, первой в откровенном письме высказала то, о чем думали многие. «Ради бога, – писала она брату, – не берите командование на себя, потому что необходимо без потери времени иметь вождя, к которому войско питало бы доверие, а в этом отношении вы не можете внушить никакого доверия». Вслед за этим близкие люди вежливо посоветовали ему покинуть армию.
Молча проглотив обиду, Александр последовал этим советам. Войска Наполеона быстро продвигались вперед, создавалось угрожающее положение. Дальнейшее вмешательство царя в военные дела могло окончиться катастрофой.
Александр уехал в Петербург и, опять-таки вопреки своему желанию, вынужден был назначить главнокомандующим Кутузова.
Разобраться в сложившихся обстоятельствах и тем более понять дальновидность кутузовских замыслов император был не в состоянии. Сидя во дворце, он всецело поддерживал сэра Роберта Вильсона и Беннигсена, требуя от фельдмаршала решительных сражений и заявляя всем, что «скорее отрастит себе бороду и уйдет в Сибирь», чем заключит мир с Наполеоном. Такая «твердость» Александра объяснялась просто. Он хорошо понимал, что дворянство, проявившее столь резкое недовольство Тильзитским миром, никогда не простило бы ему нового соглашения с Францией; он был бы убит, как его отец, на что и намекал проницательный Наполеон в беседе с Коленкуром.
Один животный страх за свою жизнь, а не твердость характера и интересы отечества, управлял действиями императора, вызывая у него ежедневные припадки раздражения против кажущейся «бездеятельности» Кутузова.
Блестящие маневры фельдмаршала, забота его о пополнении армии, попечение о солдатах, широкое применение суворовских методов, «малая война» и поощрение народного партизанского движения – все эти действия были глубоко чужды тупому приверженцу прусской военной системы, каким продолжал оставаться Александр.
Доверяя более доносам Беннигсена и Вильсона, чем рапортам главнокомандующего, он, как все бездарные люди, завистливые неудачники, замечал в действиях Кутузова лишь одни «упущения». Оставление Москвы казалось совершенно неоправданным, движение на Калужскую дорогу бессмысленным, переход Наполеона через Березину – злым умыслом фельдмаршала. Все делалось не так, как желал император!
Последнее сообщение сэра Вильсона о том, что фельдмаршал отказывается «спасать Европу», и нарочно медлит с преследованием неприятеля, окончательно вывело из себя Александра. Будь его воля, он, не колеблясь ни минуты, отстранил бы от командования непокорного и ненавистного фельдмаршала. Но воля была скована трезвыми соображениями о необычайной популярности этого человека, называемого всеми спасителем отечества. Приходилось скрывать свои чувства, на виду у всех лгать, лицемерить, писать главнокомандующему любезные письма, награждать его. И может быть, именно потому, что обстоятельства опять заставляли поступать не так, как хотелось, он испытывал с такой остротой озлобление против Кутузова теперь, подъезжая к горевшему яркими огнями виленскому замку.
Кутузов в парадном мундире и при всех регалиях, ожидавший государя в одной из комнат нижнего этажа, отлично понимал его настроение. Кутузов знал, что ничего хорошего приезд царя не обещает, но обычного своего спокойствия не терял. Ведь Бонапарт, этот величайший завоеватель, позорно бежал из России, оставив на произвол судьбы свою армию, жалкие остатки коей перебираются нынче через Неман. Россия спасена! Доверие народа и войска оправдано! Все остальное по сравнению с этим представлялось не столь важным.
Когда Коновницын доложил, что тройка государя приближается, фельдмаршал неторопливо, с привычным кряхтеньем, поднялся и, взяв в руки приготовленный рапорт, усталой походкой, словно нехотя, стал спускаться со ступенек крыльца.
– Как я рад свиданию с вами, Михаил Илларионович, – с улыбкой, приятным голосом произнес царь, выходя из саней и раскрывая объятия. – Мне так не терпелось изъявить вам лично, сколь новые заслуги, оказанные вами отечеству, усилили во мне уважение, которое я неизменно к вам питал!
Кутузов по-стариковски хлюпнул носом. Это должно было означать, как сильно он растроган. Затем молча почтительно наклонил голову. Приятные улыбки и поцелуи двуличного царя никогда его не обманывали.
Находившийся в толпе придворных сэр Роберт Вильсон, хотя и знал о лицемерии царя, увидев его необыкновенную благосклонность к фельдмаршалу, обеспокоился не на шутку. Кто знает, не сумеет ли Кутузов, пользуясь столь милостивым вниманием государя, повредить английским интересам?
Однако на следующий день, приняв английского агента, Александр поспешил его успокоить.
– Я знаю, фельдмаршал не сделал ничего, что должен был сделать, – заявил он, не скрывая своего раздражения. – Все его успехи были навязаны ему. Он разыграл некоторые из своих прежних турецких штучек, но… московское дворянство поддерживает его и настаивает на том, что он первенствует в национальной славе этой войны. Поэтому я должен через полчаса, – Александр поморщился, – дать этому человеку орден Георгия первой степени… Но у меня нет выбора, – продолжал он со злобной ноткой в голосе, – я должен подчиниться повелительной необходимости… Во всяком случае, могу вас заверить, я уже не покину вновь мою армию и потому не будет дано возможности к продолжению дурного управления фельдмаршала…[39 - Речь эту, приводимую самим Робертом Вильсоном в его «Записках», цитирую по переводу, опубликованному в книге Е.Тарле «Нашествие Наполеона на Россию».]
Сэр Роберт Вильсон смотрел на царя благодарными глазами. Английские интересы находились под надежной защитой.
… Прошло несколько дней. Кутузов оставался главнокомандующим, но та власть, которой он пользовался до сих пор, постепенно у него отбиралась. Штаб по распоряжению царя переформировывался. Наиболее важные посты получали угодные ему люди. Передвижения войск, перемещения командиров, награждения отличившихся – все стало проходить через руки императора.
Ссылаясь на недомогание, Кутузов все чаще уклонялся от свиданий с ним. Противно было слушать невежественные рассуждения и поучения, видеть, как опять заводятся в войсках старые порядки в прусском духе.
Получив рапорт Дениса Давыдова о занятии его отрядом города Гродно, фельдмаршал вызвал остававшегося еще при нем Коновницына и, передавая рапорт, сказал:
– Пойди сам к государю, голубчик, доложи ему. Гродно, слава богу, в наших руках. Молодец Давыдов, огромные провиантские склады там захватил и шестьсот шестьдесят пленных взял…[40 - В «Журнале военных действий» значится следующая, сделанная в Вильно 16 декабря запись: «Партизан полковник Давыдов рапортом от 14-го числа доносит, что при занятии города Гродно освобождено российских раненых, находившихся в плену, 14 офицеров и 467 рядовых, а солдат неприятельских взято пленных 660 человек. Сверх того, взяты весьма обширные магазины, все полные с хлебом разного рода и вином, которые и сданы им пришедшему туда с отрядом генерал-адъютанту Корфу».] Да похлопочи, чтобы без награды он оставлен не был…