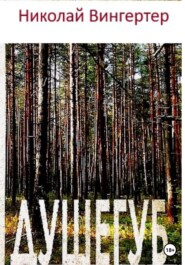По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Загадка Бернулли, или Закулисье «Спортлото»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он подошел и поздоровался:
– Вот вы где! А я вас ищу и ищу, и переживаю, и волнуюсь, вдруг вы не пришли.
Арумова вскинула на него чуть было не потухшие из-за долгого ожидания глаза и подумала: «Какой он все-таки хороший, приятный и добрый человек; но совершенно неопытный в ухаживании, не сказал, ни где должны встретится, ни во сколько». – Ей сильно нравилось так думать. Ещё думала: «Какой же он искренний и бесхитростный, непосредственный… Бедняжка, побегал немало, видимо, в ее поисках по парку, а парк-то большой. Но и я хороша, могла бы вчера сама сказать, где и когда встретиться… Что было изображать из себя наивность при складывающихся отношениях?» – Она радостно сказала, чуть солгав, потому что сидела с добрый час:
– А я только присела отдохнуть, находилась, насмотрелась всего, столько впечатлений. Как прекрасно все городской управой устроено!
– Стараемся, – улыбнулся Розенский. – Организовать такой день достаточно хлопотно и потребовало немало сил да и средств.
– Понимаю. Вам тоже пришлось потрудиться?
– Конечно! – врал охотно и Розенский. – Но ведь все для людей. Я всегда ощущаю какую-то особую прелесть в подготовке такого дня. Знаете ли, сравнил бы его, например, с суетой предновогодней.
– Какое хорошее сравнение.
– Но после хочется немного и отвлечься, как-то изменить обстановку.
– Тогда, Михаил Львович, есть предложение: если пройти еловую аллею, за ней, как знаете, начинается чудесная березовая роща. Я ее обожаю. Лучшего места в нашем городе для отдыха, чтобы отвлечься, как вы сказали, от дел и повседневной суеты, не найти. Идём?!
И они пошли рядом, но не очень близко друг к другу, как ходят еще не объяснившиеся в любви романтические влюбленные. В роще действительно было совсем мало людей, предпочитавших шелесту листьев берез шум массового гулянья, развлечения и кулинарные пристрастия, во множестве предлагаемые в разных местах парка. Держать долго паузу молчанием было нельзя, и Розенский сказал:
– У вас интересная работа! Наверное, очень нравится?
– Почему так решили? – сказала Арумова.
– Ну, во-первых, ваша работа нужна и важна, коль она активно поддерживается государством, «Спортлото» сильно рекламируется; во-вторых, есть в ней элемент загадочности, чего нет во многих других видах деятельности, а это немаловажно, потому что всегда происходит что-то новое и интересное. Разве не так? Думаю, что есть какой-то особый секрет этой игры, чего до сих пор не понял или не знаю. Знают, наверное, те, кто выигрывает по-настоящему.
– Что вы! Нет никакого секрета, есть просто везение или невезение. Если бы действительно была какая-то тайна, то разве её рано или поздно не разгадали бы люди? Но сколько умов ни билось, пытаясь раскрыть возможности выигрышей, ничего не смогли. Занимались разгадками подобных игр даже в далеком прошлом. Став директором, столкнувшись с такой пикантной темой, как игра, разумеется, я специально стала этим интересоваться, обращалась к очень знающим и осведомленным товарищам. Как мне стало известно из очень подробных экскурсов в историю игр, этим, оказывается, занимались даже выдающиеся математики, которые, как и все люди, имели слабости к тем же играм. Со слов наших методистов знаю, что ещё в XVI и XVII веках были написаны трактаты под такими названиями, как «Об азартных играх», «О расчётах в азартных играх». Авторами их были выдающиеся люди, например Гюйгенс, ученик великого Декарта, заложивший основы современной алгебры; швейцарец Бернулли тоже что-то вроде этого высказался, когда создавал теорию вероятности. Доказали они лишь одно – на всё воля случая. Впрочем, это отдельная тема, которую продолжают обсуждать и теперь. Сама я давно перестала играть и больше не хочется. Ну, а работа в «Спорлото» – это обычное рутинное дело. Каждую неделю одно и то же. Я имею в виду организацию по обработке билетов, их хранение до и после розыгрыша лотереи, который проводится в центре – в Москве.
Она говорила примерно то же, что Розенский слышал от Пивнева.
– Все ж таки это необычное предприятие, которому совсем не жаль посвятить время, – сказал Розенский.
– Может быть, – ответила Арумова. – В любом случае это работа, которую следует делать, коль она, как вы говорите, важна и нужна. Ваша работа, считаю, еще более нужна, потому что вы поддерживаете таланты, кого-то только начинающего в спорте, кого-то за уже достигнутые успехи в спорте. Мне очень приятно видеть молодых и здоровых людей, увлекающихся спортом и физкультурой. Ведь они будущее наше.
– Это да! – пафосно воскликнул Розенский. В нем взыграла почти ребячья шаловливость. – Я по должности обязан быть примером молодежи, доказывать и показывать, что не просто чиновник с инструкциями, планами работы и проверками, а вполне себе соответствую тому, что называется «здоровый дух в здоровом теле», – переиначил он известную поговорку.
Он вдруг сошёл с дорожки к дереву, подпрыгнул, ухватившись обеими руками за низко повисший сук, и стал уверенно подтягиваться, демонстрируя неплохую физическую форму. Подтянулся не менее двадцати раз, порозовел в результате этой мальчишеской, но какой-то трогательно-притягательной, выходки.
– Браво! – теперь настал черед восклицать Арумовой, которая рядом с ним вдруг почувствовала себя словно на десяток лет моложе. – Право, не ожидала, но восхищена увиденным. Впечатляет!
Между ними как-то само собой, то ли от их же ожидания и сильного желания отбросить остававшееся официальное обращение друг к другу, то ли от легкомысленной, но искренней выходки Розенского, сразу установились простые отношения.
– Мне стало даже жарковато, – сказал Розенский, сунул было интуитивно руку в карман, чтобы достать платочек и отереть с лица пот, но, не обнаружив его, поморщился.
Заметив его замешательство, Арумова в порыве заботливости протянула ему аккуратно сложенный платочек.
– Возьми мой, – сказала она, обратившись на ты. – У меня всегда есть запасной, свежий! – Быстро спохватилась: – Извините, Михаил Львович. Что это я?..
– На ты? Так это же здорово! – сказал Розенский. – Спасибо за платочек. Не сибарит я, да и устал от каждодневного официоза. Хорошо бы перейти на ты, даже если оговорилась случайно.
– Случайно ничего не бывает.
– И я о том же. Пошли лучше съедим по мороженому, есть здесь поблизости кафе.
Сказав это, Розенский глубоко вздохнул, удивившись себе самому, как у него всё складно произошло и с подтягиванием, и с кафе-мороженым, по ценам которого он должен гораздо лучше уложиться со своим бюджетом в восемнадцать рублей.
И скоро они сидели в уютных креслах друг против друга под резными широкими листьями комнатной лианы, утопавшей толстым одеревеневшим стволом в деревянной кадушке. У них на столике был пломбир с засахаренными ягодами клубники, чайник, кувшинчик с горячими сливками и любимые им заварные пирожные, на которых он, выбирая из меню, не заметив ее ироничную улыбку, настоял.
– Да ты, оказывается, сладкоежка, – сказала она.
– Что поделаешь! – вздохнул Розенский, разливая чай. – Водится такой грешок.
– Учту на будущее, – сказала Арумова, осторожно принимая от него чашку горячего напитка.
Но в её словах слышалось несравненно большее и многообещающее в начавшихся между ними отношениях; выдавали её и глаза – в них тоже рождалось нечто большее, чем простое любопытство, с которым она ранее смотрела на Розенского.
И для Розенского была маленькая победа, он считал, что смог добиться расположения этой женщины, почти не сомневаясь, что скоро услышит встречное предложение, – она его пригласит к себе.
Арумова думала иначе, испытавшая многое на своём веку, она давно была склонна к тому, что мало что зависело от неё самой, от её воли в том, как складывалась её жизнь; верила, что всё то, что с нею происходит – предначертано судьбой, этот молодой человек в её жизни тоже не случайный, с ним должна познакомиться ближе.
2
Розенскому Михаилу приходилось бывать в разных квартирах прежних возлюбленных. В них случалось всякое: порядок и беспорядок, чисто и не очень, но почти всегда не было ощущения уюта, несмотря на то, казалось бы, что они принадлежали молодым женщинам; жилье больше бывало похоже на сдаваемые внаем меблированные комнаты, временное, куда только и приходят, чтобы переночевать, всё было пропитано запахами духов, помады, какой-то химии, словно после только что закончившейся генеральной уборки, как в общественных местах, чтобы не допустить распространения инфекции-заразы. Может быть, это было связано с тем, что неустроенной была их личная жизнь, а это отражалось на быте.
У Арумовой было по-другому. Уютом пахнуло на него, как только он вошел в квартиру. Понятно стало сразу, что здесь его ждали, и ждали по-особенному, пахло чем-то очень вкусным, только приготовленным. Если прежде, как только он появлялся в квартирах своих подруг, почти с порога начиналось именуемое любовью сумасшествие физически соскучившихся людей, срывавших с себя и друг с друга одежду, теперь было всё иначе. Его встретили с улыбкой на губах и светящимися радостью глазами, которые он запомнил с прошлого свидания; было желание прикоснуться к ним, прикоснуться просто, в немом приветствии, чтобы замереть на мгновение в ожидании чего-то большего; но не смел, остановленный интеллигентной внешностью хозяйки, с которой были невозможны такие фривольности; она и одета была подчеркнуто нарядно, что было очень непривычно для Розенского, хотя и сам он для этого визита одел лучшее из своего скромного гардероба: был он в сером твидовом пиджаке, черных хлопчатых брюках, белой рубашке с синим галстуком и поношенных, но еще очень приличных лакированных коричневых туфлях. На Арумовой было длинное золотистого шелка платье с декольте, на шее повязан газовый зеленый шарф, прикрывавший две нити белого жемчуга; обута в туфли из сафьяна насыщенно-бежевого цвета, гармонировавшего с платьем. За спиной хозяйки, через открытые в залу двери, был виден богато накрытый стол. Все говорило о чрезвычайной серьезности её отношения к их встрече. И Розенский сильно робел в непривычной для него обстановке, боялся нарушить немного старомодный порядок приема и проявления чувств. И всё же опыт общения с женщинами говорил ему, что Арумовой не чуждо ничего человеческое, но она умеет себя держать, не в пример его прежним пассиям. Было это видно хотя бы по еле уловимому трепету и дрожанию ее губ, когда она тоже волновалась, разговаривая с ним. И его наблюдение не было ошибочным. Время одиночества не потушило в Арумовой чувства быть желанной, оно в ней теплилось, как сохраняется жар под тонким слоем пепла затухающего, казалось бы, костра, но готового вспыхнуть с новой силой, стоит лишь раздуть его и поднести сухую щепу.
Он прошел в залу вслед за хозяйкой. Перед большим окном стоял изобиловавший закусками и блюдами стол и кресла-стулья, вдоль стен была горка, заставленная столовыми сервизами, хрусталем и цветным чешским стеклом; в глубине комнаты просторный кожаный диван, рядом с ним торшер и закрытый книжный шкаф. Розенский, замешкавшись, остановился посередине залы, оценив достаток дома и очевидный, хороший вкус его владелицы. Арумова, наблюдая за ним, сказала с лёгкой иронией в голосе, полагая по-прежнему, что перед нею недостаточно искушенный человек:
– Что это вы, Михаил Львович, какой-то неуверенный? Чувствуйте себя как дома! – Она неожиданно протянула ему навстречу обе руки, приветствуя его таким образом ещё раз, и сказала: – Мы ведь, кажется, уже на ты. Ну же, будь смелее!
Розенский действительно растерялся, не зная, как себя вести. Он первый раз был у неё. Следовало ли из этого, что нужно соблюдать этикет гостя, к которому продолжают присматриваться и которого еще изучают, либо в её жесте и словах было какое-то приглашение вести себя не только проще, но и гораздо откровеннее – они же люди взрослые, – да и не было никакого сомнения в том, что он ей симпатичен, и можно не продолжать сдерживать чувства.
Он взял её ладони, теплые и мягкие; она в ответ крепко сжала его руки; и это рассеяло все сомнения Розенского, к нему вернулась уверенность в себе прежнего сердцееда. Он резко обнял её, поцеловал сначала в щеки, потом прильнул к губам. Арумова сперва обмякла, всецело доверившись мужчине, потом стала слабо отвечать взаимными поцелуями, время от времени шепча банальное, что у неё на плите остывает горячее и что теперь уже время обеда, а он, наверное, голоден…
– Если и голоден, – осмелел совсем Розенский, сильно прижав ее к себе, так что она ощутила его крепость, – то совсем по другому поводу.
Она слегка отстранила его, лукаво сверкнув глазами, и потянула к дивану, позабыв мгновенно и о кухонной плите, и обо всём другом в целом свете. Исчезла куда-то её недавняя сдержанность, немного театральное приличие, которого не может быть в подобных ситуациях; сам собой развязался и слетел с шеи шарф, заскользил с плеч золотой шелк платья, обнажая молочно-розовую истому тела, источающего такое сладострастие, что Розенский, уже вполне овладев собой, знал, что делать дальше.
И произошло то, что должно было произойти между свободными от каких-то обязательств мужчиной и женщиной, имевших друг к другу интерес; она дрожала всем телом от её захлестывающей чувственности, от которой мозги немели, и всякая мысль была ничтожной, когда слышала сквозь помутненное сознание одно слово – ее «любят!»; и после этого всё остальное, происходившее в мире, становилось совершенно неважным, даже ничтожным.
Но тайное и есть тайное, не явное, и Арумова не могла знать, даже догадываться, что изначальный интерес у Розенского был вовсе не к ней, уставшей от одиночества женщине, желающей устроить свою жизнь. Она, конечно, могла бы задуматься, что такого в ней увидел мужчина младше ее, чем она обратила на себя внимание? Но разве это было важно, когда она чувствовала его внимание? Наоборот, ей это льстило, давало надежду, что еще не всё в жизни прошло, что желанна и любима, что интересы теперь у них должны появиться тоже общие, потому как они стали одним целым.
Большинство людей, знавших Арумову мало, только со стороны, судивших о ней по материальному достатку и положению в обществе, а она всегда была при хорошей должности, считали ее баловнем судьбы. Сама Арумова так не думала. Выросла она в семье мелких служащих, где было принято считать каждую копейку в скромном бюджете, не позволявшем тратить даже на лишнюю игрушку из-за постоянной бережливости. Мать служила бухгалтером на заводе, имела дело с деньгами, но сама этих денег не имела. Отец дослужился до старшины в одной из воинских частей, где имел должность заведующего складом амуниции, которая только и была нужна военным, да разве еще пользовалась спросом у охотников и рыболовов, но тщательно учитывалась, каждая портянка и пуговица выдавались под роспись в особом журнале. Он горевал по этому поводу, мечтая получить другой склад – поинтереснее, военного довольствия и продовольствия, где было больше возможности как-то разжиться, чем с его униформой, спиртом например, который можно не долить, а от куска маргарина отрезать на кухню меньше, пшена или сахара недосыпать и прочее, – всё это могло бы дать немалую прибыль для себя и семьи. Но там служил другой старшина – свояк командира части, и, разумеется, получить эту должность было не легче, чем должность генеральскую. И всё же в семье случался праздник, когда мать, помимо одного оклада, вдруг получала премию; а старшина умудрялся, несмотря на строгий учет, иной раз что-то списать, кому-то не отдать, а затем продать ботинки или бушлат рыболовам и охотникам, тогда в семье появлялись дополнительные деньги.
До поры Анна не знала, как появляются неожиданные для бюджета семьи деньги, но, повзрослев, узнала, что премия, оказывается, выплачивалась из экономии заработной платы работникам, которым в течение года постоянно что-то «забывали» начислять либо от которых просто скрывали истинные тарифы, разряды и другое, а военную амуницию в магазине хотя не продавали, но все рыбаки и охотники их городка знали, что есть старшина Арумов, который ею заведует. Родители её не атеисты, не верующие, не мудрствовавшие много по поводу того, что есть грех, а что не грех, – подобной метафизикой ни себе голову не забивали, ни дочери, не уделяя этому внимания в ее воспитании, считая, что не нужно даже тратить время на такую чепуху, а просто жить, чтобы было что каждый день есть, пить, одеть. И Арумова, взрослея, чем дольше жила, понимала, что бережливость и скромность равны бедности, а хорошо жить можно, если поступать хотя бы чуть-чуть не по установленным правилам. К этому не сразу привыкаешь, потому как есть в каждом человеке чуть-чуть совести от природы, но когда привыкнешь, то природные «чуть-чуть» само собой как-то проходят, а в человеке укореняется-устанавливается приобретенное от социума, среди которого он живёт.
Она сначала по настоянию родителей училась в торгово-кулинарном техникуме на технолога, чтобы получить специальность, с которой никогда не будешь голодать. Потом поступила в институт торговли, чтобы быть не только сытой, но и попасть в устоявшуюся (если не специально устроенную) в государстве систему распределения постоянного дефицита средств жизни, руководить теми, кто всегда при еде, питье и других материальных благах и без чего не может обходиться ни один человек. Ей удалось устроиться в этой системе, обзавестись кучей нужных людей, что было важно не только в ее время, но и актуально во все времена. Став директором крупного торгового управления, её возможности и вовсе стали неограниченны; она, вспоминая родителей, про себя только улыбалась, думая о том, как скромны были их возможности, чтобы более-менее жить и не тужить, чтобы было каждый день что есть, пить, одеть. Всё, казалось бы, имелось у нее, и достаток, и такое даже появившееся неожиданно для неё самой качество, как желание облагодетельствовать кого-либо, не совсем, правда, искреннее, потому что нравилось, когда в ответ хвалили и благодарили, и это было как елей на её тщеславие. Но подводила привычка поступать чуть-чуть не по установленным правилам, от которой было трудно отвыкнуть.