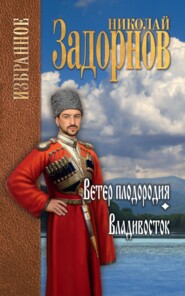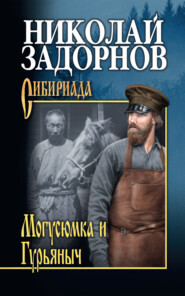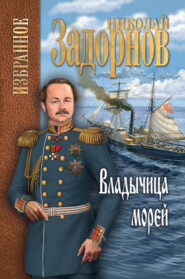По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Капитан Невельской
Год написания книги
1958
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Суда и казармы так и не пришлось посмотреть в этот день. Лярский говорил без умолку, строя планы, один грандиознее другого. Хитрил ли он и тянул время, пока, быть может, что-то приводилось в порядок, или в самом деле не мог удержаться от разговоров с новым человеком – трудно было сказать.
После обеда Невельской все же договорился о порядке приемки судна. Осмотр места зимовки, казарм и Охотска назначили на другой день. До вечера провели время в пустых разговорах. Потом Лярский пригласил гостей в обширную бильярдную, устроенную в нижнем этаже рядом с парадным, где на плюшевом диване всегда торчали двое лакеев.
Затемно, ничего не сделавши, капитан вернулся на судно, стоявшее в искусственном затоне. Матросы готовились к переходу на берег в казарму, а офицеры – к дальнему и трудному сухопутному пути в родной Петербург.
Все заметили, что капитан вернулся не в духе.
Глава семнадцатая. Матросы
Весь день было так тепло, что матросы работали на палубе босиком. Но едва солнце село, как кое-где непросохшая палуба покрылась ледком. Оба часовых ходили в полушубках.
В кубрике топилась железная печь, и матросы после ужина развешивали койки и укладывались спать. Поход кончился, кончилось и лето, и уж осень на исходе; сегодня все почувствовали, что близка зима. А на берегу ничего хорошего. Много в этом году видели и открыли хороших гаваней, а «Байкалу» приходилось зимовать в луже, вырытой среди песков. Назавтра унтер-офицер обещал, что с утра для экипажа будет вытоплена баня, и в предвкушении ее и прогулки в город все несколько оживились.
У каждого из матросов были свои интересы на берегу, и каждый на что-то надеялся, хотя общее настроение было невеселым. Обычно в портах, когда на судно привозили свежие продукты или капитан приказывал закупить живых быков, матросы веселели. Закупка продуктов – всегда важное событие в жизни экипажа. А тут подшкипер привез страшные вести. Никаких свежих продуктов не было. Тут ничего не росло, своих овощей нет. Не было и базара, нет зелени никакой, только рыба – сушеная и соленая. Гребцы с дежурной шлюпки, матросы, бывшие с подшкипером в городе, и матросы охотские, доставлявшие на судно начальника порта, в один голос говорили, что здесь вечная голодовка.
Подшкипер встретил в городе своих товарищей – мастеровых, которых оставили в Петропавловске. Те не рады, что попали сюда.
До сих пор матросы не хотели верить, что в Охотске плохо, надеялись, что слухи, дошедшие до них, ложны: все же тут главный порт.
Матросы понимали, что ждет их зимой в Охотске, но покорно терпели.
– Избы гнилые. Конечно, начальство впроголодь не сидит, – говорил матрос Шестаков. – На улицах юкола на вешалах сушится, точно как у гиляков. Вокруг адмиралтейства собаки норы нарыли.
Невесело было кронштадтским матросам. Служили в гвардейском экипаже, побывали в Англии, в Бразилии, на Гавайях, в теплых странах. И вот пришли в Охотск, а каков он – видно с палубы, весь как на ладони.
– Торговли нет, жители сами зубами щелкают. А зимой ездят, как гиляки, на собаках… Да, провианту тут небогато! – закончил свой рассказ Шестаков, один из самых удалых и толковых матросов в экипаже.
До прихода в Охотск у всех была цель, о которой много говорил капитан. Надо было описать Амур. И все старались. Теперь цели никакой не стало. Скоро спустят гюйс, уберут реи, обернут все смолеными тряпками; останутся голые мачты да ванты, осиротеет геройский «Байкал», а экипаж пойдет на берег, в гнилую казарму, кормить клопов.
Один только толстяк Фомин не унывал и даже воспрянул духом.
– Сказывали мне матросы с «Иртыша», тут каторжаночки… – говорил он, снимая рабочую рубаху.
Фомину лет тридцать, у него богатырская грудь и мускулистая шея; круглое широкое курносое лицо с хитроватыми маленькими глазками и черными усами. На груди и на спине замысловатая картина, которую сделал ему хромой француз, татуировщик короля Гавайских островов. Вокруг тела обвилась голая женщина, лицо ее на груди матроса, руки оплетают ему шею, а ноги – спину. За эту татуировку товарищи в насмешку прозвали Фомина женатым.
– Вот бы в Аяне зимовать, – заметил Конев, высокий плосколицый матрос. – Там все сыты. Вот кабы нам у Завойки остаться. У него и картошка, и морковь, и скотина ходит, как в Расее.
Пришел Евлампий, капитанский вестовой.
– Не звали на занятия? – спросил Шестаков, разбиравший сундучок с имуществом.
Еще в начале плавания капитан велел своим офицерам в свободное время обучать грамоте желающих. Теперь многие матросы сами писали письма в деревню.
Капитан и старший лейтенант занимались с Шестаковым.
– Нет, не звали, – ответил вестовой.
Все притихли, даже молодежь, с любопытством смотревшая на татуировку Фомина. Чувствовалось, что пришел конец привычному образу жизни. Впереди неизвестность…
– Ты совсем? – спросил Шестаков вестового.
– Нет, сейчас пойду, чаю велели подать.
– Спроси капитана, можно отдать книжку? Я зайти хочу.
Вестовой ушел.
– Что ты, Козлов, размахался? – насмешливо спросил Лауристан.
– Ну, ты, кувшинное рыло! – грубо отозвался Козлов и добавил брань покрепче.
Шестаков, грустно улыбаясь, держал в руках книгу. Этот красивый рослый матрос по ночам, при свете огарка, и днем, у иллюминатора, изучал в свободное время математику и астрономию, желая выучиться штурманскому делу. Бывало, на экваторе, сгорая от жары, морща лоб в напряжении, весь в поту, сидел он над книгами. Капитан нашел у него математические способности. Сейчас, когда вестовой сказал, что занятий не будет, он почувствовал, что надо отдавать книгу.
– С голоду тут сдохнем, – вдруг со вздохом сказал кто-то в темноте.
– Капитан сказывал, на Амуре, как займем место, то и будет все: и зелень, и хлеб, и всякие овощи произрастут, – вмешался в разговор Бахрушев, до того лежавший на спине и вдруг поспешно вскочивший.
– Все один черт, и на Амуре такая же голодовка будет, – молвил тот же безнадежный голос.
– Ты что это народ смущаешь, Веревкин? – раздался голос боцмана Горшкова. – Вот я слушаю тебя и не могу взять в рассуждение, какое ты имеешь право производить смущение…
В двери появилась голова вестового.
– Шестаков, капитан зовет! – заглядывая в жилую палубу, крикнул он с трапа.
Матрос живо обулся и ушел.
Когда он вернулся, все уже спали. В душной темноте раздавался тяжелый храп. Вахтенный сидел, подкидывая дрова в железную печь. Шестаков улегся на койку, спрятав астрономию под подушку. Капитан велел ему учебник оставить у себя и непременно заниматься, обязательно повторить все старое.
«Какая теперь уж астрономия, – думал он. – К каторжанкам, что ли, пойду с навигацией? Теперь только погулять…»
Глава восемнадцатая. Отъезд из Охотска
Утром Лярский повел капитана в порт.
Охотск утопал в гальке. Груды ее вместились в проломы и наполнили своей тяжестью гнилой остов какого-то судна, видимо, погибшего китобоя, с полустертой надписью на облупленном борту.
На гальке – щепье от дров, кора от деревьев, старые сани для собак.
Из низкого дома вышли двое пьяных тунгусов. Чья-то красная бородатая рожа выглянула за ними, но, завидя офицеров, тотчас же исчезла. Тунгусы подошли к Вонлярлярскому и оба встали навытяжку, приложив руки к своим шапкам, как солдаты.
– Нас маленько не убили! – хрипло выкрикнул один из тунгусов, как бы рапортуя, и стал объяснять, что его обобрали, взяли меха…
– Пшел прочь! – гаркнул на него Лярский. – Я вас, собаки! – Он обратился к Невельскому: – Сами подлецы, а ябеды, каких мало. Если тунгус увидит начальника, обязательно пожалуется на что-нибудь.
У лодок несколько охотников играли в карты. Они встали при виде офицеров; лица их были смуглы и приятны.
– Это охотники, пойдут на промыслы, – говорил Лярский. – Их посадят в трюм компанейского судна и развезут по островам. Это только тут они бездельничают. Но все народ рабочий…
После обеда Невельской все же договорился о порядке приемки судна. Осмотр места зимовки, казарм и Охотска назначили на другой день. До вечера провели время в пустых разговорах. Потом Лярский пригласил гостей в обширную бильярдную, устроенную в нижнем этаже рядом с парадным, где на плюшевом диване всегда торчали двое лакеев.
Затемно, ничего не сделавши, капитан вернулся на судно, стоявшее в искусственном затоне. Матросы готовились к переходу на берег в казарму, а офицеры – к дальнему и трудному сухопутному пути в родной Петербург.
Все заметили, что капитан вернулся не в духе.
Глава семнадцатая. Матросы
Весь день было так тепло, что матросы работали на палубе босиком. Но едва солнце село, как кое-где непросохшая палуба покрылась ледком. Оба часовых ходили в полушубках.
В кубрике топилась железная печь, и матросы после ужина развешивали койки и укладывались спать. Поход кончился, кончилось и лето, и уж осень на исходе; сегодня все почувствовали, что близка зима. А на берегу ничего хорошего. Много в этом году видели и открыли хороших гаваней, а «Байкалу» приходилось зимовать в луже, вырытой среди песков. Назавтра унтер-офицер обещал, что с утра для экипажа будет вытоплена баня, и в предвкушении ее и прогулки в город все несколько оживились.
У каждого из матросов были свои интересы на берегу, и каждый на что-то надеялся, хотя общее настроение было невеселым. Обычно в портах, когда на судно привозили свежие продукты или капитан приказывал закупить живых быков, матросы веселели. Закупка продуктов – всегда важное событие в жизни экипажа. А тут подшкипер привез страшные вести. Никаких свежих продуктов не было. Тут ничего не росло, своих овощей нет. Не было и базара, нет зелени никакой, только рыба – сушеная и соленая. Гребцы с дежурной шлюпки, матросы, бывшие с подшкипером в городе, и матросы охотские, доставлявшие на судно начальника порта, в один голос говорили, что здесь вечная голодовка.
Подшкипер встретил в городе своих товарищей – мастеровых, которых оставили в Петропавловске. Те не рады, что попали сюда.
До сих пор матросы не хотели верить, что в Охотске плохо, надеялись, что слухи, дошедшие до них, ложны: все же тут главный порт.
Матросы понимали, что ждет их зимой в Охотске, но покорно терпели.
– Избы гнилые. Конечно, начальство впроголодь не сидит, – говорил матрос Шестаков. – На улицах юкола на вешалах сушится, точно как у гиляков. Вокруг адмиралтейства собаки норы нарыли.
Невесело было кронштадтским матросам. Служили в гвардейском экипаже, побывали в Англии, в Бразилии, на Гавайях, в теплых странах. И вот пришли в Охотск, а каков он – видно с палубы, весь как на ладони.
– Торговли нет, жители сами зубами щелкают. А зимой ездят, как гиляки, на собаках… Да, провианту тут небогато! – закончил свой рассказ Шестаков, один из самых удалых и толковых матросов в экипаже.
До прихода в Охотск у всех была цель, о которой много говорил капитан. Надо было описать Амур. И все старались. Теперь цели никакой не стало. Скоро спустят гюйс, уберут реи, обернут все смолеными тряпками; останутся голые мачты да ванты, осиротеет геройский «Байкал», а экипаж пойдет на берег, в гнилую казарму, кормить клопов.
Один только толстяк Фомин не унывал и даже воспрянул духом.
– Сказывали мне матросы с «Иртыша», тут каторжаночки… – говорил он, снимая рабочую рубаху.
Фомину лет тридцать, у него богатырская грудь и мускулистая шея; круглое широкое курносое лицо с хитроватыми маленькими глазками и черными усами. На груди и на спине замысловатая картина, которую сделал ему хромой француз, татуировщик короля Гавайских островов. Вокруг тела обвилась голая женщина, лицо ее на груди матроса, руки оплетают ему шею, а ноги – спину. За эту татуировку товарищи в насмешку прозвали Фомина женатым.
– Вот бы в Аяне зимовать, – заметил Конев, высокий плосколицый матрос. – Там все сыты. Вот кабы нам у Завойки остаться. У него и картошка, и морковь, и скотина ходит, как в Расее.
Пришел Евлампий, капитанский вестовой.
– Не звали на занятия? – спросил Шестаков, разбиравший сундучок с имуществом.
Еще в начале плавания капитан велел своим офицерам в свободное время обучать грамоте желающих. Теперь многие матросы сами писали письма в деревню.
Капитан и старший лейтенант занимались с Шестаковым.
– Нет, не звали, – ответил вестовой.
Все притихли, даже молодежь, с любопытством смотревшая на татуировку Фомина. Чувствовалось, что пришел конец привычному образу жизни. Впереди неизвестность…
– Ты совсем? – спросил Шестаков вестового.
– Нет, сейчас пойду, чаю велели подать.
– Спроси капитана, можно отдать книжку? Я зайти хочу.
Вестовой ушел.
– Что ты, Козлов, размахался? – насмешливо спросил Лауристан.
– Ну, ты, кувшинное рыло! – грубо отозвался Козлов и добавил брань покрепче.
Шестаков, грустно улыбаясь, держал в руках книгу. Этот красивый рослый матрос по ночам, при свете огарка, и днем, у иллюминатора, изучал в свободное время математику и астрономию, желая выучиться штурманскому делу. Бывало, на экваторе, сгорая от жары, морща лоб в напряжении, весь в поту, сидел он над книгами. Капитан нашел у него математические способности. Сейчас, когда вестовой сказал, что занятий не будет, он почувствовал, что надо отдавать книгу.
– С голоду тут сдохнем, – вдруг со вздохом сказал кто-то в темноте.
– Капитан сказывал, на Амуре, как займем место, то и будет все: и зелень, и хлеб, и всякие овощи произрастут, – вмешался в разговор Бахрушев, до того лежавший на спине и вдруг поспешно вскочивший.
– Все один черт, и на Амуре такая же голодовка будет, – молвил тот же безнадежный голос.
– Ты что это народ смущаешь, Веревкин? – раздался голос боцмана Горшкова. – Вот я слушаю тебя и не могу взять в рассуждение, какое ты имеешь право производить смущение…
В двери появилась голова вестового.
– Шестаков, капитан зовет! – заглядывая в жилую палубу, крикнул он с трапа.
Матрос живо обулся и ушел.
Когда он вернулся, все уже спали. В душной темноте раздавался тяжелый храп. Вахтенный сидел, подкидывая дрова в железную печь. Шестаков улегся на койку, спрятав астрономию под подушку. Капитан велел ему учебник оставить у себя и непременно заниматься, обязательно повторить все старое.
«Какая теперь уж астрономия, – думал он. – К каторжанкам, что ли, пойду с навигацией? Теперь только погулять…»
Глава восемнадцатая. Отъезд из Охотска
Утром Лярский повел капитана в порт.
Охотск утопал в гальке. Груды ее вместились в проломы и наполнили своей тяжестью гнилой остов какого-то судна, видимо, погибшего китобоя, с полустертой надписью на облупленном борту.
На гальке – щепье от дров, кора от деревьев, старые сани для собак.
Из низкого дома вышли двое пьяных тунгусов. Чья-то красная бородатая рожа выглянула за ними, но, завидя офицеров, тотчас же исчезла. Тунгусы подошли к Вонлярлярскому и оба встали навытяжку, приложив руки к своим шапкам, как солдаты.
– Нас маленько не убили! – хрипло выкрикнул один из тунгусов, как бы рапортуя, и стал объяснять, что его обобрали, взяли меха…
– Пшел прочь! – гаркнул на него Лярский. – Я вас, собаки! – Он обратился к Невельскому: – Сами подлецы, а ябеды, каких мало. Если тунгус увидит начальника, обязательно пожалуется на что-нибудь.
У лодок несколько охотников играли в карты. Они встали при виде офицеров; лица их были смуглы и приятны.
– Это охотники, пойдут на промыслы, – говорил Лярский. – Их посадят в трюм компанейского судна и развезут по островам. Это только тут они бездельничают. Но все народ рабочий…