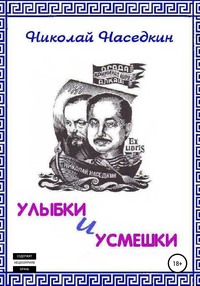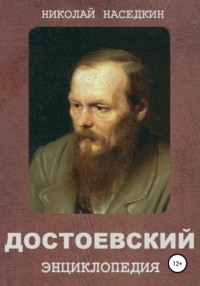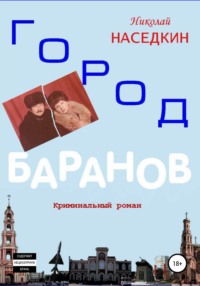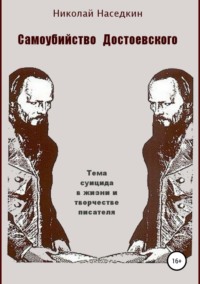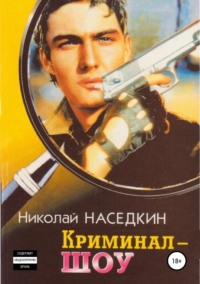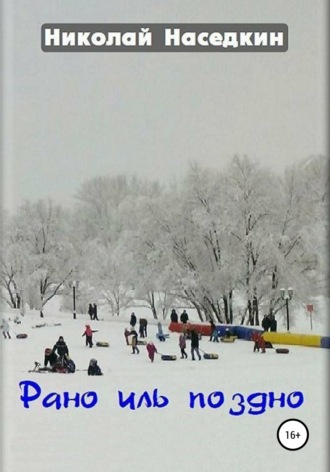
Рано иль поздно
Впрочем, вскоре мечты о ребёнке-наследнике, по крайней мере у Александра, сошли на нет, сгинули. Когда ему исполнилось сорок четыре, какая-то цепь судьбоносная замкнулась, и окончательно в голове его сформировалась-высветилась вот эта его idée fixe, которая заполнила без остатка все оставшиеся годы жизни и определила-сформировала финальную сцену судьбы. Именно в сорок четыре, зацепившись за возрастную аналогию с судьбой Антона Павловича Чехова, писатель Александр Павлович Словакин начал разматывать (или, наоборот, наматывать) клубок совпадений-подсказок, точек соприкосновения между ним и автором «Вишнёвого сада».
Не говоря уж о полном совпадении отчеств, ведь и фамилии явно перекликались – где Чехия, там рядышком, бок о бок и Словакия. Мало этого, но они ведь и, можно сказать, настоящие земляки: отец Чехова выходец из Воронежской губернии, мать и вовсе из тамбовского Моршанска. Оба, и Словакин и Чехов, в Москву перебрались из самой что ни на есть российской глубинки. Оба начинали с юмористики и всерьёз публиковаться начали в 20 лет. Да даже через жён какая-то перекличка аукалась: обе на восемь лет моложе своих мужей; одна Ольга Леонардовна, вторая – Ольга Леонидовна. Да и детей-наследников в обеих семьях нет…
Понятно, что все эти поиски аналогий-сходств поначалу носили несколько шутейный характер. Тем более, что Словакин хотя и знал творчество Чехова на уровне студента-филолога, но близким себе по духу писателем его не считал: ему роднее были Достоевский, Толстой, Булгаков… В своё время ещё и неудачные постановки «Чайки», «Дяди Вани» и «Вишнёвого сада», на которых довелось ему подряд побывать, отвратили его от Чехова-драматурга. Но вот теперь он разыскал в своей домашней библиотеке пару томиков прозы Чехова, проглотил залпом, тут же пробежался по букинистическим отделам книжных магазинов и отыскал-купил академический 30-томник Чехова издания 1980-х. Стоил он пустяки по нынешним временам, всего-то три тыщи, но и выглядел соответственно: сверху голубенький коленкор обложек с полустёршейся позолотой букв, внутри плохо пропечатанный текст на пожелтевшей газетной бумаге – типичное советское массовое издание.
Он прочёл-впитал тридцать томов от первой до последней буквы – с предисловиями, вариантами, комментариями и примечаниями. Магия чеховской прозы не совсем была ясна Словакину. Некоторые вещи («Дом с мезонином», «Скучная история», «Дуэль», «Дама с собачкой»…) буквально сбивали ритм его сердца, и он долго ещё ходил после прочтения потрясённый, качая от упоения головой и сам с собой разговаривая. Пытаясь хоть как-то определить своеобычность внешне простой прозы Чехова, он сформулировал это так: можно спародировать стиль-письмо Достоевского, Толстого и даже Бунина, а вот Чехова – и пытаться нечего!
Естественно, следом за собранием сочинений Словакин проглотил ещё и несколько биографических книг об Антоне Павловиче. Он буквально заболел Чеховым! И всё чаще, всё настойчивее размышлял о вероятности-возможности реинкарнации. А что, почему бы и нет? Чехов родился в 1860-м, а ровно через век – он, Словакин. Более того, родился именно 15 июля, в день, когда Антон Павлович из жизни ушёл. И пусть по старому стилю это было 2-е число – сама дата, 15 июля, засветившаяся в биографиях обоих, красноречива и важна. Тогда же у Александра и мерцнула мысль: а что, если б ему было суждено уйти из жизни, скажем, 15 июля, именно в день ухода Антона Павловича и свой день рождения? Или, ещё лучше и сопряжённее, – 29 января, в день его рождения? И, само собой, тогда же начал и зарождаться-оформляться сценарий финальных минут: мол, хорошо бы уйти из этой жизни не случайно и внезапно в результате несчастного случая или от банального инфаркта, а торжественно и сценично как Чехов – произнести-выдохнуть на немецком «Ich sterbe…»[2] (хоть врач рядом будет и русский), выпить бокал шампанского, взглянуть последний раз на плачущую жену и, отвернувшись к стене, утихнуть навсегда…
Смущали Словакина в зарождающейся мечте два обстоятельства. Первое: он уже достиг возраста Антона Павловича, но умирать пока вроде не собирался – наоборот, после нескольких лет трезвости организм его начал работать как часы, он явно помолодел и встряхнулся. А второе: проведя ревизию всего им написанного, Александр Павлович обнаружил, что выдал к своим сорока четырём годам всего томов 15, из которых издано было только 11, так что о 30-томнике пока оставалось только мечтать. Причём, четыре готовых к изданию книги (два романа и два сборника повестей и рассказов) застряли напрочь: свой родной «Голос» теперь издавал авторов только за их счёт или на деньги спонсоров, а крупные коммерческие издательства вроде «АСТ» или «Эксмо» такую прозу, созданную, скажем так, в русле русского классического реализма, отметали начисто.
Впрочем, мечтать и расстраиваться Словакин не стал, а поставил перед собою чёткую сверхзадачу: работать на будущее (ведь не вечно же этот коммерческий хаос-беспредел будет длиться и в жизни, и в литературе!) – упереться рогом и выдать на гора собрание своих сочинений аналогичное чеховскому. Причём, 30-томник в полном смысле слова – в виде готовых оригинал-макетов с предисловиями и комментариями к каждому тому. Таким образом, его грандиозный план-проект сложился из двух составляющих – творческой и технической. Созидательной компоненте он решил посвящать вечера и выходные; производственно-технической – рабочие дни.
В «Голосе» он уже давно помимо редакторской практики занимался макетами и даже оформлением, так что проблем с этим не возникло. Теперь он быстренько лепил в Adobe PageMaker очередной издательский макет-заказ, а в оставшееся время в той же программе строил-творил макет очередного тома своего ПСС. Всё делалось профессионально: на обороте титула указывались и ББК, и УДК, и даже ISBN (правда, на всех томах один и тот же – Словакин взял его со своей книги, вышедшей в «АСТ»), и авторский знак, и копирайт; каждый том открывался фотопортретом автора соответствующего возраста; в примечаниях подробно рассказывалось, когда и где было создано произведение, где впервые опубликовано, комментировались отдельные слова и выражения, могущие быть непонятными для будущих гипотетических читателей.[3]
Если техническая часть проекта претворялась в жизнь методично и без помех, то созидательно-творческая осуществлялась медленнее, чем хотелось бы. Словакин был писателем старой формации, то есть творил медленно, мучительно – не постранично, а пофразно, пословно и даже побуквенно. Черновики к 600-страничному роману «Бомж» занимали четыре толстенных папки – более 3000 страниц: дважды переписывал всё от руки и дважды на пишмашинке… Почти два года работы! И теперь, хоть он и шагал в ногу со временем, в последние годы писал-выдавал текст сразу на компьютере, однако ж процесс от этого убыстрился мало. Так же по три-четыре раза, надсаживая глаза, перелопачивал текст на экране, затем черкал-правил одну распечатку, вторую, а то и третью, пока не признавал работу законченной.
Такими темпами, уж разумеется, тридцатитомник выдашь не скоро. Если вообще выдашь. Необходимо было кардинально менять методы творчества. Понятно, что при любых усилиях за той же Дарьей Донцовой не угнаться: 10-12 «романов» в год – это из области сказок или анекдотов. Но вот на самого Антона Павловича Чехова равняться следовало: ведь он в расцвете сил как раз выдавал в год не менее чем по увесистому тому прозы. А когда Словакин потщательнее просчитал-увидел ситуацию, то замысел и вовсе стал казаться вполне доступным. Ведь проза и драматургия в собрании сочинений Чехова занимают всего 18 томов, так что ещё тома два повестей и рассказов, да том пьес (а наброски двух-трёх комедий и одной драмы уже давно лежат в столе) сочинить очень даже реально, ну а на остальные тома наберёт и досочинит статей, интервью, рецензий, писем…
* * *Утром 29 января 2010-го последние сомнения Александра Павловича оставили: он предчувствовал, он знал, что сегодня, ближе к вечеру, это произойдёт-свершится. Это будет так символично: Антон Павлович ушёл из жизни в день его рождения, не дожив до 45-летнего юбилея полгода; он, Александр Павлович, окончит земной путь в грандиозно-юбилейный день рождения Чехова, не дожив до собственного 50-летия тоже почти шесть месяцев…
За эти пять лет напряжённейшего изнурительного труда организм Словакина окончательно надорвался-сдал. Он потерял более двадцати килограммов веса, обтянулся сухой кожей, был бледен, как сама смерть – сказались и дурное питание (до еды ли было!), и согбенное беспрерывное бдение за монитором, и недостаток свежего воздух (в последний год он бросил работу и вообще не выходил из дома), и злоупотребление снотворными таблетками. Сомнений у него не оставалось: он непреложно, как какой-нибудь пустынный старец, умрёт-истает в назначенный самим собой час. В мыслях почему-то то и дело мерцало: «Дёгтев вон в сорок пять умер…» Впрочем, он тут же себя встряхивал: да, Слава Дёгтев хоть и умер практически в самом что ни на есть чеховском (а не купринском!) возрасте, но здоровяком – трагически и внезапно, от обширного инсульта…
Утром Ольга Леонидовна привезла последний том собрания сочинений. В знакомой типографии за вполне умеренную плату одели-оформили все 30 макетов в настоящие переплёты – тёмно-синего цвета с золотым тиснением букв на корешках: «А. П. Словакин. Полное собрание сочинений».
Александр Павлович уже три дня, завершив окончательную распечатку последнего макета, не вставал с дивана, где спал в последние годы. Не встал с постели и теперь. Над диваном на стене висел под стеклом большой фотопортрет А. П. Чехова – его безмолвный собеседник в бессонные ночи. Жена, уже давно уставшая спорить с упорными причудами своего свихнувшегося мужа, принесла по его просьбе тазик с водой, помогла ему умыться, надеть свежую белую рубашку и оставила одного. До самого вечера Словакин брал один за другим томики своего ПСС, гладил переплёты, перелистывал, прочитывал абзац, страницу, а то и весь рассказ или главу романа, плакал…
В шесть часов, когда за окном окончательно стемнело, он сам себе сказал: «Пора!» и позвал Ольгу Леонидовну. Она, прекрасно зная сценарий, с лёгким ворчанием внесла на подносе бутылку шампанского (самое дорогущее – 2900 рублей бутылка!) и бокал с высокой ножкой. Врача на этот момент Александр Павлович уже давно решил не вызывать (ещё откачает в последний момент!), так что ждать было больше некого и нечего, пора было приступать к финальному действу.
Ольга Леонидовна долго возюкалась с бутылкой, еле открыла, пролив половину вина на палас, наполнила бокал. Поглядела сквозь бутылку на свет, наверняка решила, что потом допьёт, подала шипящий бокал мужу. Он трясущейся то ли от слабости, то ли от волнения рукой взял, чуть расплескав, перекрестился, взглянул заслезившимися глазами сначала на портрет Чехова, потом на жену и обречённо выдохнул:
– Ихь штербе…
Залпом выпил весь бокал, закашлялся, вытер рукавом рубашки рот и убедительно выдавил оставшиеся от сценария слова:
– Давно я не пил шампанского…
Затем отвернулся к спинке дивана и – затих.
И вот в этот момент Ольге Леонидовне наконец-то стало по-настоящему страшно…
* * *В субботу 30 января в нижнем буфете ЦДЛ некоторые завсегдатаи с удивлением узнавали в худом и безобразно пьяном человеке писателя Словакина. В его хмельном бормотании можно было разобрать что-то про «десять лет ни капли в рот не брал», «Антону Павловичу сто пятьдесят лет» и «тридцать томов»…
Зрелище было довольно жалкое.
/2010/ЗАВТРА ОБЯЗАТЕЛЬНО НАСТУПИТ
Повесть
1
Гроссман, Иосиф Давидович, был старый еврей.
Он сам так себя называл с недавнего времени: «Я, – взялся говорить-приговаривать, – старый еврей…» И добавлял что-нибудь вроде: «Меня за мякину не проведёшь!..»
Вот и на этого странного парня Иосиф Давидович сразу же обратил внимание, заприметил его. Так, по крайней мере, он потом своей Свете-рыбке говорил-утверждал:
– Слушай сюда! Помнишь, как я тебе в первый же его приход сказал: «Это довольно интересно!», – помнишь? Меня, старого еврея, на прикиде не проведёшь!..
А прикид парня действительно заведению Иосифа Давидовича соответствовал мало. Да что там мало – совсем не соответствовал! «Золотая рыбка» – один из самых классных и дорогих баров-кафе в Баранове. Сюда заглядывают большие люди, настоящие гроссманы,[4] многие из них даже и подкатывают к самому входу на «мерседесах» да «тойотах» прямо по тротуару – на гибдэдэшников (или как там сейчас этих гаишников обзывают?) плюют-поплёвывают. Вот какие клиенты у Иосифа Давидовича!
А этот…
У него даже сумочки-кошелька не имелось, навроде прежнего дамского ридикюля, в каком каждый уважаемый человек нынче свои повседневные капиталы носит. Да какой там кошелёк-сумочка! Одет почти как бомж-бродяга. Мороз ударил градусов под двадцать в этот день – да, да, как раз католическое Рождество было, это Иосиф Давидович хорошо запомнил. Сам он, правда, православный, но именно на 25 декабря такой небывало сильный в эту зиму, запоминающийся мороз придавил, да к тому ж была пятница, канун дня отдыха, – а Иосиф Давидович еврейскую субботу в память предков соблюдал-чтил свято. Однажды, правда, нарушил он святую субботу, согрешил, но – дело того стоило: за одну ту субботу Иосиф Давидович сумел-умудрился нужный куш сорвать и жизнь-судьбу свою кардинально поправить. Так что прости, Господь Вседержитель, но как раз грех бы случился-произошёл, если бы Иосиф Давидович тогда свой шанс упустил…
Так вот, мороз приличный, а на парне этом куртчонка на рыбьем меху и чёрная кепочка суконная – такие совсем молодые пацаны, в основном студенты-школьники всякие носят. Полоска у кепочки с боков и сзади, вроде манжета – отвернул бедолага, прикрыл наполовину уши, а мочки, видно, чуть не отвалились: кинулся их сразу оттирать. А руки-то, руки! Красно-сизые, скрюченные – перчаток-то и в помине нет. Шарф, правда, на шее имелся да вполне приличный – цвета масла сливочного, почти белый, пушистый. Вязали, сразу видно, любящие женские ручки. Иосифу Давидовичу такие-подобные шарфы первая жена, Роза-покойница, вязала – последний вот сейчас и донашивает. Может, из-за шарфа-то Иосиф Давидович и не погнал странного посетителя, а – мог бы, мог. Ну, не погнать, а намекнуть толсто: мол-дескать, зачем вам, молодой человек, иметь свои неприятности? Вон через дорогу, на Кооперативной, в подвале имеется пивной бар-забегаловка – вот там и пиво для вас есть дешёвое, и рыба-скумбрия пиву под стать порционными кусками. А здесь, в «Золотой рыбке», самое скромное пиво – 12 рэ за масенькую бутылочку или половина бакса, если на валюту-зелень…
Но нет, не сказал, не намекнул Иосиф Давидович и нукеру мордатому своему, вышибале-секьюрити подмигивать не стал на странного посетителя. И шарф тут свою роль сыграл, конечно, и, как уже говорилось, нюх-чутьё Иосифа Давидовича сработал, да и – вот бывает же! – чем-то глянулся этот странный зачуханный барановский парень старому еврею, несмотря на свою суконную кепочку, простылую куртку-неаляску, позорные брюки с пузырями на коленях и стоптанные сапоги. Возраст, что ли? Да не Иосифа Давидовича – парня. Ему даже кустистая мужицкая борода лет не добавила – тридцать пять всего, не больше. У Иосифа Давидовича сейчас бы старший сын, Веня, примерно таким был – если бы родился тогда, в 1963-м…
Парень вошёл скромно, робко, как показалось Иосифу Давидовичу. Да, вот ещё странность-то: очки на нём тёмные были – он их, отвернувшись, протёр концом шарфика, а уж потом уши растирать-отогревать взялся и публику почтенную оглядывать. Впрочем, публики ещё мало собралось – из шести столиков только два были заняты: за одним католики гуляли-праздновали, всё радовались-обсуждали, как впервые после войны в их костёле подремонтированном рождественская служба прошла-состоялась. Ещё за одним столиком, пожалуй, самые дорогие из дорогих гости сидели-оттягивались: Бай и Боров со своими гёрлами – решили-вздумали осчастливить Иосифа Давидовича, принять его угощение «жидовское».
Это, конечно, Боров – хам, свинья барановская, гой вонючий! – позволяет себе, когда нажрётся дармовой водки, «жидом» Иосифа Давидовича обзывать-клеймить. Правда, Иосиф Давидович каждый раз с достоинством одёргивает хама: «Какое глупство! Вы меня вполне обижаете!..» Да разве ж таким бандитам да ещё пьяным повозражаешь? Тут же за наган-пушку хватается, желваками играть начинает… Свинья антисемитская!
Да, вот ещё почему Иосиф Давидович первое посещение того странного парня запомнил-зафиксировал – Бай с Боровом в тот вечер наведались. Они даже и не за получкой приходили, а разговор крупный до Иосифа Давидовича имели. А известно, какой разговор у бандитов-рэкетиров с бедным старым евреем – опять дань повысили. Да ещё и обрадовали чуть не до инфаркта: отныне брать будут только валютой-зеленью – капустой по-ихнему. Надоело им, видите ли, терять своё на инфляции. У Иосифа Давидовича даже нога увечная-больная заныла-застонала – он сам порой горько пошучивал: мол-дескать, от горя да от страха душа его в левую пятку убегает и там, в больной ноге, скорбит-плачется. Горько стало Иосифу Давидовичу, а – куда ж деться? Но и так сразу, в единый момент разве ж можно с родными деньгами расстаться?! Успел Иосиф Давидович сообразить, заплакался: мол-дескать, долларов в наличности нет, а тут Новогодье, Рождество, в банках сплошные каникулы… Дали бандюги срок две недели, наугощались в тот вечер всласть, до отрыжки за счёт бедного Иосифа Давидовича. И куда в этого хилого Борова-подсвинка столько дармовой-халявной водки влезает?
Одним словом, огорчённым был в тот вечер Иосиф Давидович. Очень огорчённым. Но виду старался не показывать. Выходил то и дело в зальчик, самолично, хромая к входу, встречал больших гостей, приглашал-улыбался. Парня в кепоне, правда, хотя и не погнал сразу, но и приветствовать, конечно, не стал. Тот пробрался-приблизился к стойке, сел на крайний вертящийся стул-табурет, сгорбился ещё больше, кепчонку на коленях пристроил, руку правую к груди приложил, начал кланяться-кивать Свете-рыбке, извиняться, за что-то благодарить:
– Здравствуйте! Извините! С праздником вас! Спасибо!..
Светик хмыкнула, смерила странного гостя взглядом русалочьим:
– Пожалуйста! И вас с праздником! Что пить-есть будем?
Последнее она уже с явной издёвочкой молвила, рукой белой на полки буфетные указала. А там – «Белая лошадь», «Камю», «Мартини», «Бавария»…
– Спасибо, спасибо! – как китайский болванчик закивал-закланялся парень, руку к сердцу заприкладывал. – Извините! Мне, пожалуйста, белый мартини и орешки.
Света-рыбонька на него прищурилась, а посетитель вдруг добавил:
– Извините, только мартини обязательно из холодильника и со льдом, а орешки, пожалуйста, все, какие у вас есть – фисташки там, кешью, миндаль…
– Есть у нас и миндаль, и фисташки, и даже фундук, – ответила Света-рыбка многозначительно, – только, может, если деньги есть, вам сначала согреться чем-нибудь крепким? А то ведь от мартини со льдом совсем простынете.
– Спасибо, спасибо! – закивал странный парень. – И, правда, коньячку мне сто пятьдесят плесните… Извините! Ещё бутерброд дайте, с сёмгой…
Про деньги мимо ушей пропустил, словно не слышал. Светик-рыбонька на Иосифа Давидовича глянула вопросительно, тот, помедлив секунду, головой кивнул: негоже в праздник скандал затевать, да и парень наглецом-халявщиком не смотрится – больно робок. Впрочем, в случае чего и шарф забрать-отобрать можно: шарф у парня стоящий – вещь.
Выпил борода и коньяк заморский, и вермут заокеанский, бутербродом-орешками закусил и ещё кофе-эспрессо заказал-потребовал. А потом счёт попросил – уже взбодрённый, раскрасневшийся, почти не горбится, бороду оглаживает, непроницаемыми очками поблёскивает… Ну, ни дать, ни взять – купчина-богатей погулял-попраздновал. Света-рыбка потюкала маникюрчиком по клавишам кассы, чек на стойку выложила – 164 рубля 50 копеек!
Для какого-нибудь Бая или Борова, конечно, тьфу – восемь баксов-долларов всего лишь, но для этого бедолаги наверняка – половина его зарплаты, если он ещё её получает. Парень склонился, очки на мгновение с глаз сдвинул, глянул, языком поцокал, покопался во внутреннем кармане своей бомжовой куртки, выудил две бумажки сторублёвых – новёхоньких, хрустящих, даже пополам не согнутых – и Свете-рыбке протянул. Та, откровенно не стесняясь, к светильнику у кассы приложила по очереди обе купюры-ассигнации, изучила, потом каждую согнула, пальчик послюнявила и на сгибе прочность краски проверила, хмыкнула-гмыкнула и отсчитала сдачу – три десятки бумажками, а пятёрку и ещё полтинник – металлическими.
И что же делает борода в очках? Берёт одну купюру мятую и в карман прячет-складывает, а остальные двадцать пять с половиной воистину купецким жестом обратно отодвигает – на чай, мол. Потом раз десять – не меньше – свои «спасибо» и «извините» пробормотал, покланялся и ушёл-исчез. Иосиф Давидович тут же, не медля и самолично, сторублёвки эти две проверил-просмотрел и отдельно от прочих спрятал-положил.
Мало ли чего!
* * *На следующий день Иосиф Давидович отдыхал-субботничал.
Однако ж ещё с вечера он дал Светлане-рыбке наказ и утром наставление повторил: если парень с бородой появится и опять странно рассчитается – не смешивать его деньги с остальными, доставить целыми и несмятыми домой.
Весь день Иосиф Давидович, как и всегда по субботам, кейфовал на диване, смотрел по видику американские фильмы, пил чай и грыз фисташки. Уж как хотел вечером позвонить-звякнуть в «Золотую рыбку», ублажить любопытство, но удержал себя, не осквернил субботу. Зато, едва впустив домой за двойные броневые двери жену-рыбку, тут же, даже не дав ей раздеться, потребовал отчёта. Да, чутьё его не обмануло: бородач объявился снова около восьми вечера, сел за тот же угол стойки, заказал коньяк, маслины, пива две бутылочки с креветками. Был он в этот раз как-то развязнее, что ли, начал знакомиться с барменшей, уверять-хихикать, будто где-то её раньше видел-встречал, взялся комплименты ей отпускать и стихи даже читал. А зовут его Иваном…
– Какое глупство! – прервал Иосиф Давидович раскрасневшуюся супружницу. – Меня совсем не волнует этих глупостей! Ты про деньги говори…
И действительно, уж к кому, к кому, а к этому Ивану в кепке Свету-рыбоньку ревновать даже смешно: для неё бедный мужчина – не мужчина, пусть он хоть Арнольд Шварценеггер, Леонардо Ди Каприо или даже сам Филипп Киркоров. Для мадам Гроссман-два главное достоинство мужика заключалось не в лице, не в бицепсах и даже, пардон, не в штанах, а – в кошельке. Это старый Гроссман преотлично знал, потому и напомнил-поторопил про деньги.
Деньги? Тут и Света-рыбка встрепенулась: да, да, опять вытащил из кармана две сотенных хрустящих бумажки, небрежно бросил на стойку и на этот раз от всей сдачи – в шестнадцать рубчиков – барски отказался. Странно всё это…
Очень странно!
* * *И на следующий вечер повторилось то же самое.
И на послеследующий, и на послепослеследующий…
Странный этот Иван приходил, отдыхал-угощался часик-полтора, расплачивался каждый раз двумя новенькими до неприличия сотенными и, пылко поблагодарив не однажды барменшу, оставлял сдачу на чай.
И вот ещё какая подозрительная странность в этом парне обнаружилась – парик! Ещё в первый же вечер Иосиф Давидович заприметил: странно он как-то уши растирает – не ладонями, а кончиками пальцев. И кепку всегда осторожно, бережно, чересчур уж аккуратно снимает. Пригляделся Иосиф Давидович – ба, паричок! Уж в париках-то он, старый еврей, кой-чего понимал – сам несколько лет носит, с тех пор, как после смерти-кончины первой жены Розы снова женихом себя почувствовал…
Да-а-а, этому странному парню есть что-то скрывать или от кого-то скрываться. И борода у него, видно, свежая, недавняя, а то, может, и тоже фальшивая?..
Наконец, 30-го декабря, в предновогодний вечер, Иосиф Давидович порешил, что с этим раздражающе-таинственным делом надо кончать. Он, как только Иван объявился на пороге и очки свои протёр, подошёл, солидно прихрамывая, к гостю, представился, что как это он и есть хозяин «Золотой рыбки», а потом внушительно произнёс-предложил:
– Я имею вам сказать пару слов… Прошу вас до себе в компанию!
Парень схватился за сердце, с жаром начал прикланиваться, «спасибо-извините» надоедливо частить. В своём кабинете-офисе в глубинах «Рыбки» Иосиф Давидович выставил на стол коньяк, разлил по хрустальным напёрсткам и, когда выпили за первоначальное знакомство, – взялся тянуть кота за хвост: мол-дескать, когда человек богатый, уважаемый, у него и деньги соответственно крупные и новые – прямо из банка… А вот если человек одет скромно, очень скромно, чересчур скромно, то откуда ж у него могут взяться новые крупные деньги?..
– Извините! Вы хотите спросить, уважаемый Иосиф Давидович, – перебил гость, прикладывая руку к груди, – не сам ли я печатаю эти деньги?