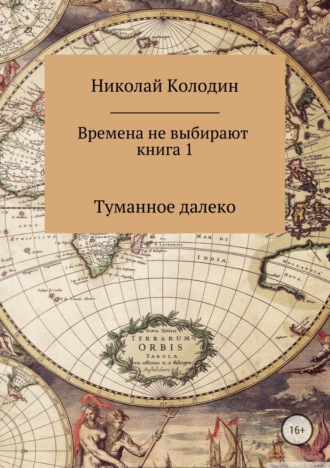
Времена не выбирают. Книга 1. Туманное далеко
В хозяйство возвратился дипломированным специалистом со своим взглядом на существующие проблемы. Его сразу назначили бригадиром тракторной бригады.
В первой его самостоятельной посевной в той должности ему подчинялось без малого три десятка человек, порой гораздо старше по стажу и возрасту. Но приняли руководителем безоговорочно, потому как свой и с авторитетом настоящего «работяги».
Техники немало. Надо толк всему дать. Со своим неугомонным характером совсем извелся Валерий. Хотел у каждого агрегата побывать, целыми днями мотался на стареньком мотоцикле «ИЖ», пыли набирался. Посевная масштабная: 1100 гектаров требовалось посадить, только успевай разворачиваться до самой осени…
Каждую весну бригада пополняется новичками. Для них такая весна – первая трудовая, как для него когда-то, зеленого курсанта в фуражке с молоточками. Он, помня, как нужны были ему советы опытного, старшего товарища, им, новичкам, уделяет особое внимание, на них, новичков, тратит времени более, чем на других. Вместе с ними копается в моторе, определяя поломку, одновременно помогая и устранить ее.
Все-таки трудовая школа позади такая, что позавидуешь: к новой своей должности приступил человеком зрелым, вволю поработавшим на тракторах самых разных марок. День рабочий не регламентирован, не уместишь его в привычные 8-10 часов. Потому и дома бывает редко, хотя добрый старый «ИЖ» может домчать до Гвоздева за 10—15 минут. Утром глянет на спящую дочь, вечером – то же самое. До возвращения отца успеет она и уроки выучить, и набегаться вволю.
Тракторная бригада, которой руководил он, неоднократно завоевывала первенство в социалистическом соревновании, а это легко не дается. В совхозной конторе имя его, в сущности, совсем молодого человека, произносят с уважением. Не за один только труд от всего сердца окажут человеку доверие, выдвинув кандидатом в депутаты областного совета. Ему оказали и избрали совсем молодым. Он, как мог, старался оправдать это доверие.
Приезжая на сессии областного Совета, всегда останавливался у нас. Я не раз говорил ему, мол, перебирайся в город. Он вздыхал и отрицательно качал головой:
– Город не для меня. Мне здесь душно и тесно. То ли дело в деревне, там, как в басне, под каждым мне кустом уж готов и стол, и дом…
Особо я и не уговаривал, понимая деревенскую душу его, и радовался за него, за то, что хоть один из Осиповых младших счастлив. Но испытания ждали нас впереди. Годам к сорока его стали мучить сильные головные боли – прямое последствие падения в силосную яму. Он неоднократно обследовался у специалистов и в Ростове, и в Ярославле, и всякий раз получал неутешительный диагноз: полученная травма не позволяет надеяться на улучшение состояния в будущем. Лечение способно лишь приостановить дальнейшее прогрессирование заболевания мозга.
Сильнейшие боли он гасил традиционно по-русски: с помощью алкоголя и табака. Усиливались боли, увеличивались дозы выпитого и выкуренного. И вдруг звонок:
– Коля, Валера в областной онкологической больнице. Нужна твоя помощь…
– Какая, Галя?
– Мне кажется, врач что-то темнит. Сходил бы и поговорил с ним. Ты все-таки в медицине трудишься.
– Хорошо. В какой палате Валера?
В этот же день я увидел его. Такой же рыжий вихор на голове, улыбающиеся глаза, только чуточку похудевший, что нисколько не портило облик. На нем ничего больничного. Мы ушли в коридор и долго-долго говорили, перебивая друг друга, и все не могли наговориться. Как мог, успокаивал, хотя у заведующего отделением узнал, что практически брат обречен: рак в последней четвертой стадии.
Все время, пока он лежал, я виделся с ним. В канун Первомая он уговорил меня обратиться к лечащему врачу с просьбой отпустить его на праздники домой. Согласие получил при условии, что уже второго мая, крайний срок – третьего он вернется на больничную койку. Он, как я в душе и предполагал, не вернулся. Последние дни он хотел провести дома.
– Ты знаешь, – говорил он накануне, – дома, брат, выйду во двор, гляну в поле, и так легко делается, так легко дышится, даже курить не столько хочется, как здесь…
Я смотрел на него, осунувшегося, посеревшего лицом, и вспоминал первую нашу встречу в августе далекого 1948 года. Мы такие разные: я – безынициативный дохляк, и он, неугомонный, здоровый, веселый, всегда с какой-то каверзой в запасе…
Его похоронили на гвоздевском кладбище, где уже упокоились отец и мать.
Я лишился самого близкого человека. Конечно, нет никого ближе матери, но быть с ней предельно откровенным я никогда не мог, а с ним мог.
Прощай, братик мой дорогой…
Мучительный первый класс.
Мои деревенские одноклассники: Валька Посадсков, Венька Грязнов, Левчик «сопливый». С ними пошел в первый класс. Школа в соседнем селе Татищев-Погост, или, как говорили местные, в Татищеве, от деревни километрах в пяти. Это сейчас для ребят организуют школьные автобусы, в послевоенную пору даже о телеге мечтать не приходилось. И мы группой человек в тринадцать-пятнадцать «мотались» каждый день туда и обратно, протопывая с нашими заходами на соседние поля километров этак десять. Долго, зато весело. Вместе с ребятами из старших классов, включая соседних «гвоздевских», набиралось человек до тридцати. Рвали на полях горох, вытаскивали турнепс, жевали, орали, дурачились и в школу нередко опаздывали. Но не это главное.
Я после своих детских хворостей ходил неважно, то есть передвигался нормально, не хромая, не припадая и не падая, но медленно и потому плелся обычно позади. Валерка тащился рядом, как брат, которому наказано приглядывать за «городским». Темпа моего он часто не выдерживал и убегал вслед за развеселой ватагой.
Все бы ничего, да подступала зима, и я страшился оказаться на пустынной дороге один-одинешенек. А когда однажды в начале декабря поутру впереди на дороге показался волк, смотревший на нас совершенно не боясь и убежавший, лишь когда ватага приблизилась метров на сто, стало совсем уж худо.
Отчетливо вижу себя совсем маленького и одинокого. Я пробираюсь полузаметенной дорогой в бескрайнем заснеженном поле, где огоньки родной деревни еще так далеко. Бреду на слабых заплетающихся ногах, весь в соплях и слезах, полный обид и зла на брата, на одноклассников, на весь белый свет. И уж какие там уроки, какие знания, если на уме одно: скорей бы домой, где в теплой избе ждет тебя какой-никакой обед и полная тепла с тараканами печь.
Если по утрам мы шли более или менее дружной, единой гурьбой, то после уроков ребята возвращались кто как мог, стремясь быстрей попасть домой. Уже не все вместе, а по двое, по трое, а то и в одиночку. В школе никаких завтраков не полагалось, а те две серые колобахи, что по утрам клали нам в заплечные мешки (наподобие нынешних рюкзаков, только поплоше, да и сшитых вручную), мы съедали еще поутру. А после уроков есть хотелось жуть как! К тому же нередко случалось, что оставляла учительница и после уроков, добиваясь выполнения задания.
На фотографии, сделанной в самом начале учебы, мы всем классом стоим в три ряда у бревенчатой стены нашей одноэтажной, видимо, еще церковно-приходской, школы. Впрочем, «стоим» не совсем точно сказано: первый ряд, по традиции тех лет, полусидит, полулежит. И, господи, как же плохо мы одеты! Все наши пальтишки перешиты из материнских либо отцовских обносков, у редких счастливчиков имелся воротник из какого-никакого меха. Ни о каких шарфах и понятия не имелось. Удивляет, что с братом мы стоим не просто врозь, а в разных рядах. Скорее всего, фотограф так расставил. В центре – учительница. Стыдно признаться, но совершенно не помню своей первой учительницы ни в лицо, ни по имени. Хотя вроде бы помнить должен, потому что оценки она ставила как-то непонятно, особенно за чтение. Как и по большинству других предметов, тут я имел твердую и постоянную двойку.
Что касается прочих дисциплин, то неудовлетворительная оценка вполне заслужена, ибо домашних уроков мы с братом не делали. Из школы возвращались поздно и, наскоро поев, бежали на улицу, «пока светло». Когда затемно возвращались домой, то уроки делать поздно, ибо свет – это керосин, а он стоит денег, которых в послевоенной ярославской деревне не водилось, ну, разве что за редким, мне неизвестным исключением. У тетушки же моей их не было никогда, и, чтобы купить что-то из продукции магазинной вроде соли и сахара, везла на базар молоко. Поэтому, как только мы раскладывали на столе свои тетради, то слышали неизменно:
– Меньше шляться надо, вон Галька (это старшая сестра) уже все уроки сделала. Неча лампу палить. Полезайте на печь!
Уговаривать не требовалось. Сопротивления с нашей стороны никакого. Неча так неча! И мы забирались на теплую печь, где скоро и засыпали, вопреки усилиям многочисленных клопов и тараканов. В школу на другой день являлись с уроками несделанными или сделанными впопыхах, во тьме и кое-как. Но вот что было непонятно ни мне, ни тетушке моей, не говоря уж о матери: в первом классе, когда все мои сверстники «бекали» и «мекали», складывая буквы в слоги, а слоги в слова, я читал довольно бегло. И к тому же знал много стихов, в частности, полностью лермонтовское «Бородино». Ясно, что учительница ставила двойку за чтение автоматически, дабы положительной оценкой не портить ряд из сплошных двоек.
Другая причина стала мне понятна уже взрослому. Скорее всего, уже тогда я плохо видел, хотя и не догадывался о том.
Только в четвертом классе мать показала меня окулисту, вспомнив вдруг о дошкольной моей глазной болезни и предсказании врача, что с глазами у меня будет все хуже и хуже. Тогда, в четвертом классе, мне сразу выписали очки с достаточно большими диоптриями. Я не видел зачастую того, что учительница писала на доске, и «лепил отсебятину».
Мать ума не могла приложить, отчего и по чтению двойки. Я тоже не понимал, да и не особо задумывался. Учительница – натура своеобразная. Хоть и ставила мне двойки одинаково с братом, который и к Новому году по слогам еле «мекал», но на концерт, посвященный очередной годовщине Октября, от нашего класса выставила именно меня. В школьном коридоре, превращенном в зрительный зал, с выражением, приобретенном в детском саду, я читал знаменитое симоновское стихотворение «Шинель», да и что еще мог читать ребенок из военного городка?
Успех потрясающий. И вызван, прежде всего, моим произношением, чисто московским. Выросший среди украинцев, я «акал», когда все кругом «окали».
С тех пор ко мне прилипла кличка не очень обидная, но все же: «Калодин». Ребят она почему-то сильно веселила, а я в конце концов привык. Да и другие события вмешивались в нашу детскую деревенскую жизнь, заставляя забывать о подобных мелочах.
Признаюсь, что запомнил тот период плохо. Не оставила школа по себе каких-либо достойных воспоминаний. Нехорошо, но что есть, то есть.
Сельские будни
Ватага наша делилась на «малитинских» и «гвоздевских». Соседнюю деревушку Кузмицыно отделял поросший кустарником пригорок с прудом внизу. Пруд именовался «барским».
В те годы младые я, как и взрослые односельчане, искренне убежден был, что название пруд получил от стоящего неподалеку единственного, хоть и деревянного, но двухэтажного особняка, принадлежавшего известной советской киноактрисе Марине Ладыниной, которую местные именовали не иначе, как «барыня». Наведывалась она в это свое имение крайне редко, а постоянно проживали в доме две её не то дальние родственницы, не то просто нанятые в качестве прислуги пожилые женщины, для нас, подростков, «старухи».
Сама Марина Алексеевна, снявшись в таких фильмах известного режиссера Ивана Пырьева, как «Богатая невеста», «Трактористы», «Свинарка и пастух», «Сказание о земле Сибирской» и «Кубанские казаки», к тому времени явно обошла по популярности другую советскую кинодиву Любовь Орлову.
Приезжая в Малитино, она встреч не искала, но и не сторонилась их, была предельно вежлива и, по возможности, приветлива, одевалась скромно, но и эта скромность её на фоне послевоенной деревенской нищеты выглядела неимоверной роскошью, а уж о внутреннем убранстве особняка и вовсе ходили легенды. Отсюда и «барыня», и «барский» пруд. Но всё от незнания.
В деревенскую жизнь я втягивался медленно, не всегда удачно, ибо был нескор, неразворотлив и далек от понимания основ деревенского бытия.
Любимым нашим занятием был уход за лошадьми. Дядя, тогда в первый мой приезд простой деревенский конюх, заведовал конюшней, в которой содержалось более десяти коней. Здесь был наш второй дом: мы засыпали в ясли корм, чистили стойла и самих коняг-доходяг, а в полдень водили их на водопой к находившемуся поблизости пруду. Водили – не значит тащили за узду. Нет, мы сидели верхом и ехали впереди маленького табуна, следовавшего за нами. Сидели без седла, что, скажу, не очень удобно, и не потому, что по первости то и дело съезжаешь с хребта, а потому что тем костистым хребтом набиваешь себе задницу до такой степени, что, спустившись наземь, передвигаться можешь разве что враскоряку. Но ничего, пообвык. По крайней мере, мне так казалось. Иначе думал брательник, и однажды, едва я взгромоздился на выбравшегося из воды коня, Валерка под хвост ему сунул прут. Конь, хоть и квелый, взвился на дыбы, сбросив меня на землю, а точнее, в лепешку навоза, которую я пробил головой. Ребята со смеху схватились за животы. Что оставалось делать, как не присоединиться к общему веселью!
Лошадь – особое существо. Вот взять хотя бы кормление с руки. Кто видел лошадиные зубы, понимает, что это страшное оружие. Однако ты можешь спокойно протянуть на ладони краюху хлеба с солью. И она аккуратно, одними губами ухватит краюху, да и головой мотнет в благодарность. И еще. Мне кажется, что лошадь никогда не сможет наступить на упавшего ей под ноги ребенка, поверьте, сужу по себе: не раз оказывался в такой ситуации, пока осваивал верховую езду.
Сам Николай Васильевич не раз вспоминал, как, уходя на фронт, уже с походным мешком за плечами, пришел на конюшню, чтобы попрощаться со своим конем. Потрепал ему холку, погладил лоб, приговаривая, что, мол, неизвестно, встретятся ли еще. Конь слушал, нервно переступая, а в глазах его стояли крупные слезы. Вспоминая, дядя каждый раз плакал и сам.
Внук мой Артем, когда я ему, маленькому, рассказывал о своей дружбе с лошадьми, всегда смотрел немного недоверчиво. И я понимал: ему невозможно представить меня, длинного, худого, да еще и в очках с мощными диоптриями, верхом на лошади. Ну, как ему объяснить, что не всегда же я был таким!
Были дела и поважнее. Одно из них связано с табаком. Еще по осени Валерка предложил мне закурить. Конечно, сразу согласился.
– А что курить будем?
– Вон ботвы картофельной в огороде сколько хошь, такая же черная и сухая, как самосад, – убеждал братец.
Утащив из дома спички и по куску газеты, мы пробрались за двор, там набрали ботвы, растерли её в порошок, свернули по цигарке. Как это проделывал Николай Васильевич, мы видели в день неоднократно, поэтому цигарки наши хоть и расклеивались, но содержимое не высыпали. Оставалось только поджечь их и закурить. Разожгли с первого раза и даже успели затянуться, но напал такой кашель, подступила такая дурнота, что отошли не скоро.
Домой вернулись бледные, зеленые и притихшие. Забрались на печь и некоторое время отлеживались. Но безделье было не в характере Валерки. «Эх, и дураки же мы, – сказал он в раздумье, – у отца на чердаке самосада полная колода». И мы полезли наверх. Тот после ботвы оказался очень даже приличным куревом.
Постепенно втягиваясь в процесс, мы не могли предвидеть, насколько близок его конец. И не отец хватился самосада, нет, там этого добра на всю зиму было запасено, ибо рос в огороде, как говорится, «дуром». Только суши и руби. Проблема, и большая, – спички. Их привозили из города, да и стоили они денег, которых в деревне всегда нехватка, тем более в такой семье, как наша. Спичек стало не хватать, и долго старый артиллерист недоумевал: «Куда это они деваются, мать их перемать!»
Сдала старшая сестра Галина, увидевшая нас на перемене курящими за стеной школьного сарая. Заложила с откровенной радостью, как только вернулась из школы. Тетка поорала и удалилась по своим неотложным и многочисленным хлопотам. Но приближался вечер, приезд «отца-артиллериста». Учитывая, что трезвый он возвращался редко, хорошего ждать не приходилось. Таким и явился, а мы проглядели. Когда он вошел в избу, Валерка, взметнувшись к двери, успел выскочить, я – нет. Попало под горячую руку за обоих. Так печально завершился первый опыт приобщения к взрослой жизни, точнее, к вредным её привычкам. Вкус к табаку это отбило, но ненадолго.
«Билютня» с кукишем
Рассказывая о деревенском периоде жизни, не могу не вспомнить бабушку Веру, родную сестру бабушки Маигиной и во многом с ней схожую характером, манерами, полным пренебрежением общепринятых норм и правил. Жила она в соседней деревне Новое со снохой и внуком Борисом. Сноху она, по убеждению матери моей, загнала в могилу, а оставшегося на её руках Бориса воспитала, как хотела и могла, стараясь сделать удачливым без особого труда. Потому и выучился он на шофера. Помню его рассказ об урагане в Ростове, когда его грузовик подняло в воздух, закружило и унесло на несколько сот метров, к счастью, без каких-либо тяжких последствий для здоровья. Характером Борис в мать, добрый и ведомый. Таких принято сейчас называть «лузерами». Высокий, стройный и красивый, но полный алкоголик, закончивший жизнь свою лет в тридцать под лестницей собственного подъезда, перебрав поутру одеколона.
Тетушка Надежда Александровна мачеху свою не любила и не почитала, а вот муж Николай Васильевич и уважал, и почитал. И бабушка Вера его уважала, прежде всего, за то, что всегда готов был прихватить, что плохо лежит, да и что хорошо положено – тоже. Называла его не иначе, как «добытчик». И пусть тот любую свою «добычу» тут же пропивал, неважно. Вот он-то нет-нет, да и спохватывался:
– Что-то давненько мы бабушку Веру не навещали. Собери-ка, мать, пацанов. Пусть сбегают в Новое.
Нам вручался узелок с нехитрым гостинцем, и мы бежали.
Бабушка, к тому времени совсем иссохшая, маленькая, пригнутая в пояснице к земле, на свет смотрела тем не менее осмысленно, очень даже зорко без очков.
Помнится, в зимние каникулы был я у неё в гостях. Усадила нас с братом Валеркой за стол, собрала что-то уж очень немудреное из угощения, вроде картошки в мундире, причитая, что, мол, как помочь старому человеку, так некому, а как чай пить – так вся округа за стол. Мы сидели посмеиваясь. С собой мы принесли и ватрушки, и сахар, собранные теткой Надеждой, отправившей нас проведать бабушку Веру.
Узелок с гостинцем при этом быстро припрятала. Мы уселись за стол у окна, а она начала подробно расспрашивать Валерку про отца, про мать, про старших – Валентина и Галину… Меня долго как бы не замечала и только спустя какое-то время спохватилась: «А как там Зоя?» Мать мою она не любила за то, что та хоть как-то выучилась и рано из дома ушла, а отец не позволил мачехе сдать падчерицу в наем какой-нибудь поповской семье. На меня перешла часть той неприязни, усиленная моим безбожием, выразившимся в категорическом отказе креститься. Посему права голоса в той беседе не имел и откровенно скучал, разглядывая в тусклом оконце пустую деревенскую улицу. Тем неожиданнее было появление на ней конной упряжки с санями, вставшей неподалеку. Из саней вывалились трое: два мужика в полушубках и женщина в пальто, с красным ящиком в руках. И я прервал размеренную беседу, больше смахивавшую на допрос, сообщением об увиденном. Тут бабушка Вера выкинула такой фортель, что мы с братом рты пораскрывали. Она стремительно выскочила из-за стола и еще стремительней взвилась на печь. Ну, чисто «бабка-ёжка» на ступе.
При стуке в дверь она слабым, прерывающимся голосом попросила:
– Уж вы, робяты, отворите двери-то.
Так неизвестная троица с красным не то ящиком, не то малым сундуком оказалась в избе.
– Мы от избирательной комиссии к вам, бабушка. Вы знаете, что сегодня выборы в Верховный Совет страны?
– Знамо дело, – послышался стон с печи, – соседки сказывали. Сама-то я на улицу давно не выхожу, ноги не держат…
– Вот мы и пришли. Спускайтесь с печи, ознакомьтесь с бюллетенем и опустите его в переносную урну.
– Ой, да что вы, родненькие, – снова запричитала бабка Вера. – Вы уж эту бюлютню-то сами опустите…
– Разрешаете?
– Дык да.
Один из мужиков вынул из кармана бюллетень и, сложив его пополам, просунул в прорезь.
– Так мы пошли, бабушка?!
– Идите с богом… – тем же умирающим голосом простонала она, хотя до того бодро выспрашивала подробности малитинской жизни и разве что не хохотала. Впрочем, смеющейся я не видел её никогда.
Только вышла троица за порог, Вера соскочила с печи, шустро подбежала к окну и сунула в стекло кукиш:
– Вота вам моя билютня…
Она пережила не только Ленина со Сталиным, но и Хрущева, умудрившись ни разу не проголосовать на выборах. Такая вера у бабушки Веры!
Возвращение
В каждый приезд матери я, прямо как чеховский Ванька Жуков, слезно просил её забрать меня «отсюдова». Но метрики из Мурома всё не присылали, и я опять оставался в Малитино. Наконец в канун Нового года мать приехала радостная, с подарками для сестры и зятя, а мне сказала кратко: «Собирайся, уезжаем». Были сборы недолги, хотя расставание с деревенской босотой получилось все же грустным: как – никак полгода совместной жизни в детстве – это как годы во взрослой жизни.
В Ярославль вернулся в канун Нового года. В памяти остались два неизгладимых впечатления. Во-первых, самый обыкновенный дождь, под которым стояла елка в центре Комсомольской площади и совсем уж никудышный размокший дед Мороз под ней. А во-вторых, посещение столовой в бывшей церкви Андрея Критского, что напротив клуба Сталина, по соседству с мокрым от дождя дедом Морозом. И поразило меня не меню этой столовой, а её огромные размеры. Там, где полагался алтарь, находилась кухня. Остальное обширное пространство, холодное и гулкое, занимали расставленные по всей длине ряды столов, на четырех человек каждый. Я не помню, что мы ели и пили, ибо поглощен был рассматриванием огромных витражных окон и окружавшей публики. Подобное скопление народа я видел разве что на вокзалах при переезде из Мурома.
Вновь оказался у Маигиных-Мурашевых. Стал ходить в школу, что сразу за Донским кладбищем. Мы и бегали в неё через него. Днем – весело, чуть ли не с песнями, вечером – с замиранием сердца и вздрагиваньем при каждом непонятном треске и шорохе. Разговоры при этом велись исключительно о страшных историях с «летающими гробами» и встающими из могил покойниками. Успокоения, понятно, они не приносили, потому разбавлялись всевозможными анекдотами, которых мы, несмотря на юный возраст, знали достаточно. Кто-то начинал: «Ночь. По кладбищу идет мужик. Смотрит —надвигается что-то большое, черное. – «Я черное уродище-е-е!» – «Сгинь-сгинь!» Привидение исчезло. Вдруг с другой стороны надвигается что-то большое и белое. – «Я белое уродище-е-е!» – «Сгинь-сгинь!» И оно исчезло. Смотрит мужик: впереди идет что-то маленькое и серое. Он как заорет: «А-а-а! Я знаю! Ты – серое уродище». – «Так, гражданин, пройдемте в отделение».
Но что интересно, буквально в пяти-десяти метрах параллельно кладбищенской тропе пролегало вполне благоустроенное Фабричное шоссе с редкими, но горящими фонарями, а я не помню случая, чтобы мы предпочли шоссейный свет кладбищенской тьме. Видимо, был у нас, детей войны, какой-то своеобразный иммунитет и неприятие смерти. Само Донское кладбище, тогда вполне «цивильное», еще не превратилось в пристанище любителей спокойной выпивки с долгим сидением и разговорами, о которых несколько позже актер, поэт и бард Михаил Ножкин не без умиления напишет: «А на кладбище всё спокойненько, от общественности вдалеке…».
Хоронили тогда редко, но непременно с музыкой, машиной с откинутыми бортами, гробом кумачовым и обязательной толпой, следовавшей пешком до могилы. Каждая такая встреча на пути была событием, взволнованно обсуждавшимся в семейном кругу. Меня же траурная музыка ввергала в какой-то ступор, и потому, едва заслышав печальные мелодии, я старался обойти процессию стороной, взглянуть же на покойника не мог вообще. Но скоро пришлось.
Примерно в середине второго класс нам сообщили о смерти ученика нашей школы, кажется, из первого класса, погибшего под колесами грузовика. Вообще-то оказаться под колесами машины тогда было весьма затруднительно, ибо было их очень мало, а по сравнению с днем сегодняшним ничтожно мало. Скажем, у себя на окраинной улице мы могли увидеть машину не чтобы не каждый день, но и не каждую неделю. Другое дело Фабричное шоссе.
Оно пересекалось железнодорожными путями, тянувшимися до самых нынешних Полянок. Там промышленно добывался торф. А вывозили его в небольших вагонах с помощью обычных лошадок. У комбината «Красный Перекоп» была для того своя конюшня с полусотней коней. Колея упиралась в ворота длинного-предлинного забора, огораживавшего хлопковые склады и находившегося там же дома (скорее, усадьбы с садом и прудом) тогдашнего директора комбината Кустарева, Героя Социалистического труда и одновременно свояка главы советского правительства Косыгина.

