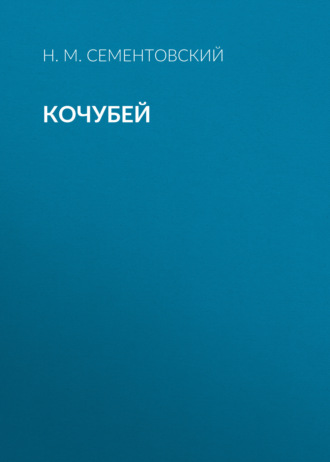
Кочубей
– Все воля Его Святая!
– Поздно уже, пойдем, спать пора.
Василий Леонтиевич и Любовь Федоровна ушли.
XVIХодит по саду одна-одинешенька Мотренька и жалостно поет. Сядет под березою, склонит прелестную головку на белую ручку, смотрит на сорванную, только что распустившуюся розу и жалеет, что завянет она не на родной ветке; вздыхает, а сердце ее плачет, горько плачет; невесело ей на свете, и горя она не знает, слезы льются из черных очей… пусть льются, сердцу легче, – ни мать, ни отец не увидят их, не увидит их никто из людей, да и не засмеются…
Не сирота Мотренька, есть у нее отец и мать, знатные люди, да что, они не помогут в ее горе, сердце болит без милого: на что тогда и счастье, на что и самая жизнь, без милого все могила.
Но где ее милый, в какой стороне, не москвич ли белолицый со светлыми усами? – не потому ли Мотренька тоскует, что уехал он в московщину, не ляха ли полюбила, что в красном аксамитовом кунтуше часто приезжал до гетмана? Видно, ляха! Ибо идет Мотренька к гетману и радостно смеется, надеется увидеть коханого… Но ляха не Иваном зовут; где же Иван, которого она полюбила? Ни отец, ни мать и никто не знает, а Мотренька все горюет да горюет.
Три дня бедняжка сидела в саду, да тихонько, чтобы никто не видал слез, плакала, три дня сильно тосковала, встанет рано, помолится Богу, поцелует руку у матери и отца, тихонько отворит двери в сад, да была такая! И нет; мать спрашивает, где Мотренька? Из одной комнаты в другую пойдет – нет дочери.
– В сад ушли панночка! – ответит девка, услуживавшая Мотреньке.
– Плакать! Пусть плачет: как и я была молодою, плакала и я, пусть плачет, сердцу легче будет! – скажет Любовь Федоровна, сядет на диван, поджав под себя ноги, вяжет чулок, сидит молча и думает: как она будет угощать гостей на Мотренькиной свадьбе.
А Мотренька в саду то песенку веселую запоет, то вдруг горько заплачет, то печально запоет и засмеется, то горько засмеется.
– Когда бы я знала, когда бы я видела того Ивана, сама бы привела в церковь и поставила бы с дочкой в парочке, только б Мотренька моя не тосковала… жаль дочки, да что ж делать, не знаю я Ивана… а спросить не хочу, не скажет, сама я знаю, и еще больше затоскует…
– А я знаю, какого она полюбила Ивана! – сказал Василий Леонтиевич.
– А какого, скажи, когда знаешь?
– Москалика!
– Так и есть, горе ж мое, горе, да тяжкое горе! Горе отдать за него Мотреньку: повезет, недобрый, в далекий край, не повидят ее больше мои старые очи, не прижму ее к своему сердцу… горе, тяжкое горе! А подсунуть москалику гарбузец, затоскует моя дочка не так, как теперь тоскует; когда б знала, что москалика полюбит, лучше б в Батурине не жила; когда б знала, что будет так горевать, лучше б маленькою заховала. Кого бы ни полюбила, рада б отдать дочку, не за москалика!..
– Полюбила, да и разлюбит!
– Ты не знаешь девичьего сердца! – вздохнув, сказала Любовь Федоровна и только было хотела пойти к Мотреньке, как гайдук вошел в двери и сказал, что приехал гетман.
– Вот тебе и снег на голову… и не ждали и не думали!
Василий Леонтиевич побежал надеть жупан, Любовь Федоровна вышла встречать кума.
– Здравствуй, добродейная моя кума, здравствуй, радости моей радость! Душа веселится, сердце несказанно торжествует, когда очи мои видят тебя, Любовь Федоровна!
Мазепа несколько раз с жаром поцеловал руку Любови Федоровны.
– Кум, дорогой кум, давно ты не был у нас, забыл нас, своих родичей; грех, ей-ей-же, грех… не люблю тебя за это!
– Мать моя родная, ей-же-ей, царские дела, ни день ни ночь покоя нет!
– Зачем же ты не бережешь свое здоровье, ведь тебе не молодеть, а посмотри на голову, чуприну снег присыпал… куме, куме, бросил бы ты все дела да знал бы одного себя, есть у тебя и без московских приятели еще повернее и получше…
– Всех, кума моя добрая, надобно любить: и врагов любите ваших, сказал Господь!..
– Да ну, куме мой, брось ты врагов! На что их вспоминать, слава Богу милосердному, есть не враги, об них слово доброе сказать не в тягость.
Жупан Василия Леонтиевича лежал в шатре, разбитом в саду, он пошел в сад – смотрит, Мотренька сидит задумавшись.
– Мотренька, крестный отец твой приехал, как тебе не стыдно сидеть да печалиться!.. Вот, постой, я все расскажу гетману! – сказал нежно любящий свою дочь Василий Леонтиевич.
Мотренька побежала в дом, умылась, причесала голову; радость, как солнце из-за туч, просияла на обворожительном ее личике, и она, как светлая звездочка, вошла в комнату, где сидел гетман.
– Здравствуй, доню!
– Здравствуй, батьку!
Сказала, опустила пламенные очи в землю и, как маков цвет, покраснела, подошла к руке крестного отца, поцеловала ее; Мазепа поцеловал крестницу в уста и посадил ее подле себя.
Вошел Василий Леонтиевич.
Гетман и судья поздравствовались, обнялись, поцеловались и сели.
– Буду жаловаться тебе, ясновельможный, на дочку твою.
– За что?
– Да смех сказать, – говорил Василий Леонтиевич, смотря на Мотреньку, которая сидела как мертвая и поминутно то краснела, то бледнела.
– Ну, что? Говори, пожалуйста, куме, я как крестный отец, да еще гетман, так не посмотрю, что она родная твоя дочь, а за что будет – пусть не прогневается… в Гончаровке у меня, сами знаете, сад густой, – смеясь, говорил Иван Степанович и украдкою страстно посматривал на Мотреньку.
– Спроси, сделай милость, куме, какому она Ивану песни поет! – сказала Любовь Федоровна. Мотренька как мертвая побледнела.
– Ага, a что, дочко, ты думала, что мать ничего не знает? – сказал Василий Леонтиевич.
– Ну, доню, скажи мне правду, какому Ивану песни поешь?
Мотренька молчала.
– Скажи, доню, или ты уже сердишься на меня и не хочешь отвечать?
– Никакому.
– Ей-ей, неправда, доню, неправда, я сама слышала и видела, как ты и косу против месяца чесала!
Мотренька подняла свои черные глаза, посмотрела на мать, опять опустила их и ни слова не сказала.
– В москалика влюбилась, – сказала Любовь Федоровна.
– В москалика, в москалика, – подтвердил Кочубей.
– Нехай, доню, лихо москаликам, есть у нас свои Иваны, черноусые да красивые, люби, дочко, своих лучше.
– И я то же самое говорила ей – да вот беда, москалик приглянулся!
Мазепа засмеялся, взял Мотреньку за голову, приклонил к себе и поцеловал ее в уста.
– Я сам найду жениха, знатного воеводу или боярина!
Мотренька встала, едва могла удержаться, чтоб не заплакать, и ушла в другую комнату.
Недолго посидел гетман и уехал, прося Василия Леонтиевича и Любовь Федоровну посещать и не забывать его.
Гетман со двора, а Чуйкевич на двор. Мотренька увидела приехавшего и сильнее прежнего задумалась.
Гостя, как и всех гостей, Василий Леонтиевич принял радушно, Любовь Федоровна также была рада приезжему.
Позвали Мотреньку, Чуйкевич в первые минуты смутился, потом пришел в себя и завязался довольно веселый разговор.
Любовь Федоровна говорила, как летом скучно в Батурине, нет ни свадеб, ни банкетов, негде повеселиться, а молодым потанцевать.
Чуйкевич утверждал, что скоро будет банкет у гетмана, Мазепа получил от царя шубы, соболи, аксамит, четыре села и пять деревень, в которых четыре тысячи девяносто пять душ и тысяча восемьсот семьдесят дворов.
– Знаем про милость царя-государя к нашему ясновельможному гетману, знаем и поздравляли Ивана Степановича, а когда будет банкет, так и повеселимся! – сказал Кочубей.
– За что ж подарил царь Ивану Степановичу столько сел и деревень? – спросила Любовь Федоровна.
– Чтоб не ходил на войну против шведов; царь бережет нашего гетмана; кому не известно, как он любит его, хотя, правду сказать, Иван Степанович… да что ж будешь делать… – Чуйкевич замолчал.
– Ну, ну, что же Иван Степанович? – спросила Любовь Федоровна.
– Да так, ничего! – говорил Чуйкевич.
– Вот так, испугался! То-то все вы думкою богаты, а на деле так за стену прячутся, знаем вас!..
– Иван Степанович благодетель наш! – сказал Кочубей.
– Благодетель, истинный благодетель, я сам говорю!
Час был двенадцатый, в большой комнате приготовляли стол для обеда, Любовь Федоровна также засуетилась. Чуйкевич подойдет к Мотреньке, скажет ей два-три слова, Мотренька отворотится от него, пересядет на другое место, Чуйкевич тоже покраснеет и опять начнет разговаривать с Любовью Федоровною.
– Что в такие жаркие дни делаете вы, Любовь Федоровна?
– Все думаю, за кого бы дочку мою отдать замуж, да не придумаю, пора уже, слава богу, восемнадцатый год; скорее из дома, меньше хлопот!
– Вот, женихов нет! – сказал Василий Леонтиевич.
Чуйкевич вздохнул, покраснел и, чтобы не заметили его смущений, начал закручивать усы.
Кочубей вышел из комнаты.
– Любовь Федоровна, мать моя, я давно хотел сказать… да все не смею, – начал Чуйкевич, севши подле Кочубеевой, и поцеловал ее руку, – да все не смею, хоть сердце крепко, крепко болит… Ох!.. – Он тяжело вздохнул.
– От чего у тебя сердце болит?
– Болит, крепко болит, Любовь Федоровна…
– Вот еще, выдумал! Казак, посмотреть на него любо, а рассказывает, что сердце болит; пусть болит у дивчат, а не у вашего брата! Недаром же стыдно говорить тебе об этом!..
– А что, не от Мотреньки ли болит сердце его? – спросил Василий Леонтиевич, войдя в комнату.
– Да, так, вы угадали, – пробормотал Чуйкевич.
– От Мотреньки? – спросила Любовь Федоровна.
– Да разве не слышала, он сказал, что от Мотреньки.
– Мотренька, что это значит?
– Не знаю!
– Давно ты полюбил Мотреньку?
– Давно, Любовь Федоровна, мать моя родная!
– Ну что ж ты опустила очи-то свои в землю, дочко? Не сегодня, так завтра, а все надобно замуж, целый век не сидеть в доме отца и матери, такое дело!
– Так, так! – сказал Василий Леонтиевич довольно серьезно.
– Вот жених сыскался, о чем же еще думать.
– Воля ваша! – отвечала Мотренька, понимая мысли отца и матери.
Чуйкевич был невыразимо восхищен.
– Пойдем обедать, борщ на столе прохолонет! – сказала Кочубеева.
Все вошли в другую комнату, где был накрыт стол, и сели обедать.
– Ну когда так, надобно рушники готовить!
– А ты и не наготовила еще? – спросил Василий Леонтиевич.
– Да кто же знал, что Господь Бог так скоро пошлет жениха.
Приняли борщ, подали другие кушанья, разговор не прекращался ни на минуту; когда подали жаркое, Любовь Федоровна мигнула стоявшему подле нее гайдуку Ивану Иванову, гайдук усмехнулся, поняв знак Кочубеевой, и тотчас ушел.
– Когда же ты думаешь, сынок, за рушниками-то приехать?
– Когда скажете!
– Это твое дело.
– Да хоть через неделю.
В эту минуту Иван поставил на стол огромный печеный гарбуз.
– Вот так еще, и гарбуз на закуску! – сказала Любовь Федоровна. – Кто же это постарался: я не приказывала печь гарбуза, это ты, Мотренька?
Мотренька смеялась и, закрывая лицо платком, сказала:
– Нет, не я, не знаю!
– Сегодня бы гарбуза не следовало подавать, да когда уже на столе, так нечего делать, будем есть.
Чуйкевич покраснел и догадался, для чего подан гарбуз, и, когда поднесли ему кусок на тарелке, не захотел есть.
– Жаль, что ты, сынок, не хочешь есть, а гарбуз сладкий, я страх как люблю печеные гарбузы.
Встали из-за стола. Чуйкевич взял шапку и, сколько его ни удерживали на вечер, уехал.
Целый день Любовь Федоровна, Василий Леонтиевич и Мотренька смеялись над Чуйкевичем.
– Скажи мне, сделай милость, кого же ты любишь, дочко моя?
– Никого, мамо!
– Неправда, не верю!
– Никого!
– Ивана, я знаю, да какого Ивана?
– Ни Ивана, ни Петра и никого!
– А плачешь отчего да печалишься?
– Так!
– Все так!
– Пусть плачет и печалится, пройдет все! – сказал Василий Леонтиевич.
– Пусть плачет, я не пеняю, но говорю ей только одно: не забудет советы мои, счастлива будет, обождет год-два, Бог подаст, в наших руках будет булава, тогда не Чуйкевич станет свататься, гетманская дочь, не судьи!
Мотренька ушла.
– Молода еще, ничего не понимает! – сказал Кочубей.
– Известно, дивчина! Ей лишь бы скорее замуж, вот и все!..
– Пусть обождет, дождется своего!..
XVIIБыл двенадцатый час ночи, в Бахмачском замке все уже спали, тускло горели свечи в спальне гетмана. Иван Степанович сидел задумавшись в своей комнате, он велел позвать Заленского, его тревожило положение Польши, которой он был предан душой и телом; перед ним на столе лежал лист бумаги и на нем начернена дума его сочинения:
Все покою шире прагнуть,А не в один гуж все тягнуть,Той направо, той налево,А все братья – то-то диво…Тихо растворилась дверь комнаты, гетман поспешно перевернул лист со стихами и торопливо оглянулся, за спиною его стоял Заленский в черном длинном плаще, сложив крест-накрест на груди тощие руки.
– Здравствуй, Заленский, один приехал или с Орликом?
– Один!
– Добре сделал! Ну садись, потолкуем еще с тобой о давнишнем нашем деле.
Заленский сел.
– Вот, я написал думу, слушай.
Гетман взял лист и прочел думу.
– Как тебе кажется, ясно всем будет?
– Понятно и убедительно, ясновельможный!
– Твое дело стараться распустить ее в народе, простым казакам, сердюкам и всем приверженным ко мне сказать: будто бы это я сам сочинил, а между тем, Заленский, пора нам, давно пора приниматься за дело, что пользы мне оставаться в подданстве московском, когда я сам могу быть царем… Справедливо, обстоятельства теперь не хороши, но переменятся, и все дело на лад пойдет, прежде всего надобно приготовить народ, особенно запорожцев; я думаю разослать в города и села верных сердюков и научить, чтобы они из-под руки говорили народу: что-де царь хочет запорожцев уничтожить, а когда будут сопротивляться, так всем отрубить головы, сказал-де, царь не терпит их и называет разбойниками, а не храбрыми лицарями. То же самое распространить и в Гетманщине.
– Добре, дюже добре, – с полным участием, распахнутою душою сказал иезуит, – только же и трудно: дурный, дурный Хмельницкий! Все дело испортил, взявши Гетманщину в руки, не ссорься он с нами, дружись с королем польским, и только слово скажи: «Я король русский!» – и был бы король русский! Побратался бы с королем польским, поделили бы землю: Москву бы Богдану в королевство Русское, а Ливонию, Литву, Пруссию, Венгрию, Молдавию, Турцию и Крым – королю польскому. Вдвоем они целый свет завоевали бы святейшему отцу нашему Папе; недоверки и схизматики русские, грецкие и лютеровские и не почуяли бы, как пали бы к святейшим стопам, и было бы едино стадо и един пастырь, царство Божие в боголюбезном Риме и во всей вселенной…
– Спасибо, Заленский! Королевство русское пошло бы в руки королевским детям, а мы с тобой и остались бы навеки: я – королевским казаком, ты – каким-нибудь сельским ксендзом… Нет, господа иезуиты, неискусно вы за дело взялись… да и Унию не так бы я повел: с Богданом вы уж чересчур пересолили. На его месте я бы тоже пристал к Москве, а то тут вы, святые отцы, да жиды, да польские паны, да короли, да турки, да татары, да москали – Гетманщина чисто в пекле кругом! Пока-то дошло бы дело до королевства, всю бы испекли, как гарбуз; народ тогда и слышать не хотел о римской вере; не умели вы взяться, всех озлобили… У меня теперь другое дело… Нет, Заленский, не поддайся Богдан Москве, не справиться бы Украине, не гетманствовать бы и Мазепе, не беседовать бы с тобой о королевстве! Теперь Гетманщина окрепла, побогатела, сама царство крепкое – сама потягается с Москвою, только бы не изменили ко мне своей дружбы короли польский и шведский, мои благодетели, да вы, отцы святые, так теперь мы лучше обделаем дела. Наше дело поджигать смуты бояр, стрельцов и народа; бояры за бороды да за жупаны готовы на все, царь озлобил всех, во мне видят они посланника небесного, защитника их вековых обычаев и дедовских нравов: дочек из теремов повыводил, женам лица открыл, на сором снявши хустки, которыми они закрывались, как проклятая татарва да турковня, да еще и курить тютюн всех заставляет, а на ассамблеях танцевать!.. Ну, из Киевской Академии мы пустим в Москву ваших дельцов, иезуитских питомцев, царевич тоже поможет нам… Нет, Заленский, ты еще худо понимаешь историю. Богдан добре посеял! Пора косить да жать. Москва уснула на Гетманщине, как на смертном одре своем: только бы до поры до времени не пробудилась, тогда увидишь сам…
– Великий разум твой, ясновельможнейший, во всем воинстве святейшего отца нашего нет тебе равнаго!..
– То-то же!.. Когда приготовим свой народ, нам нечего бояться; на всякий час я готов буду отдаться шведскому королю, а когда я буду королем, ты мой первый министр, сам для себя старайся, – видишь, Заленский, душа моя перед тобою открыта. Царю писать буду, что я его вернейший раб и нижайший слуга. Царь пусть шлет нам дары, а мы все будем мотать на ус да ждать лучшего времени, придет погодка, вот тогда и покажем, что у нас было на уме и на сердце, одумается царь, да поздно будет, мертвого из гроба не вынимают, а до того времени я преданнейший его гетман, униженный раб. Слава Богу милосердному, донести, думаю, некому, всех настращали, да если бы и доносители явились, так дела не знают… Царь так уверился во мне, что тотчас головы доносчиков полетят на плаху. Чтоб не было приметно для народа, укреплять Белую Церковь, свозить туда в подвалы сколько можно более пороха и всяких снарядов; стараться, чтобы города полковые были слабо содержимы, пусть царь заботится укреплять Киев, не великая беда – Киев легко взять соединенными силами, да шведы одни разгромят его в пух. Так, Заленский?..
– Так, ясновельможный! Истинно так!..
– Не быть Гетманщине под властью царя!.. Разве полковникам, старшине да и всем радостно слышать от москалев, что мы мужики, что мы рабы, – кому это сладко?!. Нет, Заленский, не быть Гетманщине в верности и подданстве у Московского царя. Слушай, я тебе скажу, как он раз обидел меня: я был в Москве, обедали мы у Меншикова, царь обедал с нами, ты не видал, как мы до этого дружно жили; бывало, он поставит мне свою пригоршню, я налью ее полную вина и выпью, потом подставлю ему свою, он также нальет и выпьет, мы обоймем друг друга и крепко поцелуемся, ну да и это не дело! Вот слушай, сидели мы за обедом у князя Меншикова, царь долго говорил о делах своих, хвалил тех из бояр, которые с радушием перенимают все у немцев, шьют кафтаны на немецкий лад и бреют бороды… Не всем такие по сердцу были слова царевы; Петр видел и кипел от досады, а приятели, то и дело, поджигали, потом обратился ко мне и сказал: «Пора мне и до вас, казаков, добраться!..»
– Нет, царь, обожди, не пришел еще час тревожить Гетманщину, – сказал я, покрутивши усы, то есть, знай наших. Петр еще больше рассердился, и как бы ты думал, мой зичливый приятель Заленский, что он сделал?
– Что ж, ясновельможный, мог сделать тебе царь!
– А вот что, как своего последнего гайдука схватил меня за усы и закричал: «Пора мне за вас приняться!» – и ударил меня по щеке… меня ударил, Заленский!.. Слышал?.. Меня ударил по щеке царь! – Мазепа сказал это сквозь слезы и всем телом затрясся, глаза его пылали, потом он вмиг побледнел.
Заленский сдвинул плечи, обратился к образу, перекрестился и сказал: «Иисус Христос, помилуй нас!»
– Да, вот тебе, наша дружба до чего дошла!
– Ясновельможный, ясновельможный, святейшая глава римского христианства не потерпела бы этого, если бы в Гетманщине было святое владычество ее.
Мазепа тяжело вздохнул, покрутил свои усы и продолжал:
– Не думай, Заленский, чтобы именно с того часа я понял царя и замыслил отложиться от него – нет: в тот самый час, как Василий Васильевич Голицын отдал мне булаву, я взял ее и задумал отстать от московского царя; и вот, до сей минуты тешусь этою мыслию, сплю ли я, сижу и говорю с тобою, или с народом, или в таборе, или в Москве, или где бы я ни был, все думаю об одном: отстать от Петра. Разве и я не могу быть другим Петром, разве Гетманщина теперь не может быть царством, а я царем?.. Разве недостанет казацких сабель, чтобы забрать и москалев… все может быть, – ты знаешь, у нас под боком ляхи, не любят Московского царства, шведа разозлили насмерть, татарин от первого дня света Божьего воевал с Московиею и не забыл азовских походов, чего же ты еще больше хочешь, чего мне думы думать?!.
– О, пошли Иисус Христос тебе царство, тогда от Рима через твою Московию проложим дорогу и в Швецию! Тогда истинное христианство, предстательством святейшего Папы у апостолов Петра и Павла, прольется по всему свету!
Мазепа, довольный словами Заленского, улыбнулся, слегка ударил его по плечу и продолжал:
– Так пошли, Господь, силу и единодушие казакам и всем дружелюбным с нами королевствам!.. Ты, Заленский, знаешь, что Польша передо мною как былинка гнется, а Карлу я больше нежели родич, перед Карлом вся Европа трепещет! Дульская отдаст мне свою руку и обещает княжество, но мало этого, Карл поможет на седую голову мою надеть корону… Ты знаешь, с нами и Франция заодно, а когда Франция, так и еще найдутся другие короли, говорю, Европа страшится Карла, и что же после такой силы один – царь.
– Ничего, одной саблей во славу святейшего отца можно взять Московию!..
– Так слушай же, настал час, пора приготовлять Гетманщину, пусть в народе ходит слух, что я затеваю доброе дело: умные сами захотят этого, научат безумных, и все пойдет на лад, прощай.
Иезуит поклонился и ушел.
Мазепа взял перо, бумагу и начал писать письмо к царю: «Не только в Сечи Запорожской, в полках городовых и охотнических, но и в людях, самых ближних ко мне, не нахожу ни верности искренней, ни желания сердечного быть в подданстве у Вашего Царского Величества, как я точно сие вижу и ведаю, для чего и принужден обходиться с ними ласково, обходительно, не употребляя отнюдь строгости и наказания». Прочитав и исправив, гетман спрятал письмо и ушел.
XVIIIСолнце показалось из-за синих гор, и утренний туман, покрывавший Батурин, как волны на море, заклубился; громко защебетали по садам тысячами голосов птички, проснулись батуринцы; на улицах собирались с дворов коровы, и пастух, наигрывая на свирели, погнал стадо в поле; зашумели казаки, собираясь ехать на работы, и заскрипели возы под высоко наложенными снопами золотистого ячменя и колосистого жита. Горожанки с кошницами, в зеленых с красными мушками байковых кофтах, спешили на базар; заблаговестили к ранней обедне, и в растворенные двери церквей проходящий народ видел горевшие свечи перед местными образами, останавливался у дверей храма и, с благоговением молясь, крестился.
В этот час девица, жившая в гетманском замке несколько лет и смирявшая характер властолюбивого Мазепы, сидела у окна, обращенного в сад, поминутно крестилась и, казалось, была чрезвычайно неспокойна духом, гетман еще спал. В Гончаровке было тихо; гайдуки и стража, вставшие рано, вновь беспечно дремали, одни у дверей, другие сидя на креслах, диванах и где попало; двери были все отворены, и в комнаты был свободный вход и выход.
Долго сидела девица, потом вдруг встала с кресла, побежала в другую комнату и остановилась у дверей; через несколько секунд в комнату вошел старец монах; в левой руке он держал небольшую медную тарелку, прикрытую черным воздушком с вышитым посредине серебряным крестом, а под мышкою была у него книга для записывания подаяний на монастырь. Перекрестившись на иконы, монах обратился к девице и благословил ее, девица поцеловала его руку.
– Благодари милосердного Бога, все готово для твоего пути, собирайся – да благословит тебя Творец и сохранит Пречистая Царица Небесная от всякого зла и напасти!
Девица перекрестилась.
– Где же гетман, он обещал дать вклад в Печерский монастырь?
– Спит еще!
– Пусть спит, я обожду, мне надобно видеть его сегодня, я больше не приду сюда, и чтобы отклонить всякое подозрение в побеге твоем, скажу ему, что сегодня же иду обратно в Киев. А ты через три дня вечером, как я тебе и говорил, выйдешь в сад к берегу, сядешь в челнок, казак привезет тебя в деревню, оттуда поедешь с Богом, и никто тебя не узнает.
Девица молчала.
– Я и теперь приехал из деревни в челноке и хоть сейчас садись, все готово, но лучше не спешить.
В это самое время внизу, у входа в дом, раздался чей-то громкий, знакомый голос. Девица затрепетала, отшельник также смутился, но, перекрестясь, ободрился и сказал:
– Успокойся, Господь с тобою!
В комнату, где сидела девица и подле нее отшельник, вошел, побрякивая саблей, в красном бархатном кунтуше, граф Жаба-Кржевецкий, приехавший полчаса назад с Волыни; увидев сидевших, он в первое мгновение остолбенел, побледнел и чуть-чуть не повалился на пол.
Девица всплеснула руками, бросилась перед образом на колени, едва успела оградить себя крестным знаменем и упала на пол почти без чувств.

