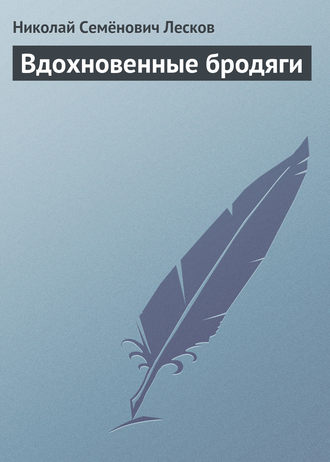
Вдохновенные бродяги
Магомет не поверил женам, будто человек может съесть такое количество каши с тюленьим жиром и, призвав Бараншикова, стал его допрашивать по-турецки: «Ислям Баша! нероды чок Екмель?» то есть: «как ты кашу ел? Если горшок треснул – отчего твое брюхо не треснуло?» А Баранщиков весело отвечал паше: что это неважно, а что он еще два горшка съест. Магомет совсем изумился и сказал: «Ну, россияне! Вот так народ! Недаром они сожгли в Чесме турецкий флот, разбили корабли и умертвили храбрых турецких витязей! Но скажи, пожалуйста, – отчего вы такие сильные?» На такое любопытство Магомета Баранщиков отвечал «хорошую ложь» (sic). Он сказал так:
«– Наши солдаты презирают смерть: у нас есть трава, растущая в болотах, и когда наш янычар (т. е. солдат) идет на войну, лишь бы только ее укусил, то не подумайте, чтобы один человек не напустил на двести ваших турок, т. е. ики Юс Адам (sic). Так и я такой же, меня не подумай удержать; я тебе служу год и два месяца, а ты, Магомет, должен, по повелению великого нашего пророка Магомета, через семь лет отпустить меня на свободу и дать мне награждение, и тогда я куда хочу, туда и пойду» (стр. 21–23).
«Совесть Магомета изобличила», и он сделал Баранщикова «на некоторое время счастливым». Содержал его вроде домашнего артиста и начал часто приглашать к себе гостей, заставляя Баракщикова приготовлять и есть при них разопрелую кашу с тюленьим жиром, а потом рассказывать при всех «хорошую ложь», т. е. хвастать про ту траву, растущую в болотах, вкусивши которой, русские становятся неодолимо мощны. Гости с постоянным удивлением смотрели на обжорство Баранщикова, а потом, когда слушали его хвастовство, то качали головами и давали ему «понемножечку денег». Баранщиков же думал, что теперь он уж стал настоящая «душа общества» и не ждал конца этому приятному положению.
IX
Дурацкие представления, которые давал Баранщиков, разумеется, скоро наскучили, и публика не съезжалась больше смотреть на его обжорство, Баранщиков лишился артистического фавора и опять «почувствовал печаль о своем отечестве и о христианской вере, о жене и о троих детях». Тогда он решился воспользоваться тем, что его никто не стерег, и он убежал от своего господина, но как он ранее не разузнал дорогу в Россию, то не знал куда идти, и его опять поймали и привели к Магомету, а Магомет велел «бить его по пятам палками шамшитового дерева до болезни».
После такого наказания Баранщиков долго провалялся, а когда поправился, то сейчас же принялся искать средств так убежать, чтобы его уже не поймала и не били. Баранщиков пошел на корабельную пристань и стал там толкаться между корабельщиками, отыскивая «добродетельного» человека христианской веры, который бы его выручил из плена. Судьба ему поблагоприятствовала, и он нашел грека Христофора и попросился на его корабль. Христофор согласился его взять, но предварительно «учинил ему увещание». Он сказал: «как ты живешь у богатого господина, то смотри, ты ничего из его дому не украдь» (стр. 25).
Баранщиков дал слово, что красть не будет.
В условленный день Баранщиков явился на корабль Христофора, и они отправились в Константинополь. По пути они заходили в Яффу, Венецию, Микулу и Смирну.
Из Яффы Баранщиков с Христофором и двадцатью христианами ходили в Иерусалим на поклонение святыням.
Грек Христофор, придя в Иерусалим, свел Баранщикова к греческим священникам и рассказал им о его злополучной участи и о невольном (будто бы) магометанстве. Иерусалимские, греческие священники отнеслись к магометанству Баранщикова очень снисходительно, так как в их народе, при совместном житье с турками, переходы в магометанство и назад бывают нередко. Греческие духовные сейчас же разрешили Баранщикова и, в знак освобождения его от магометанской веры, «приказали сторожу заклеймить его на правой руке образом распятия господня. Клеймо это большое, устроено все из игол, усаженных в крепкой доске железной, натертой порохом» (sic). Баранщикову было очень больно, когда его этим заштемпелевали, но зато теперь он стал опять православный христианин, каков был ранее до пленения его разбойниками.
В Венеции Баранщиков предъявлял свой старый испанский паспорт и получил от местного управления другой печатный паспорт с изображением на оном почивающего в Венеции святого апостола и евангелиста Марка.
В Микуле Баранщиков ходил к российскому консулу из славанцев Контжуану, который отнесся к нему очень участливо и велел ему явиться в Царьграде к русскому министру Якову Ивановичу Булгакову.[2]
Когда корабль пришел в Константинополь, Христофор поблагодарил Баранщикова за службу и, снабдив его греческой одеждой, расстался с ним, но денег ему не дал ии копейки, и Баранщиков всю свою надежду теперь возложил на русского министра Булгакова.
Х
На другой же день Баранщиков пошел в Перу, где жил российский министр. Самого Булгакова Баранщиков не видал, потому что, по случаю моровой язвы, свирепствовавшей в Царьграде, Булгаков выехал из города на мызу. Тогда Баранщиков обратился к домоправителю Булгакова и «изъяснил ему все свои обстоятельства». Но «г. домоправитель не подвигнулся примером добродушного грека Христофора» – и мало дал веры рассказам Баранщикова и на паспорты его не обратил внимания, а «приказал, чтобы он никогда в дом императорского министра не ходил, претя отдачею, буди приидет, под турецкую стражу, сказав притом с негодованием: как бы то ни было, что ты магометанский закон самовольно или принужденно принял, нужды нет вступаться его превосходительству, много вас такихбродяг, вы все сказываете, что нуждою отурчали».
И вот Баранщикову при русских стало хуже, чем у чужаков, и пришлось ему добывать себе пропитание поденной работой на корабельной пристани. Плата была изрядная: по два левка в день, т. е. по 1 р. 20 к., но жить было дорого, и денег едва хватало. В свободное от работы время Баранщиков не раз ходил в бедном греческом платье в российский гостиный двор и искал покровительства у приезжавших туда русских купцов, Но все русские купцы были тоже народ тертый и, как Булгаковский домоправитель, совсем не верили «скаскам» Баранщикова и помощи ему не оказали. В этом горестном положении, оставленный неимоверными русскими, Баранщиков обратился опять к легковерным туркам и среди их случайно встретил близ гостиного российского двора двух, с которыми сошелся и опять надолго отвлекся от осуществления своего страстного стремления возвратиться на родину и соединиться с любимою семьею и с истинною святою, православною верою.
XI
Новые знакомые, которых Баранщиков встретил у гостиного двора, «весьма изрядно» говорили по-русски и называли себя сапожниками из Арзамаса. Один из них, по имени Гусман, пригласил Баранщикова к себе на дом, «обещая счастие». Баранщиков пошел и сразу же убедился, что опять попал к магометанину. Гусман имел трех жен и увещевал Баранщикова позабыть про свое отечество и принять магометанство. А когда Баранщиков «из простодушия» и в предотвращение какой-либо беды открылся, что он давно уже магометанин и хорошо знает весь закон Магомета, то Гусман пригрозил ему и сказал: «для чего же ты, будучи в Магометовом законе, носишь одежду греческую? Ты знаешь ли, что за сие смерть определена?» Баранщиков испугался, «пал ему в ноги и просил пощады». Гусман оказался человек не злой, вместо того, чтобы вызвать против Баранщикова свирепое турецкое зверство за то, что он перекидывается то в христианскую веру, то в магометанскую, выдумал очень благочестивую штуку, Гусман наказал Баранщикову скрыть, что он уже потурчен, с тем, чтобы еще один раз произвести над ним воссоединение к магометанству, – за что там набожные магометане подавали новосоединенным пособия и награды. Баранщиков видел, что Гусман хочет сделать из него прибыльную статью, и ему не сопротивлялся. А Гусман тотчас же побежал к имаму, «т. е. попу», и купил у него за 20 левков такую записку: «Россиянин Василий пришед в Стамбул, т. е. Царьград, добровольно принял Магометов закон, научен молитвам и наречен именем Исляма». При этом имам Ибрагим выучил Баранщикова одной Магометовой молитве.
Гусман же строго наказал Баранщикову, чтобы он делал вид, будто ничего не знает по-турецки, кроме одной той молитвы, которой его научил имам. Так Баранщиков и начал выдавать себя за новоприявшего Магометанский закон, а Гусман начал этим аферировать.
Этот магометанский пройдоха прежде всего повел Баранщикова к великому визирю, который за принятие Магометовой веры повелел выдать Баранщикову сто левков и определил его в янычары с жалованием по 15 пар (22 1/2 коп.) в сутки. От визиря оба плута пошли по другим турецким господам и богатым купцам, которых Гусман знал как людей благочестивых и неравнодушных к вере. Всех их они надули. Гусман им рассказывал, как Баранщиков проклял свою прежнюю веру и посвятился магометанству, и теперь его надо поддержать, чтобы он мог жить, не боясь свопих прежних христианских единоверцев, а турки-купцы и знатные особы все поверили этим рассказам и давали им деньги. «Таким притворством святости и посредством хождения в мечети насбирали они через одну неделю 400 левков (240 руб.)». Сумма для двух негодяев очень хорошая, но с разделом ее вышла неприятность. Баранщиков рассчитывал все эти деньги взять на молитвы себе, так как они были подарены мусульманами для поддержания его благочестия, но Гусман захотел получить себе долю из сбора за то, что водил Баранщикова к благодетелям, а как Баранщиков не видел надобности с ним делиться, то у них из-за этого произошла неприятность, и Гусман прибег к угрозе, что он расскажет о притворстве Баранщикова и «добьется для него смертной казни». Тут Баранщиков увидал, что дело опасно, и чтобы развязаться с дурным товарищем, дал Гусману половину (200 левков) из того, что они собрали, и Гусман этим удовольствовался.
Поправив свои денежные обстоятельства, Баранщиков опять надолго успокоился насчет православия и своего семейства и не спешил возвращением на родину, а служил янычаром и жил в казармах «под командой чиновника, по их названию юг-баши». Ему опять было очень не худо: он получал полное содержание, жалованье и табак и, прижившись, задумал жениться по-турецки, потому что «не обшить, не обмыть его было некому». И вот, чтобы получить себе швачку и прачку, Баранщиков обратился за помощью опять к тому же Гусману, с которым они было поссорились за деньги, собранные ид совместным плутовством. И они сейчас же опять сошлись на новое хорошее дело.
XII
Гусман не только укрепил Баранщикова в намерении жениться, но сейчас же нашел ему и невесту: он посоветовал ему взять себе в жены восемнадцатилетнюю Ахмедуду, сестру одной из трех жен самого Гусмана. Баранщикову было все равно: «кто бы ни была, лишь бы баба», и он сразу же согласился жениться на молоденькой Ахмедуде – и переселился из казарм в дом Гусманова и своего тестя, по имени Магомета. Свадьба его с Ахмедудою была совершена «по их обрядам в мечети» и положено условие: в случае жена будет не люба, «заплатить 50 левков (30 р.) пени и отпустить ее». С полученною таким образом молодою женою Баранщиков жил более восьми месяцев и жить ему было хорошо. Турки очень доверчивы, и тесть Баранщпкова, Магомет, так его поставил, что Баранщиков был в его доме полным господином и распоряжался всем хозяйством. Тесть был им доволен и «хвалил всем почтение, отдаваемое всякий день зятем Ислямом».
Но Ахмедуде он стал неприятен, и она начала сомневаться в том, что он истинно держится мусульманской веры, «замечая в нем неумовение», что для нее, как для мусульманки, было невыносимо. Через это Ахмедуда стала к нему не только неласкова, а потом даже сделалась «свирепая».
Но если Баранщиков утратил расположение у молодой Ахмедуды, то «имам (поп)» стал его убеждать, чтобы он взял себе еще одну жену, кроме чистюли Ахмедуды. Однако «всемогущий бог устроил жизнь его инако».
XIII
Однажды, стоя на часах, Баранщиков увидал голову преступника, выставленную напоказ к в поучение всему народу. Это Баранщикова возмутило. В другой раз он встретил на улице одного хлебника, у которого недоставало на руке трех пальцев; Баранщиков спросил: отчего это у него недостает пальцев, а тот отвечает, что пальцы у него отрезаны за обмеривание и обвешивание покупателей. Баранщиков опять ужаснулся, как турецкие власти строго за всем смотрят, и узнал, что полиция даже нередко подсылает таких разузнавщиков, которые все подсматривают и подслушивают: как мусульманин ведет себя в людях и дома, и нет ли в ком чего беззаконного и утаенного, и если что-либо таковое окажется, то тогда тому нет пощады. И за несоблюдение себя с женщиной тоже могут наказать очень строго. Баранщикову это показалось ужасно недостойно и придирчиво, и он вспомнил, какое отвращение внушил к себе молодой жене своей Ахмедуде, и опять затосковал о родине и сейчас же ощутил непреодолимое желание вернуться в Россию.
Баранщиков так струсил, что не стал отлагать своего намерения нисколько, а немедленно пошел в Галату и разыскал там русского казенного курьера, приехавшего из Петербурга с бумагами к послу. Баранщиков расспросил у курьера, как и через какие города надо ехать до российской границы. Другого источника он для этой справки не придумал. Время же тогда приближалось к магометанскому Рамазану, и Баранщиков, как турецкий солдат, должен был идти на смотр к великому визирю и получить жалованье.
Тесть его, доверчивый и добрый старик Магомет, заботясь о нем, как о родном сыне, принялся его наряжать, и прибрал зятя очень щеголевато: он дал ему богатый шелковый кушак, перетканный золотом, кинжал, оправленный жемчугом, красными и зелеными яхонтами, и два пистолета с золотою насечкою.
Баранщиков позволил, чтобы добрый старик все это на него надел, а сам захватил с собою два паспорта и запрятал их под платье. Тесть и жена заметили это и полюбопытствовали, чтό это за листы, а Баранщиков солгал им, что «это русские деньги, которые он хочет разменять». Потом он явился к визирю и получил от него похвалу и 60 левков (36 р.) жалованья; а к тестю и к жене назад уже не вернулся.
XIV
Вместо того, чтобы возвратиться домой, Баранщиков пошел со смотра в Галату к знакомому греку Спиридону, у которого переоделся в бедный греческий костюм, и оставил Спиридону турецкую чалму, красные сапоги, кушак, кинжал и два пистолета. Очевидно, что этому греку он все тестевы вещи продал, а деньгам нашел употребление, «как свойственно русскому человеку», и затем, 29 июня 1765 года, он отправился в свое отечество, «презирая все мучения, даже и самую смерть, если случится, что пойман будет».
Через пять недель, а именно четвертого августа, Баранщиков был уже на Дунае и встретил тут запорожских казаков. Они его приветили, и он проживал у них некоторое время, в разных домах, «у кого дни два, три и четыре».
Запорожцы оставляли его у себя совсем, но Баранщиков не захотел якшаться с такими буйными и непокорными перед властью людьми, а наоборот, он еще им внушал, чтобы они покорились и вернулись в Россию. Но огрубевшие казаки его не послушались и отвечали: «что мы там (в России) позабыли? Поди туда ты, если хочешь, а мы не хотим, да и ты пойдешь, добра не найдешь».
Разумеется, запорожцы не сбили Баранщикова и не уклонили его от предначертанного им себе пути: он ушел от них и, питаясь подаянием, прошел через Молдавию и через Польшу и пришел наконец в Васильковский форпост. Здесь с него русские сейчас же сняли допрос, а паспорты отобрали и отослали его в киевское наместническое правление.
Из киевского наместничества Баранщиков получил указ, чтобы явиться в Нижнем Новгороде властям, причем правитель киевского наместничества генерал-поручик и кавалер Ширков отнесся к Баранщикову очень милостиво, пожаловал ему пять рублей на дорогу, а два паспорта отправил по почте в нижегородское наместническое правление. Баранщиков же пошел через города Нежин, Глухов, Севск, Орел, Белев, Калугу, Москву, Владимир и Муром и везде рассказывал свою «скаску» и находил охотников ее слушать, после чего его кое-как вознаграждали за его злострадания.
Наконец, 23 февраля 1786 г. Баранщиков, после семи лет отсутствия, вступил в Нижний Новгород, где положение его представляло большие осложнения, так как Баранщикову дело шло не только о том, чтобы здесь водвориться, но чтобы ему сбросили с костей все его долги… Да, он хотел, чтобы с него не взыскивали ни старых долгов, ни податных недоимок, ни денег за кожевенный товар, который он взял в долг и не привез за него из Ростова никакой выручки.
Надо было сделать так, чтобы все это ему было «прощено», и он на это надеялся, и в этом-то случае ему и должна была сослужить службу та «скаска», которую он о себе расскажет. Но мы увидим, как это различно действовало на тех, кто может прощать, и на тех, которым надо платить за прощенника.
XV
Нищенствовавшая семь лет в Нижнем жена Баранщикова не узнала своего мужа, так как он был «бритый и в странном платье». Он должен был рассказать своей Пенелопе бывшие с ним приключения, на первый случай, может быть, умолчав только об Ахмедуде. Тогда жена поверила, что это ее пропадавший муж, и «обрадовалась». Дом и все хозяйство Баранщиков нашел в полном разорении и узнал, что семья его уже давно нищенствует, чего как будто он не ожидал, покинув их без всего и на произвол судьбы. Но всего хуже было то, что Баранщиков многим здесь должен, и что нижегородцам не заговоришь зубы, как он заговаривал их доверчивым туркам, а иногда и грекам. Баранщиков сообразил, что самое надежное, на что он теперь может рассчитывать. – это найти благоволение у начальства и самое лучшее иметь на своей стороне высшего администратора в крае.
Генерал-губернатором в Нижнем о ту пору был генерал-поручик Иван Михайлович Ребиндер, который слыл за человека очень доброго, но очень недалекого. Баранщиков сейчас же ему явился и обошел его не хуже, чем турецкого пашу.
Ребиндер, выслушав скаску Баранщикова о его странствованиях и несчастных приключениях, не разобрал, сколько тут лжи и сколько непохвальных поступков есть в правде, и пожаловал проходимцу 15 рублей да сказал ему: «я тебе во всем помощником буду, но не знаю, как гражданское общество в рассуждении за шесть лет податей службы и тягости с тобой поступит: ты прочитай нового городового положения статью 7, я городовому магистрату приказать платить за тебя не могу».
Это Баранщикову не понравилось: он был того мнения, что генерал-губернатор может всем и все приказать, и именно того только и хотел, чтобы подати за него заплатили миром, а частные долги простили ему. С «законом же положений гражданского общества» он не хотел и справляться. Раз, что генерал-губернатор толкует свои права так ограниченно, Баранщикову нечего копаться в законах, а лучше прямо искать сочувствия и снисхождения у граждан Нижнего Новгорода, которые его знали и помнили, и платили за него его недоимки.
Но граждане совсем «не вняли голосу человеколюбия» и, несмотря на то, что Баранщиков показал им себя всего испещренного разными штемпелями и клеймами, а потом, стоя перед членами магистрата, вдруг залопотал на каком-то никому непонятном языке, они объявили его бродягою и предъявили к нему от общества платежные требования. Нижегородцы насчитали на него за шесть лет бродяжничества 120 рублей гильдейных, а как Баранщиков денег этих заплатить не хотел, то они его посадили в тюрьму.
Добродушный Ребиндер оказал было в защиту Баранщикова какое-то давление, и бродягу за общественную недоимку из-под ареста выпустили, но сейчас же на него были предъявлены от частных лиц счеты и векселя более чем на 230 рублей, и Баранщикова, по требованию этих кредиторов, опять посадил под стражу.
Тут он увидал разницу между неверными турками и своими единоверными нижегородцами и сразу понял, что ему от этих не отвертеться; сразу же, в удовлетворение его долгов кредиторам, был продан с торгов его дом, который был так ничтожен, что пошел всего за 45 рублей. После этого Баранщиков был на время выпущен из тюрьмы, но теперь семья его лишилась даже приюта, которого у нее не отнимали, пока отец странствовал, ел кашу, служил в янычарах и, опротивев одной жене, подумывал взять себе еще одну, новую.
Но и этого мало: Баранщиков надеялся, что теперь, когда дом его уже продали, сам он, как ничего более не имеющий и вполне несостоятельный должник, останется на свободе. Тогда он опять куда-нибудь сойдет и что-нибудь для себя промыслит; но и это вышло не так: к ужасу Баранщикова, нижегородцы измыслили для него страшное дело. Так как Баранщиков был еще не стар и притом здоров, то магистрат рассудил, что ему не для чего болтаться без дела, и постановил – «взять Баранщикова и за неуплату остальных 305 рублей (185 долговых и 120 гильдейных) отослать его в казенную работу на соляные варницы в г. Балахну по 24 рубля на год».
Вот когда Баранщиков вспомянул предсказание, которое ему делали зарубежные запорожцы, которых он хотел исправить, звал возвратиться в Россию, а они ему отвечали: «иди сам, а когда и пойдешь, то добра не найдешь…» Вот оно все это теперь и сбывалося!.. Что еще могло быть хуже, как попасть из кофишенков да в соляные варницы с отработкою по двадцать четыре рубля в год! За триста пять рублей ему там пришлось бы провести лет семь…
От этого он непременно хотел увернуться, а как генерал-губернатор наблюдает законы и не требует своею властью их нарушения, то Баранщиков в крайнем отчаянии обратился к вере и к ее представителям.
XVI
Баранщиков бросился искать помощи у нижегородского духовенства, которое, по его мнению, могло его защитить и даже обязано было задержать его высылку в Балахну, потому что его следовало еще исправить, как потурченного. Он хотел говеть и исповедаться во всем на духу и получить прощение в своих грехах; но русское духовенство совсем не было так великодушно, как греческое, которое враз исправило его в Иерусалиме и приштемпелевало. Нижегородские священники или были неопытны в этой практике, или же держали сторону общества, и совсем не захотели принимать Баранщикова на исповедь, потому что он был обрезан и жил с женою в магометанском законе. Но все-таки по этому поподу возник вопрос, а пока об этом рассуждали, отправка Барамщпкова в Балахну, на соляные варницы, замедлилась, а ему это и было нужно.
Священники отослали его к нижегородскому архиерею, который выслушал его милостиво, но вопроса о причащении его не решил и, в свою очередь, препроводил Баранщикова к митрополиту новгородскому и с. – петербургскому Гавриилу.
Вот это Баранщикову и было нужно: он того и хотел, чтобы попасть в столицу, где он надеялся найти жалостливых покровителей, через которых может довести свое дело до самой Екатерины. Повели нашего странника в Петербург и представили его там Гавриилу.
Митрополит Гавриил (Петров) был муж «острый и резонабельный». Так по крайней мере аттестовала его Екатерина II, посвятившая ему книжку о Велизарии с такими словами, что он «добродетелью с Велизарием сходен». Митрополит, сходный с Велизарием, действовал в духе времени и без затруднения разрешил сомнение нижегородского духовенства: он велел Баранщикова в Петербурге отъисповедовать и причастить. Таким образом Баранщиков, воссоединенный уже с православием благодатию священников греческих, теперь был закреплен в этом русскою благодатию и получил в этом доказательство, удостоверявшее, что в столице самые высшие особы светского и духовного чина приняли его сторону и отнеслись к нему совсем не так, как нижегородская серость.
В удостоверение означенных счастливых событий, Баранщиков выправил себе из с. – петербургской духовной консистории «билет» и, под защитою этого документа, вернулся обратно в Нижний. Теперь он был уже не «отурченок», а чистый православный христианин и притом человек известный многим вельможам Екатерины. После этого можно было надеяться, что нижегородцы уже не посмеют теперь выбирать с него свои долги и не погонят его в Балахну на варницы, но нижегородцы ничем этим не прельстились: они продолжали видеть в Баранщикове «бродягу», за которого другие рабочие люди должны платить подати, да еще терпеть его мошеннические обманы, и потому они остались непреклонными и опять приступили с своими требованиями, чтобы послать его в Балахну на варницы. Баранщиков этого никак не ожидал и очень удивился, как простые купцы и мещане смеют умышлять над ним этакую грубость! Теперь он уже не робел, как было до представления его митрополиту, а писал в негодующем тоне: «Как! Это то самое общество, которое, по призыву Минина-Сухорукова, готово было заложить жен и детей и охотно вверило Минину свои имения, чтобы он с Пожарским „очистил Москву от поляков?“. И вот это, оно-то самое общество, не следуя ни примеру благотворительного купца Кузьмы Сухорукова, ни указу ее императорского величества о банкрутах и проторговавшихся купцах», беспокоит его, Баранщикова, который «остается по претерпении злоключений и несчастий в Америке, Азии и Европе, и в своем отечестве».







