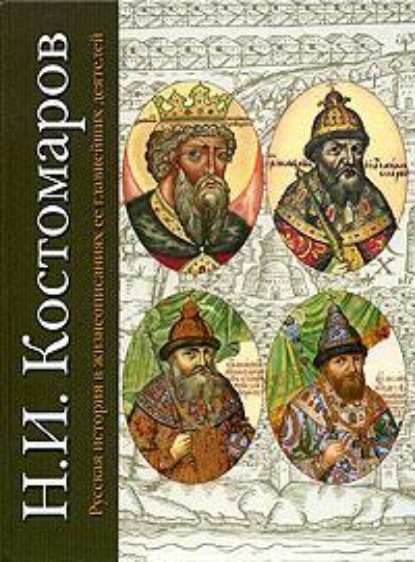По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Первый отдел
Жанр
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Во всяком судебном иске бралось в соображение имущество истца и ответчика и количество платимых ими податей. В тяжбах между посадскими и крестьянами вовсе не допускались иски на такую сумму, которой не имел тот, кто подавал жалобу или искал на том, кто не мог ее иметь. Это совпадало со способом наложения податей и повинностей. Облагались не лица, а имущества и доходы, причем руководством служили писцовые книги, в которых в точности приводились в известность промыслы, средства и доходы жителей. Старое значение боярина, как землевладельца, еще удерживалось в это время, хотя слово боярин имело смысл сановника. Как владетель вотчины, назывался боярином тот, кто не носил боярского сана в царской службе. Вотчины были боярские (вообще частных служилых владельцев) и монастырские; к ним следует причислить еще и владения новгородских земцев (крестьяне-собственники). Поземельные владения, как боярские вотчины, так и все поместья, делали службу обязательною для их владельцев. Кроме последних, все земледельцы не владели землями в качестве частной собственности: у черносошных земли были в общинном владении. Крестьянам вообще предоставлялось прежнее право перехода с земли на землю в Юрьев день.
Относительно холопства в это время сделано было несколько распоряжений, видимо, клонившихся к уменьшению числа холопов. Таким образом, отменилось древнее правило, что поступивший в должность к хозяину без ряда делался его холопом. Детям боярским запрещалось продаваться в холопство не только во время службы, но и ранее. (Впоследствии это распоряжение было отменено для тех из них, которые еще не поступили в действительную службу.) Судебник запрещал отдаваться в холопство за рост, следовательно, предотвращал случаи, когда человек в нужде делался рабом. Впрочем, неоплатный должник после правежа отдавался головою заимодавцу, но, чтобы меньше было таких случаев, постановлено было давать на себя кабалы не более, как на пятнадцать рублей. Кроме того, при всякой отдаче головою, излюбленные судьи должны были делать особый доклад государю. Наконец, беглый кабальный холоп не был возвращаем прямо хозяину, а ему предлагали прежде заплатить долг, и только в случае решительной несостоятельности выдавали его головою.
Замечательно, что в совете людей, правивших тогда на деле государством, очевидно были разногласия, проистекавшие от различных взглядов. Это в особенности ощутительно по вопросу о местничестве. Таким образом, в 1550 году являются распоряжения, показывающие намерение вовсе уничтожить местничество: так, напр., было постановлено, чтобы в полках князьям, воеводам и детям боярским ходить без мест, „и в том отечеству их унижения нет“. Один только первый воевода большого полка считался выше прочих: все же остальные были между собою равны. Но в следующем году другим распоряжением установлялась разница в достоинстве воевод между собою, и в одном современном списке летописи по этому поводу сказано: „а воевод государь прибирает, рассуждая отечество“ (т. е. подбирает воевод, принимая во внимание службу их отцов). Видно, что люди с более широким взглядом не могли сразу сладить с предрассудками: впоследствии, когда господство Сильвестра и Адашева кончилось, местничество водворилось опять во всей силе.
Выборное земское начало, так широко развившееся в этот короткий промежуток времени, естественно, не могло достигнуть полной независимости, и только с течением времени могли разрешиться чрезвычайно сложные вопросы по управлению, вызывавшие вмешательство царских чиновников. Еще большая масса служилых подлежала суду наместников и волостелей. Когда происходили ссоры между волостями и частными владельцами, и волости обращались с жалобою к царю, то царь, естественно, возлагал разбирательство дела на таких лиц, от которых выборное право освобождало посадских и крестьян. То же было и тогда, когда волостные крестьяне тягались между собою; тогда малые деревни, не будучи в состоянии противостать большинству, обращались сами под защиту суда наместников. Наконец, люди, управлявшиеся выборными властями, находились во власти царских чиновников по государственным повинностям, какими, например, были: городовое дело, посошная служба и т. п. При этом следует заметить, что везде принимались во внимание местные условия, права и обязанности, чрезвычайно разнообразившие отношения жителей как к государству, так и взаимно между собою.
Вслед за земскими учреждениями приступлено было к церковному устройству. В 1551 году собрался собор для пересмотра порядков церкви, ее управления и религиозных обычаев. При открытии собора Иван говорил длинную речь, каялся в своем прежнем поведении и приглашал содействовать ему в управлении государством как духовенство, так и светских людей. Иван был настроен тогда в духе крайнего смирения и говорил совершенно противоположное тому, что он высказывал впоследствии в защиту своего самодержавия. Выше всего он почитал тогда церковь и отдавал ей на рассмотрение даже все земское устройство, составленное по Судебнику и Уставным грамотам. Акты этого знаменитого собора дошли до нас в форме вопросов, предлагаемых от имени царя на соборе, и ответов на эти вопросы, заключающих в себе соборные приговоры. Так как этих вопросов и ответов было сто, то и собор получил в истории название Стоглава.
По отношению к церковному управлению предложено было исправить порядок, схожий с управлением наместников и волостелей в земском деле. Владыка в своей епархии в соборе напоминал собою удельного князя. У него был совет из собственных бояр, которые управляли и судили в епархии с докладом владыке. Судьями от владыки были его наместники и десятильники; при них были, так как и в земстве, недельщики и доводчики. Белое духовенство и монастыри были обложены множеством разнообразных пошлин,[58 - Например, дани зимняя и летняя, заездничье, въезжее, благословенная куница (подать со священника при вступлении в должность), перехожая куница (при переходе из одного прихода в другой), явленная куница (при явке ставленной грамоты), соборная куница, людское, полюдная пшеница, казенные алтыны, венечная пошлина (с невесты), новоженный убрус (с жениха), десятильничьи пошлины и пр.] от которых некоторые освобождались по благоволению владыки. Владыки раздавали свои земли в поместья детям боярским – эти земли переходили от владельца к владельцу не по наследству, а по воле архиерея. Дети боярские были обязаны службою владыке, хотя в то же время призывались и на государственную службу. Суд у святителей, соответственно подлежавшим этому суду предметам, был двух родов, духовный – в делах, относившихся к области веры и благочестия, как над духовенством, так и над мирскими людьми, и мирской – над лицами, исключительно состоявшими в церковном ведомстве. Вообще, как суд, так и управление в церковном ведомстве страдали в те времена большими злоупотреблениями. Владычные бояры, дьяки и десятильники всеми неправдами притесняли сельских священников. Собор не решился отменить суда бояр и десятильников, потому что и при великих чудотворцах: Петре, Алексие и Ионе, были десятильники, но учредил из священников, старост и десятских, которые, между прочими обязанностями, должны были присутствовать на суде десятильников; да кроме того, на этот суд допускались еще и земские старосты и целовальники вместе с земским дьяком. Всякое дело писалось в двух экземплярах, и одна сторона поверяла другую. Избираемые из священников поповские старосты и десятские должны были, каждый в своем пределе, наблюдать за церковным благочинием и за исполнением обязанностей духовенства. Они же собирали и доставляли к владыке все установленные сборы и пошлины. Собор обратил внимание и на книги. Издавна переводились книги с греческого языка, отчасти с латинского, переписывались старые сочинения и переводы и продавались. Как переводы, так и переписки исполнялись плохо.[59 - До сих пор в наших библиотеках можно видеть старые переводы с греческого, в которых нельзя добраться смысла.] Тогда все письменное без разбора относили к церкви; и оттого-то книги отреченные и апокрифы считались, по невежеству, наравне с каноническими книгами Священного Писания, и нередко приписывалось отцам церкви то, чего те никогда не писали. Это неизбежно вело к заблуждениям. Собор устанавливал род духовной цензуры, поверяя ее поповским старостам и десятским. Книгописцы состояли под их надзором. Старосты и десятские имели право просматривать и одобривать переписанные книги и отбирать из продажи неисправленные. Так как в те времена во всеобщем понятии учение грамоте связывалось с благочестием, то это учение вообще поставлено было в зависимость от духовных властей. Во времена Стоглава оставалась память, что некогда на Руси существовали училища, но потом исчезли: немногие теперь знали вполне грамоту, учились как-нибудь, и святители поневоле посвящали в священники людей малограмотных. Собор постановил завести училища и поверил их устройство избранным духовным, которые должны были открывать училища в своих домах; православные христиане приглашались отдавать детей своих в обучение грамоте, письму и церковному пению. Занимаясь вопросом о писании книг, Стоглавный собор коснулся вопроса об иконописании, заметил большие злоупотребления и определил установить особый класс иконописцев под надзором святителей так, чтобы, кроме них, никто не смел заниматься иконописанием.
Монастыри с существовавшими в них злоупотреблениями составили одну из главных забот Стоглавного собора. Наделенные селами и пользуясь большими доходами, монастыри были земным раем для своих начальствующих лиц, которые всегда могли принудить к молчанию своих подчиненных лиц, если бы со стороны последних раздавались обличения. Архимандриты и игумены окружали себя своими родными и клевретами и превращали монастырское достояние в выгодные для себя аренды. Их родня под именем племянников поселялась в монастырях; настоятель раздавал им монастырские села, посылая их туда в качестве приказчиков. Управление монастырскими имениями, вместо того чтобы производиться собором старцев, зависело от произвола одного настоятеля. В его безусловной власти находились и братия, и священнослужители монастырских сел и часто терпели нужду, хотя и находились в ведомстве очень богатого монастыря, так как никто из них не пользовался доходами и не смел требовать участия в пользовании. Зато настоятели жили в полном удовольствии. В редких монастырях удерживалось общежитие в строгой его форме: если где и была скудная трапеза, то разве для бедняков, питавшихся от крупиц, падавших со стола властей. Нередко вкладчики, в порыве благочестия, отдавали в монастырь все свое достояние с тем, чтобы там доживать свою старость; лишившись добровольно имущества, они терпели и голод, и холод, и всяческие оскорбления от властвующих, которые не дорожили ими, зная, что с них, после отдачи всего в монастырь, уже более нечего взять. Зато те, которые хотя и отдали в монастырь часть своего достояния, но оставили значительный запас у себя, пользовались вниманием и угодливостью. В монастырях курили вино, варили пиво и меды, отправлялись пиры; в монастыри приезжали знатные и богатые господа, и настоятели раболепствовали пред ними, стараясь что-нибудь выманить от них. Вольное обращение с женским полом доходило до большого соблазна: были монастыри, в которых чернецы и черницы жили вместе. Нередко можно было встретить в монастырях мальчиков, „ребят голо-усых“, как выражались в то время.
От деспотизма и алчности настоятелей, вообще снисходительных к себе и строгих к другим, нередко братия уходила из монастыря; бедняки иногда скитались с места на место, не находя приюта; в других монастырях их принимали неохотно; иные находили себе убежище у мирских церквей, построенных христолюбцами не для прихода, а для себя. Таких церквей было множество, но большая часть их стояла пустою. То была своеобразная черта русского благочестия: состроить церковь ради спасения своей души вследствие какого-нибудь сна или видения, назначить „ругу“ на содержание ее, то есть на свечи, просфоры и вино, договорить какого-нибудь бродячего монаха, а то и светского иерея, которых тогда также скиталось немало на Руси, а впоследствии порывы благочестия минуют, – в церкви нет служения, и договоренный священник не может служить и жить при церкви, потому что ему перестали давать содержание! Часто бродячие чернецы и в особенности черницы промышляли пророчествами и видениями; нагие, босые, с отрощенными и нечесаными волосами ходили они по селам и погостам, привлекали своим появлением толпу, всенародно тряслись, бились, кричали, что им являлись Святая Пятница или Святая Анастасия и будто бы заповедали им объявить всем христианам, чтобы в среду и пятницу ничего не делали, чтоб женщины не пряли, белья не мыли и камня не разжигали и т. п. Случалось, что бродяга-чернец строил маленькую деревянную церковь, ходил просить милостыню, выпрашивал себе ругу, постоянное содержание, а потом пропивал все собранное им.
У нас часто думают, что в древности господствовало благочестие, по крайней мере, наружное; но Стоглав представляет нам в этом отношении совсем иной образ. При невежестве духовенства, богослужение происходило самым нестройным образом, особенно заутреня и вечерня; в одно и то же время один читал канон, другой кафизмы; духовные машинально исполняли заученное, не имея никакого внутреннего благочестия, и потому позволяли себе во время богослужения непристойные выходки, приходили в церковь пьяные, ругались и даже дрались между собою. Глядя на них, миряне не оказывали никакого уважения к церкви: входили в храм в шапках, громко разговаривали между собою, смеялись, перебранивались, даже нередко среди божественного пения можно было услышать срамные слова. В поминальные дни церковь представляла совершенный рынок – приносились туда яйца, калачи, пироги, печеная рыба, куры, блины, караваи; попы уносили все это в алтарь и ставили даже на жертвенник. В монастырях в этом отношении было не лучше; ожиревшие от изобилия настоятели часто вовсе не священнодействовали, братия пьянствовала, и по целым неделям не бывало в монастыре богослужения. Собор осудил все эти злоупотребления, между прочим, совсем запретил держать в монастырях пьянственное питье, кроме „фрязских вин“; запрещалось совместное жительство чернецов и черниц; для сохранения монастырской казны собор определил давать по книгам отчеты царским дворецким. Издано постановление против заводителей новых пустынь, которые тогда сильно размножались: велено было такие мелкие пустыни соединять между собою, подчинять монастырям или даже уничтожать их вовсе. Собор поставил предел увеличению церковных вотчин; хотя право владения за владыками и монастырями было оставлено, но вперед церковные власти без особого царского разрешения не могли уже покупать земель. Постановлено было также, чтобы люди служилые не давали по душе своих вотчин без воли государя, и все вотчины, отданные боярами в монастыри со смерти великого князя Василия, велено отобрать. Кроме того, оказывалось, что владыки и монастыри беззаконно присвоили у детей боярских земли под предлогом долгов, и такие земли велено обратить в собственность тех лиц, за кем они были прежде.
Из Стоглава видно, что в то время в церковном порядке и в приемах благочестия существовали многие особенности, отличные от того, что мы видим в настоящее время. При крещении в некоторых местах соблюдалось, вместо погружения, обливание, которое и воспрещено было правилами Стоглавного собора. Обычай брать восприемниками мужчину и женщину, кума и куму, – в настоящее время всеобщий – тогда только начал входить и был запрещен Стоглавным собором, постановившим, чтобы восприемником было одно лицо: мужского или женского пола. Венчание положено было совершать непременно после обедни и венцы полагать только на первобрачных. Жениху должно было быть не менее пятнадцати, а невесте не менее двенадцати лет от роду. Языческий обычай наговаривания применился к христианским обрядам: просфирни наговаривали на просфоры, и таким просфорам приписывалась особая врачебная сила; подобно тому в великий четверг приносили в церковь соль, которую священники клали под престол и держали до седьмого четверга по Пасхе – день народного праздника семика: этой соли приписывали целебную силу против болезни скота. Такие суеверия воспрещены были Стоглавным собором, как равно различные гадания и гадательные книги: рафли, Аристотелевы врата, наблюдения по звездам и „планидам“, „шестокрыл, воронограй, альманах“ и иные „составные и мудрости еретические и коби бесовские“.
В вопросах, предложенных на этом соборе, встречается много любопытных черт, указывающих на языческие обычаи, еще довольно сильные в то время, как, например: на поминках сходились мужчины и женщины на кладбищах; туда приходили скоморохи и гудцы (музыканты); справлялось веселье, шла попойка, пляска, песни. Таким веселым днем была в особенности суббота перед пятидесятницею; в великий четверток отправлялся языческий обычай „кликать мертвых“, теперь уже совершенно исчезнувший; он сопровождался сожжением соломы. В этот же день клали трут в расселину дерева, зажигали его с двух концов, полагали в воротах домов или раскладывали там и сям перед рынком и перескакивали через огонь с женами и детьми. Ночь накануне Рождества Иоанна Предтечи повсеместно проводилась народом в плясках и песнях: то было древнее празднество Купалы. Подобные языческие празднества указываются, кроме того, накануне Рождества Христова и Богоявления и в понедельник Петрова поста: в последний из этих дней был обычай ходить в рощу и там отправлять „бесовские потехи“. Запрещая эти языческие увеселения, собор вообще осуждал всякие забавы – шахматы, зернь (карты), гусли, сопели, всякое гуденье, позорища (сценические представления), переряживанье и публичное плясанье женщин.
Стоглавный собор узаконил выкуп русских людей, попадавшихся в плен татарам. Прежде таких пленников выкупали греки, армяне, а иногда и турки, и приводили в Московское государство, предлагая выкупить, но если не находилось охотников, то уводили их назад. Теперь же постановлено было выкупать их из казны, и издержки на выкуп разложить по сохам на весь народ. Никто не должен увольняться от такой повинности, потому что это общая христианская милостыня. Мы не знаем, в какой мере введены были и удержались все преобразования Стоглава, тем более, что до нас не дошли его ранние списки, а те, которыми мы принуждены довольствоваться, писаны уже в XVII веке, и в них есть разноречия.[60 - Сюда, например, включено постановление о сугубой аллилуйе, которое, очевидно, внесено раскольниками, так как в сочинениях Макария, председательствовавшего на этом соборе, признавалась правильной трегубая аллилуйя и т. п.]
После внутренних преобразований правители занялись покорением Казанского царства. Прежде подручное московскому государю, это царство находилось теперь в руках злейшего врага русских – Сафа-Гирея. Тогда Казань, по выражению современников, „допекала Руси хуже Батыева разорения; Батый только один раз протек русскую землю словно горящая головня, а казанцы беспрестанно нападали на русские земли, жгли, убивали и таскали людей в плен“. Их набеги сопровождались варварскими жестокостями; они выкалывали пленникам глаза, обрезывали им уши и носы, обрубливали руки и ноги, вешали за ребра на железных гвоздях. Русских пленников у казанцев было такое множество, что их продавали огромными толпами, словно скот, разным восточным купцам, нарочно приезжавшим для этой цели в Казань. Но Сафа-Гирей не крепко сидел в Казани, которая была постоянно раздираема внутренними партиями. В 1546 году враждебная ему партия выгнала его и опять пригласила в цари Шиг-Алея, освобожденного Еленою из заточения. Не мог ужиться с казанцами этот новый царь и скоро бежал от них. Сафа-Гирей опять сел на престол, но не надолго. Напившись пьян, он зацепился за умывальник и расшиб себе голову. Казанцы провозгласили царем его малолетнего сына Утемиш-Гирея, под опекой матери Сююн-Беки.[61 - До сих пор в Казани уцелела башня, называемая ее именем.] В это время русские последовали примеру Василия, построившего Васильсурск, и построили в 1550 году, в тридцати семи верстах от Казани, крепость Свияжск. Последствием такой постройки было полное покорение горной черемисы, или чувашей. Этот народ, хотя и единоплеменный луговой черемисе или настоящим черемисам, был, однако, совершенно отличен от последних по нравам. Тогда как черемисы, жившие на левой стороне Волги, отличались дикостью и воинственностью, чуваши был народ смирный и земледельческий. Чуваши легко покорились русской власти, особенно когда им дали льготу на три года от платежа ясака, а царь в Москве подарил их князьям шубы, крытые шелковой материей. Близость русского поселения и подчинение правого берега Волги, находившегося прежде под властью Казани, произвели такое волнение в столице Казанского царства, что казанцы в августе 1551 года выдали Сююн-Беку с сыном, отпустили часть содержавшихся у них русских пленников и снова призвали Шиг-Алея, в надежде, что русские возвратят им владение над горным берегом Волги. Русские посадили Шиг-Алея на казанском престоле, но не думали отдавать горной страны. Шиг-Алей через то не ладил с казанцами; они беспрестанно требовали от него, чтобы он старался восстановить прежние пределы царства, не хотели отпускать остававшихся у них русских пленников и, наконец, составили заговор убить своего царя за его преданность Москве, но этот царь предупредил врагов, зазвал значительнейших из них к себе и приказал их перебить находившимся при нем русским стрельцам. Тогда многие казанцы поспешили в Москву жаловаться на Шиг-Алея, и вследствие этих жалоб в Казань приехал Адашев.
„Мне в Казани нельзя оставаться, – сказал Шиг-Алей Адашеву, – я согрубил казанцам: я обещал им выпросить у царя нагорную сторону; пусть государь пожалует нам нагорную сторону, тогда мне можно будет оставаться здесь; а пока я жив – царю Казань будет крепка“.
„Тебе уже сказано, – отвечал Адашев, – что горной стороны государю тебе не отдавать, Бог нам ее дал. Сам знаешь, сколько бесчестия и убытка наделали государям нашим казанцы; и теперь они держат русский полон у себя, а ведь когда тебя на царство посадили, то с тем, чтобы весь полон отдать“.
„Если горной страны не отдадут, – сказал Шиг-Алей, – то мне придется бежать из Казани“.
„Коли тебе из Казани бежать, – возразил Адашев, – то лучше укрепи Казань русскими людьми“.
„Я своему государю не изменю, – сказал Шиг-Алей, – но я мусульманин: на свою веру не встану. Если мне не в меру будет жизнь в Казани, я лихих людей еще изведу и сам поеду к государю“.
Адашев с тем и уехал. Но вслед за тем прибыли в Москву враждебные Шиг-Алею казанские князья и просили, чтобы царь удалил Шиг-Алея, а на место его прислал своего наместника. В Москве это предложение, естественно, понравилось.
Адашев снова поехал в Казань, свел Шиг-Алея с престола, захватил восемьдесят четыре человека противной Шиг-Алею партии и уехал в Свияжск, объявивши казанцам, что к ним будет прислан царский наместник. Казанцы показали вид согласия, но когда, вслед за тем, из Свияжска их известили, что к ним едет назначенный воеводою в Казань князь Семен Микулинский, они заперли город, не пустили русских и кричали им со стен: „Ступайте, дураки, в свою Русь, напрасно не трудитесь; мы вам не сдадимся, мы еще и Свияжск у вас отнимем, что вы поставили на чужой земле“.
Пробудилось чувство национальности и веры. В крайнюю минуту все партии примирились. Вся земля казанская вооружалась, даже чуваши изменили Москве, испытавши над собою управление воевод московских. Казанцы пригласили к себе в цари нагайского царевича Едигера, который прибыл в Казань с десятью тысячами нагайцев.
Опыт показывал, что Москве невозможно управлять Казанью посредством подручных князей, а предоставить ее на волю – значило подвергать восточную Русь нескончаемым разорениям. В Москве решили идти с сильным ополчением, покончить навсегда с неприязненным царством и обратить его земли в русские области. Собрано было войско, огромное по тому времени, более 100000. Сам царь должен был идти в поход, хотя ему этого очень не хотелось, как он сам впоследствии сознавался в письме своем к Курбскому: „Вы меня, как пленника, посадивши в судно, повезли сквозь безбожную и неверную землю. Если бы не всемогущая десница Божия защитила мое смирение, то я бы непременно лишился жизни“.
Крымский хан Девлет-Гирей хотел было помогать Казани и напасть на Москву с юга, но был отбит от Тулы. Русские осадили Казань 20 августа 1552 года и вели осаду до 1 октября. Способ осады состоял в том, что русские кругом города поставили деревянные туры на колеса и все ближе и ближе подвигались к стенам города; между тем их беспокоили с тыла отряды черемисов и чувашей, а казанцы со стен пугали своими чарами, будто бы наводившими дождь, докучавший осаждавшим. „Бывало, – говорит Курбский, – солнце восходит, день ясный; мы и видим: взойдут на стены старики и старухи, машут одеждами, произносят какие-то сатанические слова и неблагочинно вертятся; вдруг поднимется ветер и прольется такой дождь, что самые сухие места обратятся в болото“. Против бесов оставалось употребить духовное оружие. Послали в Москву за крестом, в котором была вделана частичка Животворящего Древа. Дух войска ободрился, когда чрез двенадцать дней привезли это сокровище. Дело решил немецкий розмысл (инженер), который сделал подкоп и заложил под стены порох, 1-го октября разрушена была взрывом стена; русские ворвались в город и взяли его. Сам царь не участвовал в битвах, а только торжественно въехал в покоренную Казань, наполненную трупами. Пленный казанский царь Едигер поклонился победителю, просил прощения и изъявил намерение креститься. Русские обращались милостиво с побежденными, но казнили тех, которые оказались виновными в вероломстве. В Казани найдено было несколько тысяч христианских пленников, удержанных казанцами вопреки договору, по которому давно уже они были обязаны их отпустить. Инородцы: черемисы и чуваши, покорились и обещали платить наложенный на них ясак. Замечательно, что бояре старались удержать на всю зиму Ивана в Казани, и находили это необходимым для того, чтобы приучить к повиновению разнородные племена, населявшие обширное Казанское царство: мордву, чувашей, черемисов, вотяков и башкирцев. Но Иван на этот раз впервые не послушал своих опекунов. Царица Анастасия была на последних днях беременности; Ивану хотелось домой; шурья поддерживали его желание; и тут-то между ними и боярами произошло столкновение. „Шурья государя, – говорит Курбский, – направили к нему еще и других ласкателей, вместе с попами“. Иван не только уехал вопреки желанию бояр, но еще распорядился против их воли: он отправил конницу в осеннее время по такой дороге, на которой пропали чуть не все лошади.
В Москве царя ожидали торжественные встречи, поздравления. Царица Анастасия благополучно разрешилась от бремени сыном Димитрием. Царь Едигер принял крещение и наречен Симеоном. Тогда же крестилось много казанских князей, увеличивших собою число татарских родов в русском дворянстве. В память завоевания Казани был заложен в Москве храм Покрова Богородицы на Красной площади, храм очень своеобразной и затейливой архитектуры (теперь известный под именем Василия Блаженного, от мощей этого юродивого, почивающих в этом храме). Строитель его, без сомнения, человек с большим талантом, остался неизвестен. В народе сохранилось предание, что царь в награду за построение храма приказал выколоть ему глаза для того, чтобы он уже не мог построить чего-нибудь подобного в ином месте. Покорение Казанского царства подчинило русской державе значительное пространство на востоке до Вятки и Перми, а на юг до Камы, и открыло путь дальнейшему движению русского племени. Но много еще нужно было труда, чтобы усмирить беспокойные племена этой страны. Русь должна была несколько раз бороться с восстаниями татар и черемисов; но уже в следующем 1553 году учреждение казанской епархии послужило важным залогом господства русской стихии в новопокоренном крае. Первым архиепископом назначен был всеми уважаемый игумен селижарский[62 - Селижарский монастырь в Тверской губернии в Осташковском уезде.] Гурий. Начали строиться церкви, монастыри, стали переселяться русские люди, и Казань мало-помалу приняла характер русского города.
В душе царя уже шевелилось чувство недовольства своим зависимым положением. Иногда, в минуты своенравия, он проявлял его: так, однажды, скоро после завоевания Казани, по поводу этого события, он сказал своим опекунам: „Бог меня избавил от вас!“ Наступили обстоятельства, которые еще более развивали и поддерживали это долго сдерживаемое чувство.
В 1553 году Иван заболел горячкою и, пришедши в себя после бреда, приказал написать завещание, в котором объявлял младенца Димитрия своим наследником. Но когда в царской столовой палате собрали бояр для присяги, многие отказывались присягать. Отец Алексея Адашева смело сказал больному государю: „Мы рады повиноваться тебе и твоему сыну, только не хотим служить Захарьиным, которые будут управлять государством именем младенца, а мы уже испытали, что значит боярское правление“. Спор между боярами шел горячий. В числе не хотевших присягать был двоюродный брат государя Владимир Андреевич. И это впоследствии подало царю повод толковать, что отказ бояр в присяге происходил от тайного намерения по смерти его возвести на престол Владимира Андреевича. Спор о присяге длился целый день и ничем не решился. На другой день Иван, призвавши к себе бояр, обратился к Мстиславскому и Воротынскому, которые прежде всех присягнули и уговаривали присягнуть других; „Не дайте боярам извести моего сына, бегите с ним в чужую землю“, а Захарьиным царь сказал: „А вы, Захарьины, чего испугались? Думаете, что бояре вас пощадят? Нет, вы будете первые у них мертвецы!“ После этих слов царя все бояре один за другим присягнули. Владимир Андреевич – тоже. Трудно решить: действительно ли было у некоторых намерение возвести Владимира на престол в случае смерти царя, или упорство бояр происходило от нелюбви к Захарьиным, от боязни подпасть под их власть, и бояре искали только средства, в случае смерти Ивана, устроить дело так, чтобы не дать господства его шурьям. Владимиру Андреевичу поставили в вину то, что в то время, когда государь лежал больной, он раздавал жалованье своим детям боярским. Не любившие его бояре стали тогда же подозревать его и вздумали не пускать к больному государю. За Владимира заступился всемогущий тогда Сильвестр, и этим поступком подготовил враждебное к себе отношение царя Ивана на будущее время.
Иван не умер, как ожидали; он выздоровел и показывал вид, что ничего не помнит, ни на кого не сердится, но в сердце у него заронилась ожесточенная злоба. Люди такого склада, как Иван Васильевич, столько же боязливы в начале всякого предприятия, пока не уверены в удаче, сколько неудержимо наглы впоследствии, когда перестают бояться. Зато – чем долее боязнь заставляет их сдерживать свою страсть, тем сильнее эта страсть прорывается тогда, когда они освободятся от страха. Иван уже ненавидел Сильвестра и Адашева, не любил бояр, не доверял им, но у него не изглаживались еще воспоминания ужасных дней московского пожара, когда рассвирепевший народ не поцеремонился с государевою роднею и не далек был, по-видимому, от того, чтоб идти на самого государя. Иван не был еще уверен, что с ним не сделают чего-нибудь подобного, если он пойдет против своих опекунов и раздражит их. Притом Сильвестр внушал ему суеверную боязнь и умел постоянно оковывать его волю „детскими страшилами“, как сам царь сознавался после. Бояре, хотя уже не отличались прежним согласием, не заявляли себя ничем таким, за что можно было бы их укорить в измене царю; напротив, когда один из них, князь Семен Ростовский, слишком резко говоривший против присяги во время болезни царя, испугался, бежал и был пойман, бояре единогласно осудили его на смертную казнь, и сам царь (вероятно, по ходатайству Сильвестра) ограничил ему наказание ссылкою в Белозерск. Иван еще несколько лет повиновался Сильвестру и его кружку, хотя все более и более ненавидел их, пока, наконец, уверившись в своей безопасности, мог дать своей злобе полную волю. Между тем произошли случаи, развившие в Иване сознание своего унижения и усилившие в нем желание освободиться от опеки.
По выздоровлении своем, царь Иван Васильевич поехал с женою и ребенком по монастырям с целью, посещая их один за другим, доехать до отдаленного Кирилло-Белозерского монастыря. У Троицы жил тогда знаменитый Максим Грек, освобожденный при Иване из заточения. Иван посетил его. Максим откровенно сказал царю, что не одобряет его путешествия по монастырям. „Бог везде, – говорил он, – угождай лучше ему на престоле. После казанского завоевания осталось много вдов и сирот; надобно их утешать“. Эти слова говорил Максим, вероятно, в согласии с Адашевым, Сильвестром и их сторонниками, которые все любили и уважали старца. Они боялись, чтобы царь, скитаясь по монастырям, не наткнулся на ненавистных для них осифлян, которые умели льстить и угождать властолюбию и щекотать дурные склонности сильных мира сего. Адашев и Курбский говорили Ивану, будто Максим им предрекал, что государь потеряет сына, если не послушает его и будет ездить по монастырям. Опасение их было не напрасно. Иван не послушался Максима Грека, продолжал свое набожное странствие и в Песношском монастыре (в нынешнем Дмитровском уезде) увидался с одним из самых первостатейных осифлян – бывшим коломенским владыкою Вассианом.
Этот Вассиан был когда-то в большой милости у Василия Ивановича; но во время боярского правления его удалили. „Если хочешь быть настоящим самодержцем, – сказал царю Вассиан, – не держи около себя никого мудрее тебя самого; ты всех лучше. Если так будешь поступать, то будешь тверд на своем царстве, и все у тебя в руках будет, а если станешь держать около себя мудрейших, то поневоле будешь их слушаться“. Замечание попало в самое сердце. Царь поцеловал его руку и сказал: „Если бы отец родной был жив, так и тот не сказал бы мне ничего лучшего!“ Предсказание Максима сбылось. Сын Ивана умер; это, без сомнения, должно было поразить Ивана и снова подчинить его своим опекунам, хотя он не переставал ими тяготиться. Пользуясь этим, они еще успели именем государя совершить несколько важных дел. Необходимость сблизиться с Европою и усвоить ее культуру чувствовалась русскими. Еще в 1547 году, когда уже наступило влияние Сильвестра и Адашева, следовательно с их участием, от имени царя, поручено было одному саксонцу Шлитту, знавшему по-русски, вызвать из немецкой земли всякого рода умелых людей: ремесленников, художников, медиков, плавильщиков, юристов, аптекарей, типографов и даже богословов. Поручение это не удалось по зависти Ганзейского Союза и Ливонского ордена, которые полагали, что введение европейского образования, возвысив силы московской земли, сделает ее опасною для Европы. Любекские сенаторы не пустили Шлитта в Москву, засадили его в тюрьму и разогнали толпу немцев, которых он вез с собою (123 чел.). Обстоятельства нежданно открыли путь к сближению с Европою совсем иным путем. В Англии образовалось общество под названием „The Mistery“. Его основателем был знаменитый Себастьян Кабат, открывший материк Северной Америки. Ближайшею целью этой компании было открытие пути в Китай и Индию через северные страны старого полушария. Общество это снарядило три корабля: два из них были заперты льдом, экипаж их погиб вместе с адмиралом Гуго Виллоуби; третий корабль „Эдуард Бонавентура“, под начальством Ричарда Ченслера, пристал, 24 августа 1553 года, к русским берегам у посада Неноксы в устье Двины. Ченслер с людьми отправился в Москву и представил грамоту Эдуарда VI, написанную вообще ко всем владыкам северных стран. Англичане были приняты и обласканы как нельзя лучше. Царь отвечал Эдуарду дружелюбною грамотою, которою позволял англичанам приезжать свободно в его государство для торговли. В марте 1554 года Ченслер возвратился в отечество. Англичане смотрели на его путешествие как на открытие новой страны, наравне с открытиями, совершавшимися в Америке. Явились самые блестящие надежды на выгоды от торговли с неведомою московскою землею. Устроилась компания, уже специально с целью „торговли с Московиею, Персиею и северными странами“; она сокращенно называлась „русскою компаниею“. Ее правление состояло из governor'a (первым пожизненно был назначен Кабат) и из двадцати восьми правительствующих членов, выбираемых ежегодно. Она получила право покупать земли, но не более как на 60 фунтов стерл. в год, иметь свой самосуд, строить корабли, нанимать матросов, приобретать земли в новооткрытых странах и, торгуя в России при покровительстве русского государя, противодействовать совместничеству не только торгующих иностранцев, но и английских подданных, не принадлежащих компании. В 1555 году Ченслер снова прибыл в Москву, но уже в качестве посла, и выхлопотал льготную грамоту для английской компании. Ей дозволялась беспошлинная торговля оптом и в розницу, давалось право заводить дворы в Холмогорах и в Вологде, а в Москве ей был подарен двор от царя у церкви Максима исповедника: в каждом дворе члены компании могли держать у себя по одному русскому приказчику: они имели свой суд и расправу: никакие царские чиновники не могли вмешиваться в их торговые дела, кроме царского казначея, которому принадлежал суд между компанией и русскими торговцами. Когда Ченслер отправился в отечество, то с ним вместе отправился русский посол по имени Непея. У берегов Шотландии Ченслер потерпел кораблекрушение, а Непея благополучно избег опасности и был принят королевою Мариею со знаками особенного внимания. С тех пор между Англией и Россией завязались дружественные отношения. С тех пор каждый год приходили к устью Двины английские корабли с товарами. Пустынные и дикие берега Северного моря оживлялись, населялись; Московская Русь разом познакомилась со множеством предметов, о которых не имела понятия; закипела новая торговая жизнь. Права английской компании и ее деятельность расширялись с каждым годом и превращались в монополию, которая отзывалась уже неприятно для русских, потому что выгода от торговли клонилась преимущественно на сторону иноземцев, особенно вследствие распоряжений, сделанных в позднейшее время царствования Ивана и после него. Во всяком случае, завязавшаяся торговля с Англией имела чрезвычайно важное значение в истории русской культуры и составляет в ней перелом.
Между тем правители продолжали расширение пределов государства за счет татарского племени и, как видно, признали настоятельною задачею Руси подчинить татарские народы одних за другими. Покончили с Астраханью. Царство Астраханское было в руках ногайских князей, к которым принадлежал и Едигер, последний царь казанский. В Астрахани царем был Ямгурчей. Он дружил с Девлет-Гиреем и нанес оскорбление московскому послу. За это, весною 1554 года, отправлено было в Астрахань русское войско под начальством князя Пронского-Шемякина и Вешнякова. Они изгнали Ямгурчея и посадили в Астрахани царем другого нагайского князя, Дербыша, но уже в качестве московского подручника и оставивши при нем русское войско. Дербыш на другой же год сошелся с Девлет-Гиреем и начал открытую войну против Москвы, но в марте 1556 русские, находившиеся в Астрахани с головою Черемисиновым, разбили и прогнали Дербыша. Астрахань была непосредственно присоединена к Московскому государству и туда были назначены московские наместники. Это завоевание передало Московской державе огромные степи Поволжья, и вся Волга от истока до устья вошла во владение Москвы.
Оставалось разделаться с Крымом. Это было труднее, чем покорение Казани и Астрахани, но дело все-таки возможное. Удаче этого предприятия помешало то, что между советниками Ивана началась рознь. Тогда как Сильвестр и некоторые его единомышленники, в числе их Адашев и Курбский, были того мнения, что следует, не развлекая ни чем сил, обратиться исключительно на Крым и уничтожить Крымское царство, подобно Казанскому и Астраханскому, представилась возможность владеть Ливониею. Ливонский орден был в полном разложении: немцы, избалованные долгим миром, отвыкли от войны, а большинство народонаселения, состоя из порабощенных чухон и латышей, готово было безропотно покориться власти Москвы. Иван Васильевич колебался между тем и другим предприятием и решился на то и другое разом, хотя сам более склонялся к последнему. Это раздвоение военных сил вредило расправе с Крымом, несмотря на то, что обстоятельства благоприятствовали русским. В союзе с Москвою были днепровские казаки, которые тогда усиливались с каждым годом. Предводителем у них был князь Димитрий Вишневецкий, один из потомков Гедимина, человек храбрый, предприимчивый и до чрезвычайности любимый подчиненными. Он просил прислать ему войско и предлагал московскому царю свою службу со всеми казаками, с Черкасами, Каневом, с казацкою Украиною на правом побережье Днепра, составлявшую ядро той Малой России, которая через столетие поклонилась другому московскому царю. Вишневецкий хотя считался подданным великого князя литовского и короля польского Сигизмунда-Августа, но не обращал внимания на запрещение последнего воевать с татарами, и действовал совершенно независимо со своими казаками. В это время в Крыму и в степях между нагаями свирепствовали разные естественные бедствия: сначала жестокий холод, потом засуха, скотский падеж и, наконец, мор на людей. Современники говорили, что во всей Орде не осталось десяти тысяч лошадей. Из Москвы в 1557 году к казакам был послан дьяк Ржевский с отрядом. Он соединился с тремястами казаков, разорил Ислам-Кермень и Очаков, разбил татар и бывших с ними турок. По удалении Ржевского, Девлет-Гирей пошел с ордою на Вишневецкого, который тогда укрепился на острове Хортице. (То был зародыш Запорожской Сечи, которая через несколько лет утвердилась ниже Хортицы, на другом острове, Томаковке.) Вишневецкий двадцать четыре дня отбивался от хана и наконец прогнал его. В следующем 1558 году Сильвестр и бояре его партии убеждали Ивана двинуть все силы на Крым и самому идти во главе. Сильвестр, желая отвлечь его от ливонской войны, резко осуждал ее, особенно за варварский образ, с каким она велась, за истребление старых и малых, за бесчеловечные муки над немцами, совершаемые татарами, распущенными по Ливонской земле под начальством Шиг-Алея: Сильвестр называл Ливонию „бедною, обижаемою вдовицею“. Иван, как прежде, колебался, слушал с большею охотою советы противников Сильвестра, не думал в угождение последнему щадить Ливонии, однако не совсем решался действовать вразрез с ним и людьми его партии; он ограничился полумерами. Царь принял в свою службу Вишневецкого, подарил ему город Велев, но приказал ему сдать королю Черкасы и Канев, не желая принимать в подданство Украины и ссориться с королем. Он отправил брата Адашева Данила с 5000 чел. на Днепр против крымцев для содействия Вишневецкому, отправленному на Дон, но сам не двинулся с места и не посылал более войска. Между тем обстоятельства стали еще более благоприятствовать Москве. Черкесские князья, отдавшиеся московскому государю после завоевания Астрахани, собрались громить владения Девлет-Гирея с востока. В Крыму, в довершение всех несчастий, поднялось междоусобие. Недовольные Девлет-Гиреем мурзы хотели его низвергнуть и возвести на престол Тохтамыш-Гирея. Покушение это не удалось. Тохтамыш бежал в Москву. Удобно было московскому государю покровительствовать этому претенденту и найти для себя партию в Крыму. Царь Иван этим не воспользовался. Данило Адашев спустился на судах по Псёлу, потом по Днепру, вошел в море и опустошил западный берег Крыма, а черкесские князья завоевали Таманский полуостров. Весь Крым был поражен ужасом. Но ТАK как новых московских сил не было против него послано, то дело этим и ограничилось. Царь Иван имел тогда возможность уничтожить Девлет-Гирея, но только раздражил его и приготовил себе со стороны врага мщение на будущее время. Самая удобная минута к покорению Крыма была пропущена. Надобно заметить, что для удержания Крыма в русской власти в те времена предс – тавлялось более удобства, чем впоследствии, потому что значительная часть тогдашнего населения Крыма состояла еще из христиан, которые естественно были бы довольны поступлением под власть христианского государя. Впоследствии потомки их перешли в мусульманство и переродились в татар.
Крымский вопрос еще более разъединил царя Ивана с людьми Сильвестровой партии. Их влияние, видимо, упадало. Ливонская война велась против желания многих, хотя некоторые из них, исполняя долг службы, не только участвовали в ней, но даже своими подвигами решали ее в пользу Москвы. Рыцари претерпевали поражение за поражением, город сдавался за городом; наконец в 1559 году Ливонский орден заключил договор с Сигизмундом-Августом, по которому отдавал ему часть своих владений и просил содействия против московского государя. Это событие готовило неизбежное столкновение с Польшей, и уже Сигизмунд-Август в следующем 1560 писал царю Ивану, что должен будет оружием защищать страну, которая отдалась ему в подданство. Царь отвечал на это высокомерно: называл ливонцев, отдавшихся Сигизмунду-Августу, изменниками и требовал, чтобы Сигизмунд-Август вывел своих воевод с ливонской земли. Русские между тем продолжали счастливо войну с Ливонией. В этой войне отличались преимущественно друзья Сильвестра: Курбский и Данило Адашев.
В это время в московском правительстве совершился решительный перелом. Враги Сильвестра и Адашева постепенно довели царя до того, что он решился сбросить с себя опеку. Главными врагами Сильвестра были Захарьины и вооружили против него сестру свою царицу Анастасию. „Царь, нашептывали Ивану, – должен быть самодержавен, всем повелевать, никого не слушаться: а если будет делать то, что другие постановят, то это значит, что он только почтен честью царского председания, а на деле не лучше раба. И пророк сказал: горе граду тому, им же мнози обладают. Русские владетели и прежде никому не повиновались, а вольны были подданных своих миловать и казнить. Священнику отнюдь не подобает властвовать и управлять; их дело священнодействовать, а не творить людского строения“. В довершение всего Ивана убедили, что Сильвестр чародей, силою волшебства опутал его и держит в неволе. Сторонники Сильвестра сознаются, что Сильвестр обманывал царя, представлялся в глазах его богоугодным человеком, облеченным необыкновенною силою чудотворения, что он, одним словом, дурачил царя ложными чудесами, и оправдывают его поступки только тем, что все это делалось для хороших целей. Враги Сильвестра также представляли его царю чудотвором, но только получившим силу не от Бога, а от темных властей. Такой путь мог всего скорее поколебать суеверного царя. Сильвестра не терпели многие за его проницательность и желали удалить его для того, чтобы невозбранно можно было брать посулы и умножать всякими способами свое достояние. Уже охладевший к Сильвестру, царь решительно разошелся с ним по случаю своего путешествия по монастырям с больною женою, предпринятого зимою в конце 1559 года. Тогда произошло у царя с Сильвестром и Адашевым какое-то крупное столкновение: подробностей его мы не знаем;[63 - На него намекает царь в одном из писем своих к Курбскому.] известно только, что Сильвестр и его друзья старались удержать Ивана от путешествия по монастырям и от принесения благочестивых обетов; но, после этого столкновения, и Сильвестр и Адашев сами нашли невозможным оставаться при царе. Сильвестр (вероятно, тогда уже овдовевший) удалился в какой-то отдаленный, пустынный монастырь, а Алексей Адашев отправился к войску в Ливонию. В этом деле участие Анастасии почти несомненно; сторонники Сильвестра, по поводу его удаления, сравнивали его с Иоанном Златоустом, потерпевшим от злобы царицы Евдоксии. До царя доходили все эти толки и еще более раздражали его против прежних опекунов. Но примирение с ними было бы еще возможно, если бы не случилось рокового обстоятельства: в июле 1560 года царица Анастасия, уже давно хворавшая, перепугалась пожара, опустошившего всю арбатскую часть в Москве. Болезнь ее усилилась, и она умерла 7-го августа, оставивши после себя двух сыновей: Ивана и Федора. Царь был в отчаянии: народ сожалел об Анастасии, считая ее добродетельною и святою женщиною, так как она отличалась набожностью и благотворительностью. Понятно, что с потерею любимой особы стали царю ненавистнее те, которые не любили ее при жизни. Этим воспользовались враги и начали уверять царя, что Анастасию извели лихие люди, Сильвестр и Адашев, своими чарами. Друзья сообщили об этом тотчас тому и другому; последние, через посредство митрополита Макария, просили суда над собою и дозволения прибыть в Москву для оправдания. Но враги не допустили до этого. „Если ты, царь, – говорили ему, – допустишь их к себе на глаза, они очаруют тебя и детей твоих; да кроме того, народ и войско любят их, взбунтуются против тебя и нас перебьют камнями. Хотя бы этого не случилось – опять обойдут тебя и возьмут в неволю. Эти негодные чародеи уже держали тебя, как будто в оковах, повелевали тебе в меру есть и пить, не давали тебе ни в чем воли, ни в малых, ни в больших делах. Не мог ты ни людей своих миловать, ни царством своим владеть. Если бы не было их при тебе, при таком славном, храбром и мудром государе, если бы они не держали тебя, как на узде, ты бы почти всею вселенною обладал, а то они своим чародейством отводили тебе глаза, не давали тебе ни на что смотреть, сами желали царствовать и всеми нами владеть. Только допусти их к себе, тотчас тебя ослепят! Вот теперь, отогнавши их от себя, ты истинно пришел в свой разум; открылись у тебя глаза; теперь – ты настоящий помазанник Божий; никто иной – ты сам один всем владеешь и правишь“.
Так говорили не только шурья царя и некоторые бояре, но и те духовные, которые проповедовали из своекорыстных видов деспотизм всякого рода и старались угождать земной власти ради личных выгод. Это были все так называемые „осифляне“. Всего более ярились против Сильвестра: Вассиан, чудовский архимандрит Левкий и какой-то Мисаил Сукин. Царь созвал собор для осуждения Сильвестра. Епископы, завидовавшие возвышению Сильвестра, пристали к врагам его, когда увидели, что и царю угодно было, чтоб все выказали себя противниками павшего любимца. Один митрополит Макарий заявил, что нельзя судить людей заочно и что следует выслушать их оправдание. Но угодники царя завопили против него: „Нельзя допускать ведомых злодеев и чародеев: они царя околдуют и нас погубят“. Собор осудил Сильвестра на заточение в Соловки. Он был взят из своей пустыни, отвезен туда на тяжелое заключение. Но положение его там не могло быть очень тяжелым: игуменом в Соловках был Филипп Колычев, впоследствии митрополит, человек, как оказывается, сходившийся в убеждениях с Сильвестром. С тех пор имя Сильвестра уже не встречается в памятниках того времени. От Сильвестра осталось сочинение „Домострой“, заключающее в себе ряд наставлений сыну – религиозных, нравственных, общежительных и хозяйственных. В этом сочинении, которое драгоценно как материал для знакомства с понятиями, нравами и домашним бытом древней Московской Руси, встречаются любопытные черты, объясняющие личность Сильвестра. Мы видим человека благодушного, честного, строго нравственного, доброго семьянина и превосходного хозяина. Самая характеристическая черта Домостроя – это заботливость о слабых, низших, подчиненных и любовь к ним, не теоретическая, не лицемерная, а чуждая риторики и педантства, простая, сердечная, истинно христианская. „Как следует свою душу любить, – поучает он, – так следует кормить слуг своих и всяких бедных. Пусть хозяин и хозяйка всегда наблюдают и расспрашивают своих слуг и подчиненных об их нуждах, об еде и питье, об одежде, о всякой потребе, о скудости и недостатке, об обиде и болезни; следует помышлять о них, пещись сколько Бог поможет, от всей души, все равно как о своих родных“. Вот такие-то правила внушались и царю по отношению к подвластным ему людям. Отсюда-то истекают грамоты и распоряжения лучших лет Иванова царствования, в которых явно видно желание дать народу как можно более льгот и средств к благосостоянию. Автор „Домостроя“ сознает гнусность рабства, сам лично уже отрешился от владения рабами и то же заповедует сыну: „Я не только всех своих рабов освободил и наделил, но и чужих выкупал из рабства и отпускал на свободу. Все бывшие наши рабы свободны и живут добрыми домами; а домочадцы наши, свободные, живут у нас по своей воле. Многих оставленных сирых и убогих мужского и женского пола и рабов в Новгороде, и здесь в Москве, я вскормил и воспоил до совершенного возраста и выучил их, кто к чему был способен: многих выучил грамоте, писать и петь, иных писать иконы, иных книжному рукоделию, а некоторых научил торговать разной торговлею. Твоя мать воспитала многих девиц и вдов, оставленных и убогих, научила их рукоделию и всякому домашнему обиходу, наделила приданым и замуж повыдавала, а мужеский пол поженила у добрых людей. И все те, дал Бог, – свободны: многие в священническом и дьяконском чине, во дьяках, в подьячих, во всяком звании, кто к чему способен по природе, и чем кому Бог благословил быть; те рукодельничают, те в лавках торгуют, а иные ездят для торговли в различные страны со всякими товарами. И Божьею милостью всем нашим воспитанникам и послуживцам не было никакой срамоты, ни убытка, ни продажи от людей; и людям от нас не бывало никакой тяжбы: во всем нас до сих пор соблюдал Бог; а от кого нам, от своих воспитанников, бывали досады и убытки – все это мы на себе понесли; никто этого не слыхал, а нам Бог все пополнил! И ты, дитя мое, так же поступай: всякую обиду перетерпи – Бог тебе все пополнит!“ Нигде у Сильвестра не видно того поклонения монастырю и безбрачию, которое, как известно, проповедовали благочестивцы. Если он советует давать милостыню в монастыри, то только на заключенных там, равно как на содержавшихся в тюрьмах и больницах: но он враг всякого разврата и бесчинства. „Я, – пишет он, – не знал никакой женщины, кроме твоей матери. Как мы с ней обещались, так я и сдержал свое обещание; и ты, дитя мое, храни законный брак, и кроме жены своей не знай никого, берегись пьянственного недуга: от этого порока все зло“. И царю Ивану, без сомнения, подавал Сильвестр такие советы; и они, конечно, тягостны были для горячей и порывистой натуры Ивана. Идеалом государя, до которого хотел возвести Сильвестр Ивана, был трезвый, строго нравственный, деятельный и благодушный человек; по освобождении от уз Сильвестрова учения, Иван, пьяный, развратный, кровожадный, как мы увидим, показал собою прямую противоположносгь этому идеалу.
Вместе с падением Сильвестра постиг конец и Адашева. Сначала ему велено было оставаться в недавно завоеванном Феллине, но вскоре царь приказал перевести его в Дерпт и посадить под стражу. Через два месяца после своего заключения он заболел горячкою и скончался. Естественная смерть избавила его от дальнейшего мщения царя, но клеветники распустили слух, будто он от страха отравил себя ядом. Долговременная близость его к царю и управление государственными делами давали ему возможность приобрести большие богатства, но он не оставил после себя никакого состояния: все, что приобретал, раздавал он нуждающимся.
Глава 19
МАТВЕЙ СЕМЕНОВИЧ БАШКИН И ЕГО СОУЧАСТНИКИ
Направление, данное Нилом и Вассианом, не обошлось, однако, без того, чтобы не выработаться в учение, действительно противное православной церкви. Они ставили сущность выше формы, внутреннее выше внешнего, ополчались против злоупотреблений существующего порядка, возбуждали к мысли и к самобытному изучению основ веры и своей снисходительностью к еретикам, хотя даже, быть может, против собственной воли, требовали уважения к полной свободе мысли. Такое направление не могло остановиться на полдороге. Всегда и везде подобные зародыши несогласия с существующим порядком в области религии, порядком, освященным веками, открывали путь к дальнейшим попыткам критики, приводившим, наконец, к полному отпадению от авторитета, к тому, что на церковно-историческом языке называется ересью. Прежде чем в XVI веке образовалось протестантство, выражавшее явную борьбу с католической церковью и полное отпадение от последней, являлись один за другим ученые и благочестивые люди, недовольные как злоупотреблениями церкви, так и господством формы над содержанием в области религии, хотя эти люди всею глубиною души были преданы этой же католической церкви. Тот же путь должен был последовать и у нас, хотя в незначительной степени в сравнении с Западом. Уже „осифляне“ старались набросить тень неправославия на самого Нила. Ученика его Вассиана и единомышленника Максима Грека они обвинили в ереси, хотя и неосновательно с нынешней точки зрения. Но с тех пор образовалось мнение, что в Ниловой пустыне и в других монастырях Белозерья гнездятся еретические мнения между старцами и оттуда распространяются по всей Руси. Возникло очень любопытное дело, объясняющее нам способ тогдашнего вольномыслия – это суд над сыном боярским Матвеем Семеновичем Башкиным и его соумышленниками. К большому сожалению, дело, производившееся об этом лице и его соумышленниках, не сохранилось вполне и известно только по отрывкам. Из них мы узнаем, что в Великий пост 1554 года Башкин явился к священнику Благовещенского собора, Симеону, на исповедь, объявил себя православным христианином, верующим в Св. Троицу и поклоняющимся иконам, но вместе с тем стал задавать такие вопросы, которые показались священнику „недоуменными“: Симеона поразило то, что Башкин сам же начал разрешать перед ним вопросы, которых не мог разрешить священник. В заключение Матвей напомнил ему высокую обязанность духовного сана в таких словах: „Великое дело ваше, сказано в писании; ничто же сия любви больше, еже положити душу свою за други своя; вы за нас души свои полагаете и печетесь о душах наших и за нас будете отвечать в день судный“. После этой исповеди Башкин приехал на дом к священнику, привез „Беседы Евангельские“ и говорил: „Ради Бога, пользуй меня душевно, надобно читать написанное в Евангельских беседах, но на одно слово не надеяться, а совершать его делом. Все начало от вас, священники, вам следует показать собою пример и нас научать. Видишь ли, в Евангелии стоит: научитеся от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем; иго мое бо благо и бремя мое легко есть. Все это на вас лежит“. После того Башкин пригласил к себе священника на дом и показал ему Апостол, измеченный восковыми пятнами по тем текстам, которые возбуждали в нем размышления. Симеон становился в тупик; Башкин сам ему предлагал собственные объяснения, которые казались Симеону подозрительными. Между прочим Башкин сказал: „Написано: весь закон заключается в словах – возлюби искреннего своего, как сам себя; если вы себя грызете и терзаете, то смотрите, чтобы вы не съели друг друга. Вот, мы Христовых рабов держим у себя рабами, а Христос всех называет братиею; а у нас на иных кабалы нарядные (фальшивые), на иных полные, а другие беглых держат. Благодарю Бога моего, у меня были кабалы полные, да я их всех изодрал, держу людей у себя добровольно; кому хорошо у меня – пусть живет, а не нравится, пусть идет куда хочет; а вам, отцам, надобно посещать нас, мирян, почаще да научать нас, как самим жить и как людей у себя держать, чтобы их не томить“. – „Я этого не знаю“, – сказал Симеон. „Так спроси Сильвестра, – ответил Башкин, – он тебе скажет, а ты пользуй этим душу мою. Я сам знаю: тебе некогда об этом думать, ты в суете мирской и день и ночь покоя не знаешь“.
Симеон передал об этом Сильвестру: „Пришел, – говорил он, – ко мне духовный сын необычный, спрашивает у меня недоуменное, да сам меня и учит; а мне показалось это развратно“. – „Не знаю, какой это духовный сын, – отвечал Сильвестр, – только про него нехорошо говорят“.
Через несколько времени разнесся между духовными слух, что около Башкина собирается кружок людей, которые неправильно умствуют о существе Сына Божия, о таинствах, о церкви, о всей православной вере. Царя в то время не было в Москве. Он ездил в Кирилловский монастырь. Когда он воротился, то ему донесли, что „прозябе ересь и явися шатание в людях“.
У Башкина вытребовали Апостол, измеченный восковыми пятнами: сам Башкин, уверенный в правоте своих толкований, подал его Симеону. Царь рассматривал книгу, но, как видно, в ней не было еще явных улик. Башкина не трогали. Он продолжал сходиться со своими приятелями и толковать о религиозных предметах. Духовные узнали об этом и требовали преследования Башкина и его друзей, говорили, что все это выходит из Белозерских монастырей, которые сделались гнездом всякого еретичества. Башкина взяли под стражу с двумя братьями Борисовыми: Григорием и Иваном Тимофеевичами и захватили еще двух лиц, по имени Тимофей и Фома. На все вопросы они отвечали, что они православные христиане. Царь приказал поместить их в подклети своих палат. Решили созвать собор. Собор состоялся под председательством митрополита Макария.[64 - На нем были: архиепископ ростовский Никандр, суздальский епископ Афанасий, рязанский Кассиан, тверской Акакий, коломенский Феодосий, сарский и подонский Савва и многие архимандриты, игумены и протопопы.] Подсудимых обличали в том, что они признавали Иисуса Христа неравным Отцу, называли тело и кровь Господню простым хлебом и простым вином, отрицали святую соборную и апостольскую церковь, выражаясь, что церковь есть только собрание верных, а созданная ничего не значит: отвергали поклонение иконам, называя их идолами; отрицали силу покаяния, выражаясь так: как перестанет грех творить, так хоть у священника не покается, так не будет ему греха; считали церковные предания и жития святых баснословием: отзывались с пренебрежением о постановлениях семи соборов, говоря: это все они для своих выгод написали; наконец и в самом Священном Писании видели баснословие, излагали Евангелие и Апостол так, как бы эти книги содержали истину в неправде.
До нас не дошли ответы Башкина и его соумышленников, а из соборной грамоты того времени видно, что с Башкиным сделалось на соборе какое-то расстройство или припадок, что он говорил какую-то бессмыслицу, что ему потом представлялся голос Богородицы, и он в испуге во всем сознался и открыл своих единомышленников. За неимением подлинных ответов подсудимого, мы не можем сделать об этом никакого заключения.
Собор признал его виновным. Дальнейшая его участь неизвестна; соумышленников его сослали по монастырям на вечное заточение, „посудиша их неисходно им быти“.
К делу Башкина привлечен был троицкий игумен Артемий. Об этом человеке мы знаем то, что он был родом из Пскова, избран в игумены Троицкого монастыря, приобрел там общую любовь, но вскоре на него пало подозрение в вольнодумстве. Он снял с себя игуменство и удалился в Нилову пустынь вместе с другом своим Порфирием. Когда началось дело Башкина, их обоих вызвали оттуда, как будто за тем, чтобы присутствовать на соборе, а на самом деле за тем, что считали их подозрительными. Еще Башкин, как видно, не сознавался, а Артемия побуждали спорить с ним и обличать его. Артемий уклонялся от спора и говорил: „Это не мое дело“. Но когда Башкин пришел в расстройство и начал оговаривать и себя, и других, Артемий ушел из Москвы в свою пустыню, но был возвращен и предан соборному суду. Ему ставили в вину эту самовольную отлучку. Он сказал, что убежал от „наветующих на него“, но не хотел указывать, кто эти наветующие. По-видимому, Артемий не признавал Башкина еретиком и говорил только, что Матвей делает ребячество. „Меня, – говорил oн, – призвали судить еретиков, а еретиков нет“. – „Как же Матвей не еретик, – сказал митрополит, – когда он написал молитву единому началу, Богу Отцу, а Сына и Святого Духа отставил?“
„Нечего ему и врать, сказал Артемий, – такая молитва готова, молитва Манассии к Вседержителю“.
„То было до Христова пришествия, – отвечали ему, – а теперь кто напишет молитву к единому началу, тот еретик. Ты виноват, кайся“.
„Мне нечего каяться, я верую в единосущную Троицу“, – сказал Артемий.
Эти ответы Артемия поставили ему в обвинение. Затем явился доносчик на Артемия, игумен Ферапонтова монастыря, Нектарий, который обвинял Артемия в том, что он в постные дни ел рыбу.
„Я ел рыбу, – отвечал Артемий, – когда мне приходилось быть у христолюбцев, и у царя ел за столом рыбу“.
„Это ты чинил не гораздо, – сказал митрополит от лица собора, – это тебе вина: значит, ты сам вопреки божественных уставов и священных правил разрешаешь себе пост, а на тебя смотря, и люди соблазняются“.
Относительно холопства в это время сделано было несколько распоряжений, видимо, клонившихся к уменьшению числа холопов. Таким образом, отменилось древнее правило, что поступивший в должность к хозяину без ряда делался его холопом. Детям боярским запрещалось продаваться в холопство не только во время службы, но и ранее. (Впоследствии это распоряжение было отменено для тех из них, которые еще не поступили в действительную службу.) Судебник запрещал отдаваться в холопство за рост, следовательно, предотвращал случаи, когда человек в нужде делался рабом. Впрочем, неоплатный должник после правежа отдавался головою заимодавцу, но, чтобы меньше было таких случаев, постановлено было давать на себя кабалы не более, как на пятнадцать рублей. Кроме того, при всякой отдаче головою, излюбленные судьи должны были делать особый доклад государю. Наконец, беглый кабальный холоп не был возвращаем прямо хозяину, а ему предлагали прежде заплатить долг, и только в случае решительной несостоятельности выдавали его головою.
Замечательно, что в совете людей, правивших тогда на деле государством, очевидно были разногласия, проистекавшие от различных взглядов. Это в особенности ощутительно по вопросу о местничестве. Таким образом, в 1550 году являются распоряжения, показывающие намерение вовсе уничтожить местничество: так, напр., было постановлено, чтобы в полках князьям, воеводам и детям боярским ходить без мест, „и в том отечеству их унижения нет“. Один только первый воевода большого полка считался выше прочих: все же остальные были между собою равны. Но в следующем году другим распоряжением установлялась разница в достоинстве воевод между собою, и в одном современном списке летописи по этому поводу сказано: „а воевод государь прибирает, рассуждая отечество“ (т. е. подбирает воевод, принимая во внимание службу их отцов). Видно, что люди с более широким взглядом не могли сразу сладить с предрассудками: впоследствии, когда господство Сильвестра и Адашева кончилось, местничество водворилось опять во всей силе.
Выборное земское начало, так широко развившееся в этот короткий промежуток времени, естественно, не могло достигнуть полной независимости, и только с течением времени могли разрешиться чрезвычайно сложные вопросы по управлению, вызывавшие вмешательство царских чиновников. Еще большая масса служилых подлежала суду наместников и волостелей. Когда происходили ссоры между волостями и частными владельцами, и волости обращались с жалобою к царю, то царь, естественно, возлагал разбирательство дела на таких лиц, от которых выборное право освобождало посадских и крестьян. То же было и тогда, когда волостные крестьяне тягались между собою; тогда малые деревни, не будучи в состоянии противостать большинству, обращались сами под защиту суда наместников. Наконец, люди, управлявшиеся выборными властями, находились во власти царских чиновников по государственным повинностям, какими, например, были: городовое дело, посошная служба и т. п. При этом следует заметить, что везде принимались во внимание местные условия, права и обязанности, чрезвычайно разнообразившие отношения жителей как к государству, так и взаимно между собою.
Вслед за земскими учреждениями приступлено было к церковному устройству. В 1551 году собрался собор для пересмотра порядков церкви, ее управления и религиозных обычаев. При открытии собора Иван говорил длинную речь, каялся в своем прежнем поведении и приглашал содействовать ему в управлении государством как духовенство, так и светских людей. Иван был настроен тогда в духе крайнего смирения и говорил совершенно противоположное тому, что он высказывал впоследствии в защиту своего самодержавия. Выше всего он почитал тогда церковь и отдавал ей на рассмотрение даже все земское устройство, составленное по Судебнику и Уставным грамотам. Акты этого знаменитого собора дошли до нас в форме вопросов, предлагаемых от имени царя на соборе, и ответов на эти вопросы, заключающих в себе соборные приговоры. Так как этих вопросов и ответов было сто, то и собор получил в истории название Стоглава.
По отношению к церковному управлению предложено было исправить порядок, схожий с управлением наместников и волостелей в земском деле. Владыка в своей епархии в соборе напоминал собою удельного князя. У него был совет из собственных бояр, которые управляли и судили в епархии с докладом владыке. Судьями от владыки были его наместники и десятильники; при них были, так как и в земстве, недельщики и доводчики. Белое духовенство и монастыри были обложены множеством разнообразных пошлин,[58 - Например, дани зимняя и летняя, заездничье, въезжее, благословенная куница (подать со священника при вступлении в должность), перехожая куница (при переходе из одного прихода в другой), явленная куница (при явке ставленной грамоты), соборная куница, людское, полюдная пшеница, казенные алтыны, венечная пошлина (с невесты), новоженный убрус (с жениха), десятильничьи пошлины и пр.] от которых некоторые освобождались по благоволению владыки. Владыки раздавали свои земли в поместья детям боярским – эти земли переходили от владельца к владельцу не по наследству, а по воле архиерея. Дети боярские были обязаны службою владыке, хотя в то же время призывались и на государственную службу. Суд у святителей, соответственно подлежавшим этому суду предметам, был двух родов, духовный – в делах, относившихся к области веры и благочестия, как над духовенством, так и над мирскими людьми, и мирской – над лицами, исключительно состоявшими в церковном ведомстве. Вообще, как суд, так и управление в церковном ведомстве страдали в те времена большими злоупотреблениями. Владычные бояры, дьяки и десятильники всеми неправдами притесняли сельских священников. Собор не решился отменить суда бояр и десятильников, потому что и при великих чудотворцах: Петре, Алексие и Ионе, были десятильники, но учредил из священников, старост и десятских, которые, между прочими обязанностями, должны были присутствовать на суде десятильников; да кроме того, на этот суд допускались еще и земские старосты и целовальники вместе с земским дьяком. Всякое дело писалось в двух экземплярах, и одна сторона поверяла другую. Избираемые из священников поповские старосты и десятские должны были, каждый в своем пределе, наблюдать за церковным благочинием и за исполнением обязанностей духовенства. Они же собирали и доставляли к владыке все установленные сборы и пошлины. Собор обратил внимание и на книги. Издавна переводились книги с греческого языка, отчасти с латинского, переписывались старые сочинения и переводы и продавались. Как переводы, так и переписки исполнялись плохо.[59 - До сих пор в наших библиотеках можно видеть старые переводы с греческого, в которых нельзя добраться смысла.] Тогда все письменное без разбора относили к церкви; и оттого-то книги отреченные и апокрифы считались, по невежеству, наравне с каноническими книгами Священного Писания, и нередко приписывалось отцам церкви то, чего те никогда не писали. Это неизбежно вело к заблуждениям. Собор устанавливал род духовной цензуры, поверяя ее поповским старостам и десятским. Книгописцы состояли под их надзором. Старосты и десятские имели право просматривать и одобривать переписанные книги и отбирать из продажи неисправленные. Так как в те времена во всеобщем понятии учение грамоте связывалось с благочестием, то это учение вообще поставлено было в зависимость от духовных властей. Во времена Стоглава оставалась память, что некогда на Руси существовали училища, но потом исчезли: немногие теперь знали вполне грамоту, учились как-нибудь, и святители поневоле посвящали в священники людей малограмотных. Собор постановил завести училища и поверил их устройство избранным духовным, которые должны были открывать училища в своих домах; православные христиане приглашались отдавать детей своих в обучение грамоте, письму и церковному пению. Занимаясь вопросом о писании книг, Стоглавный собор коснулся вопроса об иконописании, заметил большие злоупотребления и определил установить особый класс иконописцев под надзором святителей так, чтобы, кроме них, никто не смел заниматься иконописанием.
Монастыри с существовавшими в них злоупотреблениями составили одну из главных забот Стоглавного собора. Наделенные селами и пользуясь большими доходами, монастыри были земным раем для своих начальствующих лиц, которые всегда могли принудить к молчанию своих подчиненных лиц, если бы со стороны последних раздавались обличения. Архимандриты и игумены окружали себя своими родными и клевретами и превращали монастырское достояние в выгодные для себя аренды. Их родня под именем племянников поселялась в монастырях; настоятель раздавал им монастырские села, посылая их туда в качестве приказчиков. Управление монастырскими имениями, вместо того чтобы производиться собором старцев, зависело от произвола одного настоятеля. В его безусловной власти находились и братия, и священнослужители монастырских сел и часто терпели нужду, хотя и находились в ведомстве очень богатого монастыря, так как никто из них не пользовался доходами и не смел требовать участия в пользовании. Зато настоятели жили в полном удовольствии. В редких монастырях удерживалось общежитие в строгой его форме: если где и была скудная трапеза, то разве для бедняков, питавшихся от крупиц, падавших со стола властей. Нередко вкладчики, в порыве благочестия, отдавали в монастырь все свое достояние с тем, чтобы там доживать свою старость; лишившись добровольно имущества, они терпели и голод, и холод, и всяческие оскорбления от властвующих, которые не дорожили ими, зная, что с них, после отдачи всего в монастырь, уже более нечего взять. Зато те, которые хотя и отдали в монастырь часть своего достояния, но оставили значительный запас у себя, пользовались вниманием и угодливостью. В монастырях курили вино, варили пиво и меды, отправлялись пиры; в монастыри приезжали знатные и богатые господа, и настоятели раболепствовали пред ними, стараясь что-нибудь выманить от них. Вольное обращение с женским полом доходило до большого соблазна: были монастыри, в которых чернецы и черницы жили вместе. Нередко можно было встретить в монастырях мальчиков, „ребят голо-усых“, как выражались в то время.
От деспотизма и алчности настоятелей, вообще снисходительных к себе и строгих к другим, нередко братия уходила из монастыря; бедняки иногда скитались с места на место, не находя приюта; в других монастырях их принимали неохотно; иные находили себе убежище у мирских церквей, построенных христолюбцами не для прихода, а для себя. Таких церквей было множество, но большая часть их стояла пустою. То была своеобразная черта русского благочестия: состроить церковь ради спасения своей души вследствие какого-нибудь сна или видения, назначить „ругу“ на содержание ее, то есть на свечи, просфоры и вино, договорить какого-нибудь бродячего монаха, а то и светского иерея, которых тогда также скиталось немало на Руси, а впоследствии порывы благочестия минуют, – в церкви нет служения, и договоренный священник не может служить и жить при церкви, потому что ему перестали давать содержание! Часто бродячие чернецы и в особенности черницы промышляли пророчествами и видениями; нагие, босые, с отрощенными и нечесаными волосами ходили они по селам и погостам, привлекали своим появлением толпу, всенародно тряслись, бились, кричали, что им являлись Святая Пятница или Святая Анастасия и будто бы заповедали им объявить всем христианам, чтобы в среду и пятницу ничего не делали, чтоб женщины не пряли, белья не мыли и камня не разжигали и т. п. Случалось, что бродяга-чернец строил маленькую деревянную церковь, ходил просить милостыню, выпрашивал себе ругу, постоянное содержание, а потом пропивал все собранное им.
У нас часто думают, что в древности господствовало благочестие, по крайней мере, наружное; но Стоглав представляет нам в этом отношении совсем иной образ. При невежестве духовенства, богослужение происходило самым нестройным образом, особенно заутреня и вечерня; в одно и то же время один читал канон, другой кафизмы; духовные машинально исполняли заученное, не имея никакого внутреннего благочестия, и потому позволяли себе во время богослужения непристойные выходки, приходили в церковь пьяные, ругались и даже дрались между собою. Глядя на них, миряне не оказывали никакого уважения к церкви: входили в храм в шапках, громко разговаривали между собою, смеялись, перебранивались, даже нередко среди божественного пения можно было услышать срамные слова. В поминальные дни церковь представляла совершенный рынок – приносились туда яйца, калачи, пироги, печеная рыба, куры, блины, караваи; попы уносили все это в алтарь и ставили даже на жертвенник. В монастырях в этом отношении было не лучше; ожиревшие от изобилия настоятели часто вовсе не священнодействовали, братия пьянствовала, и по целым неделям не бывало в монастыре богослужения. Собор осудил все эти злоупотребления, между прочим, совсем запретил держать в монастырях пьянственное питье, кроме „фрязских вин“; запрещалось совместное жительство чернецов и черниц; для сохранения монастырской казны собор определил давать по книгам отчеты царским дворецким. Издано постановление против заводителей новых пустынь, которые тогда сильно размножались: велено было такие мелкие пустыни соединять между собою, подчинять монастырям или даже уничтожать их вовсе. Собор поставил предел увеличению церковных вотчин; хотя право владения за владыками и монастырями было оставлено, но вперед церковные власти без особого царского разрешения не могли уже покупать земель. Постановлено было также, чтобы люди служилые не давали по душе своих вотчин без воли государя, и все вотчины, отданные боярами в монастыри со смерти великого князя Василия, велено отобрать. Кроме того, оказывалось, что владыки и монастыри беззаконно присвоили у детей боярских земли под предлогом долгов, и такие земли велено обратить в собственность тех лиц, за кем они были прежде.
Из Стоглава видно, что в то время в церковном порядке и в приемах благочестия существовали многие особенности, отличные от того, что мы видим в настоящее время. При крещении в некоторых местах соблюдалось, вместо погружения, обливание, которое и воспрещено было правилами Стоглавного собора. Обычай брать восприемниками мужчину и женщину, кума и куму, – в настоящее время всеобщий – тогда только начал входить и был запрещен Стоглавным собором, постановившим, чтобы восприемником было одно лицо: мужского или женского пола. Венчание положено было совершать непременно после обедни и венцы полагать только на первобрачных. Жениху должно было быть не менее пятнадцати, а невесте не менее двенадцати лет от роду. Языческий обычай наговаривания применился к христианским обрядам: просфирни наговаривали на просфоры, и таким просфорам приписывалась особая врачебная сила; подобно тому в великий четверг приносили в церковь соль, которую священники клали под престол и держали до седьмого четверга по Пасхе – день народного праздника семика: этой соли приписывали целебную силу против болезни скота. Такие суеверия воспрещены были Стоглавным собором, как равно различные гадания и гадательные книги: рафли, Аристотелевы врата, наблюдения по звездам и „планидам“, „шестокрыл, воронограй, альманах“ и иные „составные и мудрости еретические и коби бесовские“.
В вопросах, предложенных на этом соборе, встречается много любопытных черт, указывающих на языческие обычаи, еще довольно сильные в то время, как, например: на поминках сходились мужчины и женщины на кладбищах; туда приходили скоморохи и гудцы (музыканты); справлялось веселье, шла попойка, пляска, песни. Таким веселым днем была в особенности суббота перед пятидесятницею; в великий четверток отправлялся языческий обычай „кликать мертвых“, теперь уже совершенно исчезнувший; он сопровождался сожжением соломы. В этот же день клали трут в расселину дерева, зажигали его с двух концов, полагали в воротах домов или раскладывали там и сям перед рынком и перескакивали через огонь с женами и детьми. Ночь накануне Рождества Иоанна Предтечи повсеместно проводилась народом в плясках и песнях: то было древнее празднество Купалы. Подобные языческие празднества указываются, кроме того, накануне Рождества Христова и Богоявления и в понедельник Петрова поста: в последний из этих дней был обычай ходить в рощу и там отправлять „бесовские потехи“. Запрещая эти языческие увеселения, собор вообще осуждал всякие забавы – шахматы, зернь (карты), гусли, сопели, всякое гуденье, позорища (сценические представления), переряживанье и публичное плясанье женщин.
Стоглавный собор узаконил выкуп русских людей, попадавшихся в плен татарам. Прежде таких пленников выкупали греки, армяне, а иногда и турки, и приводили в Московское государство, предлагая выкупить, но если не находилось охотников, то уводили их назад. Теперь же постановлено было выкупать их из казны, и издержки на выкуп разложить по сохам на весь народ. Никто не должен увольняться от такой повинности, потому что это общая христианская милостыня. Мы не знаем, в какой мере введены были и удержались все преобразования Стоглава, тем более, что до нас не дошли его ранние списки, а те, которыми мы принуждены довольствоваться, писаны уже в XVII веке, и в них есть разноречия.[60 - Сюда, например, включено постановление о сугубой аллилуйе, которое, очевидно, внесено раскольниками, так как в сочинениях Макария, председательствовавшего на этом соборе, признавалась правильной трегубая аллилуйя и т. п.]
После внутренних преобразований правители занялись покорением Казанского царства. Прежде подручное московскому государю, это царство находилось теперь в руках злейшего врага русских – Сафа-Гирея. Тогда Казань, по выражению современников, „допекала Руси хуже Батыева разорения; Батый только один раз протек русскую землю словно горящая головня, а казанцы беспрестанно нападали на русские земли, жгли, убивали и таскали людей в плен“. Их набеги сопровождались варварскими жестокостями; они выкалывали пленникам глаза, обрезывали им уши и носы, обрубливали руки и ноги, вешали за ребра на железных гвоздях. Русских пленников у казанцев было такое множество, что их продавали огромными толпами, словно скот, разным восточным купцам, нарочно приезжавшим для этой цели в Казань. Но Сафа-Гирей не крепко сидел в Казани, которая была постоянно раздираема внутренними партиями. В 1546 году враждебная ему партия выгнала его и опять пригласила в цари Шиг-Алея, освобожденного Еленою из заточения. Не мог ужиться с казанцами этот новый царь и скоро бежал от них. Сафа-Гирей опять сел на престол, но не надолго. Напившись пьян, он зацепился за умывальник и расшиб себе голову. Казанцы провозгласили царем его малолетнего сына Утемиш-Гирея, под опекой матери Сююн-Беки.[61 - До сих пор в Казани уцелела башня, называемая ее именем.] В это время русские последовали примеру Василия, построившего Васильсурск, и построили в 1550 году, в тридцати семи верстах от Казани, крепость Свияжск. Последствием такой постройки было полное покорение горной черемисы, или чувашей. Этот народ, хотя и единоплеменный луговой черемисе или настоящим черемисам, был, однако, совершенно отличен от последних по нравам. Тогда как черемисы, жившие на левой стороне Волги, отличались дикостью и воинственностью, чуваши был народ смирный и земледельческий. Чуваши легко покорились русской власти, особенно когда им дали льготу на три года от платежа ясака, а царь в Москве подарил их князьям шубы, крытые шелковой материей. Близость русского поселения и подчинение правого берега Волги, находившегося прежде под властью Казани, произвели такое волнение в столице Казанского царства, что казанцы в августе 1551 года выдали Сююн-Беку с сыном, отпустили часть содержавшихся у них русских пленников и снова призвали Шиг-Алея, в надежде, что русские возвратят им владение над горным берегом Волги. Русские посадили Шиг-Алея на казанском престоле, но не думали отдавать горной страны. Шиг-Алей через то не ладил с казанцами; они беспрестанно требовали от него, чтобы он старался восстановить прежние пределы царства, не хотели отпускать остававшихся у них русских пленников и, наконец, составили заговор убить своего царя за его преданность Москве, но этот царь предупредил врагов, зазвал значительнейших из них к себе и приказал их перебить находившимся при нем русским стрельцам. Тогда многие казанцы поспешили в Москву жаловаться на Шиг-Алея, и вследствие этих жалоб в Казань приехал Адашев.
„Мне в Казани нельзя оставаться, – сказал Шиг-Алей Адашеву, – я согрубил казанцам: я обещал им выпросить у царя нагорную сторону; пусть государь пожалует нам нагорную сторону, тогда мне можно будет оставаться здесь; а пока я жив – царю Казань будет крепка“.
„Тебе уже сказано, – отвечал Адашев, – что горной стороны государю тебе не отдавать, Бог нам ее дал. Сам знаешь, сколько бесчестия и убытка наделали государям нашим казанцы; и теперь они держат русский полон у себя, а ведь когда тебя на царство посадили, то с тем, чтобы весь полон отдать“.
„Если горной страны не отдадут, – сказал Шиг-Алей, – то мне придется бежать из Казани“.
„Коли тебе из Казани бежать, – возразил Адашев, – то лучше укрепи Казань русскими людьми“.
„Я своему государю не изменю, – сказал Шиг-Алей, – но я мусульманин: на свою веру не встану. Если мне не в меру будет жизнь в Казани, я лихих людей еще изведу и сам поеду к государю“.
Адашев с тем и уехал. Но вслед за тем прибыли в Москву враждебные Шиг-Алею казанские князья и просили, чтобы царь удалил Шиг-Алея, а на место его прислал своего наместника. В Москве это предложение, естественно, понравилось.
Адашев снова поехал в Казань, свел Шиг-Алея с престола, захватил восемьдесят четыре человека противной Шиг-Алею партии и уехал в Свияжск, объявивши казанцам, что к ним будет прислан царский наместник. Казанцы показали вид согласия, но когда, вслед за тем, из Свияжска их известили, что к ним едет назначенный воеводою в Казань князь Семен Микулинский, они заперли город, не пустили русских и кричали им со стен: „Ступайте, дураки, в свою Русь, напрасно не трудитесь; мы вам не сдадимся, мы еще и Свияжск у вас отнимем, что вы поставили на чужой земле“.
Пробудилось чувство национальности и веры. В крайнюю минуту все партии примирились. Вся земля казанская вооружалась, даже чуваши изменили Москве, испытавши над собою управление воевод московских. Казанцы пригласили к себе в цари нагайского царевича Едигера, который прибыл в Казань с десятью тысячами нагайцев.
Опыт показывал, что Москве невозможно управлять Казанью посредством подручных князей, а предоставить ее на волю – значило подвергать восточную Русь нескончаемым разорениям. В Москве решили идти с сильным ополчением, покончить навсегда с неприязненным царством и обратить его земли в русские области. Собрано было войско, огромное по тому времени, более 100000. Сам царь должен был идти в поход, хотя ему этого очень не хотелось, как он сам впоследствии сознавался в письме своем к Курбскому: „Вы меня, как пленника, посадивши в судно, повезли сквозь безбожную и неверную землю. Если бы не всемогущая десница Божия защитила мое смирение, то я бы непременно лишился жизни“.
Крымский хан Девлет-Гирей хотел было помогать Казани и напасть на Москву с юга, но был отбит от Тулы. Русские осадили Казань 20 августа 1552 года и вели осаду до 1 октября. Способ осады состоял в том, что русские кругом города поставили деревянные туры на колеса и все ближе и ближе подвигались к стенам города; между тем их беспокоили с тыла отряды черемисов и чувашей, а казанцы со стен пугали своими чарами, будто бы наводившими дождь, докучавший осаждавшим. „Бывало, – говорит Курбский, – солнце восходит, день ясный; мы и видим: взойдут на стены старики и старухи, машут одеждами, произносят какие-то сатанические слова и неблагочинно вертятся; вдруг поднимется ветер и прольется такой дождь, что самые сухие места обратятся в болото“. Против бесов оставалось употребить духовное оружие. Послали в Москву за крестом, в котором была вделана частичка Животворящего Древа. Дух войска ободрился, когда чрез двенадцать дней привезли это сокровище. Дело решил немецкий розмысл (инженер), который сделал подкоп и заложил под стены порох, 1-го октября разрушена была взрывом стена; русские ворвались в город и взяли его. Сам царь не участвовал в битвах, а только торжественно въехал в покоренную Казань, наполненную трупами. Пленный казанский царь Едигер поклонился победителю, просил прощения и изъявил намерение креститься. Русские обращались милостиво с побежденными, но казнили тех, которые оказались виновными в вероломстве. В Казани найдено было несколько тысяч христианских пленников, удержанных казанцами вопреки договору, по которому давно уже они были обязаны их отпустить. Инородцы: черемисы и чуваши, покорились и обещали платить наложенный на них ясак. Замечательно, что бояре старались удержать на всю зиму Ивана в Казани, и находили это необходимым для того, чтобы приучить к повиновению разнородные племена, населявшие обширное Казанское царство: мордву, чувашей, черемисов, вотяков и башкирцев. Но Иван на этот раз впервые не послушал своих опекунов. Царица Анастасия была на последних днях беременности; Ивану хотелось домой; шурья поддерживали его желание; и тут-то между ними и боярами произошло столкновение. „Шурья государя, – говорит Курбский, – направили к нему еще и других ласкателей, вместе с попами“. Иван не только уехал вопреки желанию бояр, но еще распорядился против их воли: он отправил конницу в осеннее время по такой дороге, на которой пропали чуть не все лошади.
В Москве царя ожидали торжественные встречи, поздравления. Царица Анастасия благополучно разрешилась от бремени сыном Димитрием. Царь Едигер принял крещение и наречен Симеоном. Тогда же крестилось много казанских князей, увеличивших собою число татарских родов в русском дворянстве. В память завоевания Казани был заложен в Москве храм Покрова Богородицы на Красной площади, храм очень своеобразной и затейливой архитектуры (теперь известный под именем Василия Блаженного, от мощей этого юродивого, почивающих в этом храме). Строитель его, без сомнения, человек с большим талантом, остался неизвестен. В народе сохранилось предание, что царь в награду за построение храма приказал выколоть ему глаза для того, чтобы он уже не мог построить чего-нибудь подобного в ином месте. Покорение Казанского царства подчинило русской державе значительное пространство на востоке до Вятки и Перми, а на юг до Камы, и открыло путь дальнейшему движению русского племени. Но много еще нужно было труда, чтобы усмирить беспокойные племена этой страны. Русь должна была несколько раз бороться с восстаниями татар и черемисов; но уже в следующем 1553 году учреждение казанской епархии послужило важным залогом господства русской стихии в новопокоренном крае. Первым архиепископом назначен был всеми уважаемый игумен селижарский[62 - Селижарский монастырь в Тверской губернии в Осташковском уезде.] Гурий. Начали строиться церкви, монастыри, стали переселяться русские люди, и Казань мало-помалу приняла характер русского города.
В душе царя уже шевелилось чувство недовольства своим зависимым положением. Иногда, в минуты своенравия, он проявлял его: так, однажды, скоро после завоевания Казани, по поводу этого события, он сказал своим опекунам: „Бог меня избавил от вас!“ Наступили обстоятельства, которые еще более развивали и поддерживали это долго сдерживаемое чувство.
В 1553 году Иван заболел горячкою и, пришедши в себя после бреда, приказал написать завещание, в котором объявлял младенца Димитрия своим наследником. Но когда в царской столовой палате собрали бояр для присяги, многие отказывались присягать. Отец Алексея Адашева смело сказал больному государю: „Мы рады повиноваться тебе и твоему сыну, только не хотим служить Захарьиным, которые будут управлять государством именем младенца, а мы уже испытали, что значит боярское правление“. Спор между боярами шел горячий. В числе не хотевших присягать был двоюродный брат государя Владимир Андреевич. И это впоследствии подало царю повод толковать, что отказ бояр в присяге происходил от тайного намерения по смерти его возвести на престол Владимира Андреевича. Спор о присяге длился целый день и ничем не решился. На другой день Иван, призвавши к себе бояр, обратился к Мстиславскому и Воротынскому, которые прежде всех присягнули и уговаривали присягнуть других; „Не дайте боярам извести моего сына, бегите с ним в чужую землю“, а Захарьиным царь сказал: „А вы, Захарьины, чего испугались? Думаете, что бояре вас пощадят? Нет, вы будете первые у них мертвецы!“ После этих слов царя все бояре один за другим присягнули. Владимир Андреевич – тоже. Трудно решить: действительно ли было у некоторых намерение возвести Владимира на престол в случае смерти царя, или упорство бояр происходило от нелюбви к Захарьиным, от боязни подпасть под их власть, и бояре искали только средства, в случае смерти Ивана, устроить дело так, чтобы не дать господства его шурьям. Владимиру Андреевичу поставили в вину то, что в то время, когда государь лежал больной, он раздавал жалованье своим детям боярским. Не любившие его бояре стали тогда же подозревать его и вздумали не пускать к больному государю. За Владимира заступился всемогущий тогда Сильвестр, и этим поступком подготовил враждебное к себе отношение царя Ивана на будущее время.
Иван не умер, как ожидали; он выздоровел и показывал вид, что ничего не помнит, ни на кого не сердится, но в сердце у него заронилась ожесточенная злоба. Люди такого склада, как Иван Васильевич, столько же боязливы в начале всякого предприятия, пока не уверены в удаче, сколько неудержимо наглы впоследствии, когда перестают бояться. Зато – чем долее боязнь заставляет их сдерживать свою страсть, тем сильнее эта страсть прорывается тогда, когда они освободятся от страха. Иван уже ненавидел Сильвестра и Адашева, не любил бояр, не доверял им, но у него не изглаживались еще воспоминания ужасных дней московского пожара, когда рассвирепевший народ не поцеремонился с государевою роднею и не далек был, по-видимому, от того, чтоб идти на самого государя. Иван не был еще уверен, что с ним не сделают чего-нибудь подобного, если он пойдет против своих опекунов и раздражит их. Притом Сильвестр внушал ему суеверную боязнь и умел постоянно оковывать его волю „детскими страшилами“, как сам царь сознавался после. Бояре, хотя уже не отличались прежним согласием, не заявляли себя ничем таким, за что можно было бы их укорить в измене царю; напротив, когда один из них, князь Семен Ростовский, слишком резко говоривший против присяги во время болезни царя, испугался, бежал и был пойман, бояре единогласно осудили его на смертную казнь, и сам царь (вероятно, по ходатайству Сильвестра) ограничил ему наказание ссылкою в Белозерск. Иван еще несколько лет повиновался Сильвестру и его кружку, хотя все более и более ненавидел их, пока, наконец, уверившись в своей безопасности, мог дать своей злобе полную волю. Между тем произошли случаи, развившие в Иване сознание своего унижения и усилившие в нем желание освободиться от опеки.
По выздоровлении своем, царь Иван Васильевич поехал с женою и ребенком по монастырям с целью, посещая их один за другим, доехать до отдаленного Кирилло-Белозерского монастыря. У Троицы жил тогда знаменитый Максим Грек, освобожденный при Иване из заточения. Иван посетил его. Максим откровенно сказал царю, что не одобряет его путешествия по монастырям. „Бог везде, – говорил он, – угождай лучше ему на престоле. После казанского завоевания осталось много вдов и сирот; надобно их утешать“. Эти слова говорил Максим, вероятно, в согласии с Адашевым, Сильвестром и их сторонниками, которые все любили и уважали старца. Они боялись, чтобы царь, скитаясь по монастырям, не наткнулся на ненавистных для них осифлян, которые умели льстить и угождать властолюбию и щекотать дурные склонности сильных мира сего. Адашев и Курбский говорили Ивану, будто Максим им предрекал, что государь потеряет сына, если не послушает его и будет ездить по монастырям. Опасение их было не напрасно. Иван не послушался Максима Грека, продолжал свое набожное странствие и в Песношском монастыре (в нынешнем Дмитровском уезде) увидался с одним из самых первостатейных осифлян – бывшим коломенским владыкою Вассианом.
Этот Вассиан был когда-то в большой милости у Василия Ивановича; но во время боярского правления его удалили. „Если хочешь быть настоящим самодержцем, – сказал царю Вассиан, – не держи около себя никого мудрее тебя самого; ты всех лучше. Если так будешь поступать, то будешь тверд на своем царстве, и все у тебя в руках будет, а если станешь держать около себя мудрейших, то поневоле будешь их слушаться“. Замечание попало в самое сердце. Царь поцеловал его руку и сказал: „Если бы отец родной был жив, так и тот не сказал бы мне ничего лучшего!“ Предсказание Максима сбылось. Сын Ивана умер; это, без сомнения, должно было поразить Ивана и снова подчинить его своим опекунам, хотя он не переставал ими тяготиться. Пользуясь этим, они еще успели именем государя совершить несколько важных дел. Необходимость сблизиться с Европою и усвоить ее культуру чувствовалась русскими. Еще в 1547 году, когда уже наступило влияние Сильвестра и Адашева, следовательно с их участием, от имени царя, поручено было одному саксонцу Шлитту, знавшему по-русски, вызвать из немецкой земли всякого рода умелых людей: ремесленников, художников, медиков, плавильщиков, юристов, аптекарей, типографов и даже богословов. Поручение это не удалось по зависти Ганзейского Союза и Ливонского ордена, которые полагали, что введение европейского образования, возвысив силы московской земли, сделает ее опасною для Европы. Любекские сенаторы не пустили Шлитта в Москву, засадили его в тюрьму и разогнали толпу немцев, которых он вез с собою (123 чел.). Обстоятельства нежданно открыли путь к сближению с Европою совсем иным путем. В Англии образовалось общество под названием „The Mistery“. Его основателем был знаменитый Себастьян Кабат, открывший материк Северной Америки. Ближайшею целью этой компании было открытие пути в Китай и Индию через северные страны старого полушария. Общество это снарядило три корабля: два из них были заперты льдом, экипаж их погиб вместе с адмиралом Гуго Виллоуби; третий корабль „Эдуард Бонавентура“, под начальством Ричарда Ченслера, пристал, 24 августа 1553 года, к русским берегам у посада Неноксы в устье Двины. Ченслер с людьми отправился в Москву и представил грамоту Эдуарда VI, написанную вообще ко всем владыкам северных стран. Англичане были приняты и обласканы как нельзя лучше. Царь отвечал Эдуарду дружелюбною грамотою, которою позволял англичанам приезжать свободно в его государство для торговли. В марте 1554 года Ченслер возвратился в отечество. Англичане смотрели на его путешествие как на открытие новой страны, наравне с открытиями, совершавшимися в Америке. Явились самые блестящие надежды на выгоды от торговли с неведомою московскою землею. Устроилась компания, уже специально с целью „торговли с Московиею, Персиею и северными странами“; она сокращенно называлась „русскою компаниею“. Ее правление состояло из governor'a (первым пожизненно был назначен Кабат) и из двадцати восьми правительствующих членов, выбираемых ежегодно. Она получила право покупать земли, но не более как на 60 фунтов стерл. в год, иметь свой самосуд, строить корабли, нанимать матросов, приобретать земли в новооткрытых странах и, торгуя в России при покровительстве русского государя, противодействовать совместничеству не только торгующих иностранцев, но и английских подданных, не принадлежащих компании. В 1555 году Ченслер снова прибыл в Москву, но уже в качестве посла, и выхлопотал льготную грамоту для английской компании. Ей дозволялась беспошлинная торговля оптом и в розницу, давалось право заводить дворы в Холмогорах и в Вологде, а в Москве ей был подарен двор от царя у церкви Максима исповедника: в каждом дворе члены компании могли держать у себя по одному русскому приказчику: они имели свой суд и расправу: никакие царские чиновники не могли вмешиваться в их торговые дела, кроме царского казначея, которому принадлежал суд между компанией и русскими торговцами. Когда Ченслер отправился в отечество, то с ним вместе отправился русский посол по имени Непея. У берегов Шотландии Ченслер потерпел кораблекрушение, а Непея благополучно избег опасности и был принят королевою Мариею со знаками особенного внимания. С тех пор между Англией и Россией завязались дружественные отношения. С тех пор каждый год приходили к устью Двины английские корабли с товарами. Пустынные и дикие берега Северного моря оживлялись, населялись; Московская Русь разом познакомилась со множеством предметов, о которых не имела понятия; закипела новая торговая жизнь. Права английской компании и ее деятельность расширялись с каждым годом и превращались в монополию, которая отзывалась уже неприятно для русских, потому что выгода от торговли клонилась преимущественно на сторону иноземцев, особенно вследствие распоряжений, сделанных в позднейшее время царствования Ивана и после него. Во всяком случае, завязавшаяся торговля с Англией имела чрезвычайно важное значение в истории русской культуры и составляет в ней перелом.
Между тем правители продолжали расширение пределов государства за счет татарского племени и, как видно, признали настоятельною задачею Руси подчинить татарские народы одних за другими. Покончили с Астраханью. Царство Астраханское было в руках ногайских князей, к которым принадлежал и Едигер, последний царь казанский. В Астрахани царем был Ямгурчей. Он дружил с Девлет-Гиреем и нанес оскорбление московскому послу. За это, весною 1554 года, отправлено было в Астрахань русское войско под начальством князя Пронского-Шемякина и Вешнякова. Они изгнали Ямгурчея и посадили в Астрахани царем другого нагайского князя, Дербыша, но уже в качестве московского подручника и оставивши при нем русское войско. Дербыш на другой же год сошелся с Девлет-Гиреем и начал открытую войну против Москвы, но в марте 1556 русские, находившиеся в Астрахани с головою Черемисиновым, разбили и прогнали Дербыша. Астрахань была непосредственно присоединена к Московскому государству и туда были назначены московские наместники. Это завоевание передало Московской державе огромные степи Поволжья, и вся Волга от истока до устья вошла во владение Москвы.
Оставалось разделаться с Крымом. Это было труднее, чем покорение Казани и Астрахани, но дело все-таки возможное. Удаче этого предприятия помешало то, что между советниками Ивана началась рознь. Тогда как Сильвестр и некоторые его единомышленники, в числе их Адашев и Курбский, были того мнения, что следует, не развлекая ни чем сил, обратиться исключительно на Крым и уничтожить Крымское царство, подобно Казанскому и Астраханскому, представилась возможность владеть Ливониею. Ливонский орден был в полном разложении: немцы, избалованные долгим миром, отвыкли от войны, а большинство народонаселения, состоя из порабощенных чухон и латышей, готово было безропотно покориться власти Москвы. Иван Васильевич колебался между тем и другим предприятием и решился на то и другое разом, хотя сам более склонялся к последнему. Это раздвоение военных сил вредило расправе с Крымом, несмотря на то, что обстоятельства благоприятствовали русским. В союзе с Москвою были днепровские казаки, которые тогда усиливались с каждым годом. Предводителем у них был князь Димитрий Вишневецкий, один из потомков Гедимина, человек храбрый, предприимчивый и до чрезвычайности любимый подчиненными. Он просил прислать ему войско и предлагал московскому царю свою службу со всеми казаками, с Черкасами, Каневом, с казацкою Украиною на правом побережье Днепра, составлявшую ядро той Малой России, которая через столетие поклонилась другому московскому царю. Вишневецкий хотя считался подданным великого князя литовского и короля польского Сигизмунда-Августа, но не обращал внимания на запрещение последнего воевать с татарами, и действовал совершенно независимо со своими казаками. В это время в Крыму и в степях между нагаями свирепствовали разные естественные бедствия: сначала жестокий холод, потом засуха, скотский падеж и, наконец, мор на людей. Современники говорили, что во всей Орде не осталось десяти тысяч лошадей. Из Москвы в 1557 году к казакам был послан дьяк Ржевский с отрядом. Он соединился с тремястами казаков, разорил Ислам-Кермень и Очаков, разбил татар и бывших с ними турок. По удалении Ржевского, Девлет-Гирей пошел с ордою на Вишневецкого, который тогда укрепился на острове Хортице. (То был зародыш Запорожской Сечи, которая через несколько лет утвердилась ниже Хортицы, на другом острове, Томаковке.) Вишневецкий двадцать четыре дня отбивался от хана и наконец прогнал его. В следующем 1558 году Сильвестр и бояре его партии убеждали Ивана двинуть все силы на Крым и самому идти во главе. Сильвестр, желая отвлечь его от ливонской войны, резко осуждал ее, особенно за варварский образ, с каким она велась, за истребление старых и малых, за бесчеловечные муки над немцами, совершаемые татарами, распущенными по Ливонской земле под начальством Шиг-Алея: Сильвестр называл Ливонию „бедною, обижаемою вдовицею“. Иван, как прежде, колебался, слушал с большею охотою советы противников Сильвестра, не думал в угождение последнему щадить Ливонии, однако не совсем решался действовать вразрез с ним и людьми его партии; он ограничился полумерами. Царь принял в свою службу Вишневецкого, подарил ему город Велев, но приказал ему сдать королю Черкасы и Канев, не желая принимать в подданство Украины и ссориться с королем. Он отправил брата Адашева Данила с 5000 чел. на Днепр против крымцев для содействия Вишневецкому, отправленному на Дон, но сам не двинулся с места и не посылал более войска. Между тем обстоятельства стали еще более благоприятствовать Москве. Черкесские князья, отдавшиеся московскому государю после завоевания Астрахани, собрались громить владения Девлет-Гирея с востока. В Крыму, в довершение всех несчастий, поднялось междоусобие. Недовольные Девлет-Гиреем мурзы хотели его низвергнуть и возвести на престол Тохтамыш-Гирея. Покушение это не удалось. Тохтамыш бежал в Москву. Удобно было московскому государю покровительствовать этому претенденту и найти для себя партию в Крыму. Царь Иван этим не воспользовался. Данило Адашев спустился на судах по Псёлу, потом по Днепру, вошел в море и опустошил западный берег Крыма, а черкесские князья завоевали Таманский полуостров. Весь Крым был поражен ужасом. Но ТАK как новых московских сил не было против него послано, то дело этим и ограничилось. Царь Иван имел тогда возможность уничтожить Девлет-Гирея, но только раздражил его и приготовил себе со стороны врага мщение на будущее время. Самая удобная минута к покорению Крыма была пропущена. Надобно заметить, что для удержания Крыма в русской власти в те времена предс – тавлялось более удобства, чем впоследствии, потому что значительная часть тогдашнего населения Крыма состояла еще из христиан, которые естественно были бы довольны поступлением под власть христианского государя. Впоследствии потомки их перешли в мусульманство и переродились в татар.
Крымский вопрос еще более разъединил царя Ивана с людьми Сильвестровой партии. Их влияние, видимо, упадало. Ливонская война велась против желания многих, хотя некоторые из них, исполняя долг службы, не только участвовали в ней, но даже своими подвигами решали ее в пользу Москвы. Рыцари претерпевали поражение за поражением, город сдавался за городом; наконец в 1559 году Ливонский орден заключил договор с Сигизмундом-Августом, по которому отдавал ему часть своих владений и просил содействия против московского государя. Это событие готовило неизбежное столкновение с Польшей, и уже Сигизмунд-Август в следующем 1560 писал царю Ивану, что должен будет оружием защищать страну, которая отдалась ему в подданство. Царь отвечал на это высокомерно: называл ливонцев, отдавшихся Сигизмунду-Августу, изменниками и требовал, чтобы Сигизмунд-Август вывел своих воевод с ливонской земли. Русские между тем продолжали счастливо войну с Ливонией. В этой войне отличались преимущественно друзья Сильвестра: Курбский и Данило Адашев.
В это время в московском правительстве совершился решительный перелом. Враги Сильвестра и Адашева постепенно довели царя до того, что он решился сбросить с себя опеку. Главными врагами Сильвестра были Захарьины и вооружили против него сестру свою царицу Анастасию. „Царь, нашептывали Ивану, – должен быть самодержавен, всем повелевать, никого не слушаться: а если будет делать то, что другие постановят, то это значит, что он только почтен честью царского председания, а на деле не лучше раба. И пророк сказал: горе граду тому, им же мнози обладают. Русские владетели и прежде никому не повиновались, а вольны были подданных своих миловать и казнить. Священнику отнюдь не подобает властвовать и управлять; их дело священнодействовать, а не творить людского строения“. В довершение всего Ивана убедили, что Сильвестр чародей, силою волшебства опутал его и держит в неволе. Сторонники Сильвестра сознаются, что Сильвестр обманывал царя, представлялся в глазах его богоугодным человеком, облеченным необыкновенною силою чудотворения, что он, одним словом, дурачил царя ложными чудесами, и оправдывают его поступки только тем, что все это делалось для хороших целей. Враги Сильвестра также представляли его царю чудотвором, но только получившим силу не от Бога, а от темных властей. Такой путь мог всего скорее поколебать суеверного царя. Сильвестра не терпели многие за его проницательность и желали удалить его для того, чтобы невозбранно можно было брать посулы и умножать всякими способами свое достояние. Уже охладевший к Сильвестру, царь решительно разошелся с ним по случаю своего путешествия по монастырям с больною женою, предпринятого зимою в конце 1559 года. Тогда произошло у царя с Сильвестром и Адашевым какое-то крупное столкновение: подробностей его мы не знаем;[63 - На него намекает царь в одном из писем своих к Курбскому.] известно только, что Сильвестр и его друзья старались удержать Ивана от путешествия по монастырям и от принесения благочестивых обетов; но, после этого столкновения, и Сильвестр и Адашев сами нашли невозможным оставаться при царе. Сильвестр (вероятно, тогда уже овдовевший) удалился в какой-то отдаленный, пустынный монастырь, а Алексей Адашев отправился к войску в Ливонию. В этом деле участие Анастасии почти несомненно; сторонники Сильвестра, по поводу его удаления, сравнивали его с Иоанном Златоустом, потерпевшим от злобы царицы Евдоксии. До царя доходили все эти толки и еще более раздражали его против прежних опекунов. Но примирение с ними было бы еще возможно, если бы не случилось рокового обстоятельства: в июле 1560 года царица Анастасия, уже давно хворавшая, перепугалась пожара, опустошившего всю арбатскую часть в Москве. Болезнь ее усилилась, и она умерла 7-го августа, оставивши после себя двух сыновей: Ивана и Федора. Царь был в отчаянии: народ сожалел об Анастасии, считая ее добродетельною и святою женщиною, так как она отличалась набожностью и благотворительностью. Понятно, что с потерею любимой особы стали царю ненавистнее те, которые не любили ее при жизни. Этим воспользовались враги и начали уверять царя, что Анастасию извели лихие люди, Сильвестр и Адашев, своими чарами. Друзья сообщили об этом тотчас тому и другому; последние, через посредство митрополита Макария, просили суда над собою и дозволения прибыть в Москву для оправдания. Но враги не допустили до этого. „Если ты, царь, – говорили ему, – допустишь их к себе на глаза, они очаруют тебя и детей твоих; да кроме того, народ и войско любят их, взбунтуются против тебя и нас перебьют камнями. Хотя бы этого не случилось – опять обойдут тебя и возьмут в неволю. Эти негодные чародеи уже держали тебя, как будто в оковах, повелевали тебе в меру есть и пить, не давали тебе ни в чем воли, ни в малых, ни в больших делах. Не мог ты ни людей своих миловать, ни царством своим владеть. Если бы не было их при тебе, при таком славном, храбром и мудром государе, если бы они не держали тебя, как на узде, ты бы почти всею вселенною обладал, а то они своим чародейством отводили тебе глаза, не давали тебе ни на что смотреть, сами желали царствовать и всеми нами владеть. Только допусти их к себе, тотчас тебя ослепят! Вот теперь, отогнавши их от себя, ты истинно пришел в свой разум; открылись у тебя глаза; теперь – ты настоящий помазанник Божий; никто иной – ты сам один всем владеешь и правишь“.
Так говорили не только шурья царя и некоторые бояре, но и те духовные, которые проповедовали из своекорыстных видов деспотизм всякого рода и старались угождать земной власти ради личных выгод. Это были все так называемые „осифляне“. Всего более ярились против Сильвестра: Вассиан, чудовский архимандрит Левкий и какой-то Мисаил Сукин. Царь созвал собор для осуждения Сильвестра. Епископы, завидовавшие возвышению Сильвестра, пристали к врагам его, когда увидели, что и царю угодно было, чтоб все выказали себя противниками павшего любимца. Один митрополит Макарий заявил, что нельзя судить людей заочно и что следует выслушать их оправдание. Но угодники царя завопили против него: „Нельзя допускать ведомых злодеев и чародеев: они царя околдуют и нас погубят“. Собор осудил Сильвестра на заточение в Соловки. Он был взят из своей пустыни, отвезен туда на тяжелое заключение. Но положение его там не могло быть очень тяжелым: игуменом в Соловках был Филипп Колычев, впоследствии митрополит, человек, как оказывается, сходившийся в убеждениях с Сильвестром. С тех пор имя Сильвестра уже не встречается в памятниках того времени. От Сильвестра осталось сочинение „Домострой“, заключающее в себе ряд наставлений сыну – религиозных, нравственных, общежительных и хозяйственных. В этом сочинении, которое драгоценно как материал для знакомства с понятиями, нравами и домашним бытом древней Московской Руси, встречаются любопытные черты, объясняющие личность Сильвестра. Мы видим человека благодушного, честного, строго нравственного, доброго семьянина и превосходного хозяина. Самая характеристическая черта Домостроя – это заботливость о слабых, низших, подчиненных и любовь к ним, не теоретическая, не лицемерная, а чуждая риторики и педантства, простая, сердечная, истинно христианская. „Как следует свою душу любить, – поучает он, – так следует кормить слуг своих и всяких бедных. Пусть хозяин и хозяйка всегда наблюдают и расспрашивают своих слуг и подчиненных об их нуждах, об еде и питье, об одежде, о всякой потребе, о скудости и недостатке, об обиде и болезни; следует помышлять о них, пещись сколько Бог поможет, от всей души, все равно как о своих родных“. Вот такие-то правила внушались и царю по отношению к подвластным ему людям. Отсюда-то истекают грамоты и распоряжения лучших лет Иванова царствования, в которых явно видно желание дать народу как можно более льгот и средств к благосостоянию. Автор „Домостроя“ сознает гнусность рабства, сам лично уже отрешился от владения рабами и то же заповедует сыну: „Я не только всех своих рабов освободил и наделил, но и чужих выкупал из рабства и отпускал на свободу. Все бывшие наши рабы свободны и живут добрыми домами; а домочадцы наши, свободные, живут у нас по своей воле. Многих оставленных сирых и убогих мужского и женского пола и рабов в Новгороде, и здесь в Москве, я вскормил и воспоил до совершенного возраста и выучил их, кто к чему был способен: многих выучил грамоте, писать и петь, иных писать иконы, иных книжному рукоделию, а некоторых научил торговать разной торговлею. Твоя мать воспитала многих девиц и вдов, оставленных и убогих, научила их рукоделию и всякому домашнему обиходу, наделила приданым и замуж повыдавала, а мужеский пол поженила у добрых людей. И все те, дал Бог, – свободны: многие в священническом и дьяконском чине, во дьяках, в подьячих, во всяком звании, кто к чему способен по природе, и чем кому Бог благословил быть; те рукодельничают, те в лавках торгуют, а иные ездят для торговли в различные страны со всякими товарами. И Божьею милостью всем нашим воспитанникам и послуживцам не было никакой срамоты, ни убытка, ни продажи от людей; и людям от нас не бывало никакой тяжбы: во всем нас до сих пор соблюдал Бог; а от кого нам, от своих воспитанников, бывали досады и убытки – все это мы на себе понесли; никто этого не слыхал, а нам Бог все пополнил! И ты, дитя мое, так же поступай: всякую обиду перетерпи – Бог тебе все пополнит!“ Нигде у Сильвестра не видно того поклонения монастырю и безбрачию, которое, как известно, проповедовали благочестивцы. Если он советует давать милостыню в монастыри, то только на заключенных там, равно как на содержавшихся в тюрьмах и больницах: но он враг всякого разврата и бесчинства. „Я, – пишет он, – не знал никакой женщины, кроме твоей матери. Как мы с ней обещались, так я и сдержал свое обещание; и ты, дитя мое, храни законный брак, и кроме жены своей не знай никого, берегись пьянственного недуга: от этого порока все зло“. И царю Ивану, без сомнения, подавал Сильвестр такие советы; и они, конечно, тягостны были для горячей и порывистой натуры Ивана. Идеалом государя, до которого хотел возвести Сильвестр Ивана, был трезвый, строго нравственный, деятельный и благодушный человек; по освобождении от уз Сильвестрова учения, Иван, пьяный, развратный, кровожадный, как мы увидим, показал собою прямую противоположносгь этому идеалу.
Вместе с падением Сильвестра постиг конец и Адашева. Сначала ему велено было оставаться в недавно завоеванном Феллине, но вскоре царь приказал перевести его в Дерпт и посадить под стражу. Через два месяца после своего заключения он заболел горячкою и скончался. Естественная смерть избавила его от дальнейшего мщения царя, но клеветники распустили слух, будто он от страха отравил себя ядом. Долговременная близость его к царю и управление государственными делами давали ему возможность приобрести большие богатства, но он не оставил после себя никакого состояния: все, что приобретал, раздавал он нуждающимся.
Глава 19
МАТВЕЙ СЕМЕНОВИЧ БАШКИН И ЕГО СОУЧАСТНИКИ
Направление, данное Нилом и Вассианом, не обошлось, однако, без того, чтобы не выработаться в учение, действительно противное православной церкви. Они ставили сущность выше формы, внутреннее выше внешнего, ополчались против злоупотреблений существующего порядка, возбуждали к мысли и к самобытному изучению основ веры и своей снисходительностью к еретикам, хотя даже, быть может, против собственной воли, требовали уважения к полной свободе мысли. Такое направление не могло остановиться на полдороге. Всегда и везде подобные зародыши несогласия с существующим порядком в области религии, порядком, освященным веками, открывали путь к дальнейшим попыткам критики, приводившим, наконец, к полному отпадению от авторитета, к тому, что на церковно-историческом языке называется ересью. Прежде чем в XVI веке образовалось протестантство, выражавшее явную борьбу с католической церковью и полное отпадение от последней, являлись один за другим ученые и благочестивые люди, недовольные как злоупотреблениями церкви, так и господством формы над содержанием в области религии, хотя эти люди всею глубиною души были преданы этой же католической церкви. Тот же путь должен был последовать и у нас, хотя в незначительной степени в сравнении с Западом. Уже „осифляне“ старались набросить тень неправославия на самого Нила. Ученика его Вассиана и единомышленника Максима Грека они обвинили в ереси, хотя и неосновательно с нынешней точки зрения. Но с тех пор образовалось мнение, что в Ниловой пустыне и в других монастырях Белозерья гнездятся еретические мнения между старцами и оттуда распространяются по всей Руси. Возникло очень любопытное дело, объясняющее нам способ тогдашнего вольномыслия – это суд над сыном боярским Матвеем Семеновичем Башкиным и его соумышленниками. К большому сожалению, дело, производившееся об этом лице и его соумышленниках, не сохранилось вполне и известно только по отрывкам. Из них мы узнаем, что в Великий пост 1554 года Башкин явился к священнику Благовещенского собора, Симеону, на исповедь, объявил себя православным христианином, верующим в Св. Троицу и поклоняющимся иконам, но вместе с тем стал задавать такие вопросы, которые показались священнику „недоуменными“: Симеона поразило то, что Башкин сам же начал разрешать перед ним вопросы, которых не мог разрешить священник. В заключение Матвей напомнил ему высокую обязанность духовного сана в таких словах: „Великое дело ваше, сказано в писании; ничто же сия любви больше, еже положити душу свою за други своя; вы за нас души свои полагаете и печетесь о душах наших и за нас будете отвечать в день судный“. После этой исповеди Башкин приехал на дом к священнику, привез „Беседы Евангельские“ и говорил: „Ради Бога, пользуй меня душевно, надобно читать написанное в Евангельских беседах, но на одно слово не надеяться, а совершать его делом. Все начало от вас, священники, вам следует показать собою пример и нас научать. Видишь ли, в Евангелии стоит: научитеся от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем; иго мое бо благо и бремя мое легко есть. Все это на вас лежит“. После того Башкин пригласил к себе священника на дом и показал ему Апостол, измеченный восковыми пятнами по тем текстам, которые возбуждали в нем размышления. Симеон становился в тупик; Башкин сам ему предлагал собственные объяснения, которые казались Симеону подозрительными. Между прочим Башкин сказал: „Написано: весь закон заключается в словах – возлюби искреннего своего, как сам себя; если вы себя грызете и терзаете, то смотрите, чтобы вы не съели друг друга. Вот, мы Христовых рабов держим у себя рабами, а Христос всех называет братиею; а у нас на иных кабалы нарядные (фальшивые), на иных полные, а другие беглых держат. Благодарю Бога моего, у меня были кабалы полные, да я их всех изодрал, держу людей у себя добровольно; кому хорошо у меня – пусть живет, а не нравится, пусть идет куда хочет; а вам, отцам, надобно посещать нас, мирян, почаще да научать нас, как самим жить и как людей у себя держать, чтобы их не томить“. – „Я этого не знаю“, – сказал Симеон. „Так спроси Сильвестра, – ответил Башкин, – он тебе скажет, а ты пользуй этим душу мою. Я сам знаю: тебе некогда об этом думать, ты в суете мирской и день и ночь покоя не знаешь“.
Симеон передал об этом Сильвестру: „Пришел, – говорил он, – ко мне духовный сын необычный, спрашивает у меня недоуменное, да сам меня и учит; а мне показалось это развратно“. – „Не знаю, какой это духовный сын, – отвечал Сильвестр, – только про него нехорошо говорят“.
Через несколько времени разнесся между духовными слух, что около Башкина собирается кружок людей, которые неправильно умствуют о существе Сына Божия, о таинствах, о церкви, о всей православной вере. Царя в то время не было в Москве. Он ездил в Кирилловский монастырь. Когда он воротился, то ему донесли, что „прозябе ересь и явися шатание в людях“.
У Башкина вытребовали Апостол, измеченный восковыми пятнами: сам Башкин, уверенный в правоте своих толкований, подал его Симеону. Царь рассматривал книгу, но, как видно, в ней не было еще явных улик. Башкина не трогали. Он продолжал сходиться со своими приятелями и толковать о религиозных предметах. Духовные узнали об этом и требовали преследования Башкина и его друзей, говорили, что все это выходит из Белозерских монастырей, которые сделались гнездом всякого еретичества. Башкина взяли под стражу с двумя братьями Борисовыми: Григорием и Иваном Тимофеевичами и захватили еще двух лиц, по имени Тимофей и Фома. На все вопросы они отвечали, что они православные христиане. Царь приказал поместить их в подклети своих палат. Решили созвать собор. Собор состоялся под председательством митрополита Макария.[64 - На нем были: архиепископ ростовский Никандр, суздальский епископ Афанасий, рязанский Кассиан, тверской Акакий, коломенский Феодосий, сарский и подонский Савва и многие архимандриты, игумены и протопопы.] Подсудимых обличали в том, что они признавали Иисуса Христа неравным Отцу, называли тело и кровь Господню простым хлебом и простым вином, отрицали святую соборную и апостольскую церковь, выражаясь, что церковь есть только собрание верных, а созданная ничего не значит: отвергали поклонение иконам, называя их идолами; отрицали силу покаяния, выражаясь так: как перестанет грех творить, так хоть у священника не покается, так не будет ему греха; считали церковные предания и жития святых баснословием: отзывались с пренебрежением о постановлениях семи соборов, говоря: это все они для своих выгод написали; наконец и в самом Священном Писании видели баснословие, излагали Евангелие и Апостол так, как бы эти книги содержали истину в неправде.
До нас не дошли ответы Башкина и его соумышленников, а из соборной грамоты того времени видно, что с Башкиным сделалось на соборе какое-то расстройство или припадок, что он говорил какую-то бессмыслицу, что ему потом представлялся голос Богородицы, и он в испуге во всем сознался и открыл своих единомышленников. За неимением подлинных ответов подсудимого, мы не можем сделать об этом никакого заключения.
Собор признал его виновным. Дальнейшая его участь неизвестна; соумышленников его сослали по монастырям на вечное заточение, „посудиша их неисходно им быти“.
К делу Башкина привлечен был троицкий игумен Артемий. Об этом человеке мы знаем то, что он был родом из Пскова, избран в игумены Троицкого монастыря, приобрел там общую любовь, но вскоре на него пало подозрение в вольнодумстве. Он снял с себя игуменство и удалился в Нилову пустынь вместе с другом своим Порфирием. Когда началось дело Башкина, их обоих вызвали оттуда, как будто за тем, чтобы присутствовать на соборе, а на самом деле за тем, что считали их подозрительными. Еще Башкин, как видно, не сознавался, а Артемия побуждали спорить с ним и обличать его. Артемий уклонялся от спора и говорил: „Это не мое дело“. Но когда Башкин пришел в расстройство и начал оговаривать и себя, и других, Артемий ушел из Москвы в свою пустыню, но был возвращен и предан соборному суду. Ему ставили в вину эту самовольную отлучку. Он сказал, что убежал от „наветующих на него“, но не хотел указывать, кто эти наветующие. По-видимому, Артемий не признавал Башкина еретиком и говорил только, что Матвей делает ребячество. „Меня, – говорил oн, – призвали судить еретиков, а еретиков нет“. – „Как же Матвей не еретик, – сказал митрополит, – когда он написал молитву единому началу, Богу Отцу, а Сына и Святого Духа отставил?“
„Нечего ему и врать, сказал Артемий, – такая молитва готова, молитва Манассии к Вседержителю“.
„То было до Христова пришествия, – отвечали ему, – а теперь кто напишет молитву к единому началу, тот еретик. Ты виноват, кайся“.
„Мне нечего каяться, я верую в единосущную Троицу“, – сказал Артемий.
Эти ответы Артемия поставили ему в обвинение. Затем явился доносчик на Артемия, игумен Ферапонтова монастыря, Нектарий, который обвинял Артемия в том, что он в постные дни ел рыбу.
„Я ел рыбу, – отвечал Артемий, – когда мне приходилось быть у христолюбцев, и у царя ел за столом рыбу“.
„Это ты чинил не гораздо, – сказал митрополит от лица собора, – это тебе вина: значит, ты сам вопреки божественных уставов и священных правил разрешаешь себе пост, а на тебя смотря, и люди соблазняются“.