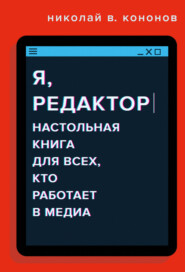По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ночь, когда мы исчезли
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Тогда, на раздаче персиков, мать ходила с ним и торжествующе смотрела, как соседи принимают дары. Её звали молчальницей. В двадцать она почти не посещала маасштубу, где молодёжь, вырвавшаяся из-под присмотра, играла в целовальные игры. Казалось, что другой страсти, кроме как разбираться в механизмах, у неё нет, но это было не так. Из отца с трудом можно было вытащить и пару слов, и главным собеседником матери стал не он, а патер Рохус, который нашёл в ней оппонента в толковании Евангелия. Кажется, патер был поклонником того метода обращения, когда пасомого искушают и заставляют подвергать сомнению какое-нибудь дискутабельное место в Писании, чтобы затем ловко доказать обратное.
Как я понял позже, Рохус не просто ценил мать как прихожанку, по-настоящему горячо переживавшую за дело Христово, а любил. Возвращаясь из дома причта, мать имела вид астматика, которому дали морфия. Впрочем, Розенфельд был крошечным, и даже если они имели более интимные отношения, нежели экзегетические, то на людях всё равно держались отчуждённо.
Мать с её строгостью редко открывалась мне дольше, чем на те утренние минуты, когда мне было разрешено класть ей голову на колени. Она гладила мои волосы. Однажды, вернувшись от патера, мать сказала: «Бог есть время, и знаешь, чем люди наслаждаются, когда молятся? Чувством, что мир не начинался и не кончится, а был и будет всегда в одном мгновении. Бог наблюдает, что было двести лет назад, одновременно с тем, что происходит сейчас с нами. Время – как вода в купели, где купал меня твой дед».
Когда мне исполнилось восемь, я увидел воду. Меня отвезли в Одессу к родственнику, также Бейтельсбахеру, архитектору. Тот согласился сдать мне комнату в одной квартире со своей сестрой, достойной отдельной арии. Имея жильё, я мог посещать училище Святого Павла, основанное немцами. Во время войны училище избавилось от иностранцев среди учителей – кроме тех, кто преподавал язык, – но не потеряло в жестокости. Весь день нас караулили швейцары и, чуть что, тащили учеников, не повиновавшихся преподавателям, в карцер или к директору.
Почти шесть лет я провёл в Одессе, но так и не понял причин восторга, который она вызывала у многих путешественников. Одесса была грязна, пахла овощной лавкой, помоями и удушливыми цветами, чьё название я забыл. Здесь всегда было много банд. Квартира дяди находилась на Старопортофранковской, недалеко от училища, и по дороге домой меня грабили всего дважды. Здесь не очень-то любили евреев, греков, а после того, как началась война, стали прихватывать и немцев. Банды стреляли в полицейских. Затем стали бунтовать рабочие. Их демонстрации забрасывали друг друга камнями.
Море и революция меня не интересовали, и я проводил время, свернувшись как кот на кровати и читая книги из библиотеки архитектора.
Весной восемнадцатого года мы с отцом сели в фургон и поехали к Лизогубам. Кончалась война, Украина оставалась ещё немецкой. Дядя Ханс сгинул где-то на севере, но все надеялись, что он в плену и скоро ему разрешат вернуться. Большевистская республика родилась в Одессе и так же быстро задохнулась. Ночуя на станциях, где тарелки прилипали к столам, мы доволоклись до городка Седнёв. Впервые оказавшись вне степи, я изумлённо наблюдал густолесье. Нас поселили во флигеле с видом на статую поэта по имени Тарас Шевченко, с которым дружил старый Лизогуб.
Несколько дней отец осматривал угодья с управляющим, а я носил за ними землемерный циркуль. Мы справились быстро, так как почва уже подсохла, а трава ещё не поднялась. Князь Фёдор велел накрыть столы прямо на лугу, за которым колыхались освещённые закатом сосны. Отец начертил план и описал, как следует разбить сады, как за чем ухаживать и какой урожай ждать.
Солнце садилось, но ещё лило сквозь кроны деревьев густейший свет. В этом зареве носились и падали в траву чёрными метеоритами майские жуки. На горящем небе они выглядели так отчётливо и заманчиво, что я вернулся в комнату, вытряс спички из коробка и вернулся с готовым вместилищем добычи.
Между князем и отцом развязался спор. Я не запомнил его точно, но смысл уяснил. Всё-таки мне было почти тринадцать, и отец несколько раз вёл со мной разговоры после чтения газет.
«Украину ждёт независимость, – говорил Лизогуб, – мы выгодно расположены и будем кормить Европу. С войной господство империй кончилось и больше не вернётся. В ближайшее время освободятся прибалты, чехи, словаки, галисийцы. Кто-то отстоит свои нынешние границы, кто-то возьмёт автономию, но никому не нужна ещё одна война. Больше нет сил, которые могут удерживать свободные народы».
В коробок лёг жук с отливающим зеленцой крыльями. Поймать его было не сложно. На освещённом уходящим солнцем небе можно было разглядеть каждое насекомое, и я выждал, пока в траву спикирует самый крупный экземпляр. Он яростно жужжал и бился об стенки.
„«Понимаю ваши надежды и надеюсь, что они сбудутся. Но империи не откажутся от господства и, конечно, продолжат делить Европу на части. Большевики сейчас слабы, но, если им удастся удержать власть, отпускать Украину они не захотят». – «Ещё неизвестно, останутся ли они у власти. К тому же армия ослаблена войной, и крестьяне против них. Нас же поддерживают Австрия и Германия. Нам предстоит использовать нашу богатую землю более разумно, и вы с вашими успехами в селекции могли бы этому помочь. Кстати, скоро я еду в Киев, гетман назначает меня председателем правительства».
Жук не переставал елозить, и мне пришлось поискать берёзовый лист, чтобы завернуть его и тем утихомирить.
«Я человек обычный, мой дед был фермером в Эльзасе. А вы смотрите вперёд, видите будущее. Вам кажется, что оно вблизи, вот-вот, здесь, рядом. Но крупные хищники ещё не заснули». – «Ну хорошо. Сами-то вы что станете делать, если большевики или французы съедят Украину? До ваших колоний доберутся и те и другие». – «Мы незаметны, ничего не требуем и ничем особенным не владеем. Так ли нужны им колонии? Степи хватит на всех».
Несколько минут жук молчал, и я подумал, что можно было бы бесконечно подкладывать ему листы и тогда он бы доехал с нами до Розенфельда. Я погнался за ещё одним на край луга, споткнулся о прятавшуюся под травой ветку и порвал штаны.
Когда я вернулся к спорщикам, князь увещевал отца: «Очень жаль, герр Бейтельсбахер, подумайте ещё. Ваши таланты могли бы расцвести в подобающем масштабе». Отец отговаривался, что ему хватает своей земли, но было видно, что в уме его составлялось и обдумывалось уравнение, в котором и мы, семья, и другие колонисты – лишь один из членов.
Небо погасло, и падение насекомых прекратилось. Князь с интересом расспрашивал отца о фруктовых садах, а я отправился спать. В сумерках оплывала круглая голова поэта. Я заглянул в коробок. Жук шевелился и пробовал вылезти. Пришлось запихнуть его обратно.
В дороге отец разговорился. По его мнению, Лизогуб был господином, совершенно не понимающим жизни «народа в пути», то есть колонистов. Сила наша заключалась в способности затеряться, существовать сепаратно, не приникая к власти и храня связь с родиной. На родине, впрочем, творилось чёрт знает что: к власти рвались коммунисты. Условия мира – если заключать его сейчас – были бы унизительными для Германии, Эльзас того гляди отойдёт Франции. В такое время надеяться, что Украина останется столь огромной и самостоятельной, – пф, лучше подождать, куда задует ветер. Дураки верят, что где-либо возможен рай. Это обман, рая на Земле нет, а война и вовсе показала, что люди сошли с ума. Новый век зовёт нас убивать друг друга всё более изощрёнными способами, не размышлять слишком долго, не жить медленно, как в старину. Переждать это время на отшибе, не теряя себя, – вот единственный выход.
Наконец мы добрались до дома. Утром я взял брюки, чтобы отдать их зашивать, и нащупал в кармане спичечный коробок. Берёзовый лист был доеден, жук был мёртв.
Так же умерло в те месяцы материнское время-бог и отцовское время-ракушка, где будущее слипалось с прошлым и вытекало из него. Родители упустили момент, когда прошлое и настоящее разлепились и между ними образовалась пропасть, расщелина, устремляющаяся к самому центру Земли.
Раньше, чтобы защититься от бед, можно было положиться на опыт и бежать от вредных перемен, гремевших за пределами степи. Но теперь из дедовского опыта ничего не следовало, всё менялось столь молниеносно, что даже понимание сути этих изменений не давало никакого преимущества. Требовался дар не понимания, а предсказания, которым осевшие в степи беглецы от мира не обладали. И как при оползне километры почвы отрываются вместе с домами, чтобы уплыть в море, так и наше настоящее оторвалось от прошлого.
Австрийцы устали от войны и знали, что скоро уйдут. Их генералы доверяли колонистам, и в Розенфельд и другие колонии явились инструкторы и повозки, гружённые пулемётами и ружьями. Всех взрослых мужчин, включая патера Рохуса, научили стрелять и держать круговую оборону. С соседями из Нейфрейденталя договорились о связи в случае нападения.
Украина выказывала недовольство вооружением колонистов, но деваться ей было некуда. Осенью немцы бросили Киев, и правительство Лизогуба приготовилось обороняться от большевиков. Великая война кончилась миром, но в колониях не спешили радоваться. Австрийцы ушли, и мы остались один на один с большевиками, вновь перехватившими власть в Одессе.
Нам действительно везло: колонии были небольшими и стояли вдали от важных дорог. Ополченцы редко использовали оружие, разве что против залётных банд. Ханс так и не вернулся с войны, а Карл с Катариной Фишер обосновались в Розенфельде. В Одессе же шли бои, и, не дожидаясь осени, отец забрал мои документы из гимназии, рассудив, что безопаснее мне будет доучиться в Нейфрейдентальском училище.
Директор Нольд оказался не таким мучителем, каким мне представлял его брат Карл. Нольд распознал мою любовь к степи и, поскольку программа училища ничего общего с ботаникой не имела, посоветовал единственно возможное: сосредоточиться на химии и поступать в Новороссийский университет, чтобы изучать почвы.
После уроков я возвращался степью, и к выпускному экзамену мою комнату заполнили гербарии. Химия же давалась легко. Вечерами мать садилась на лавку за моей спиной и смотрела, как я выписываю формулы. Она молчала, но я чувствовал, что её взгляд торопит меня.
С почвой тоже всё оказалось просто. Я без труда выучил её виды и, как мне казалось, мог на ощупь отличить лёсс от суглинка. Даже ранней весной было достаточно лечь на землю, ещё мёрзлую, чтобы почувствовать, как прибывают силы. Я обнимал её, и усталость уходила.
Кто бы знал, что именно из степи, моего святилища, явится наваждение. Сначала оно показалось облачком пыли, которое ползло по дороге от Фрилинга, будто к нам ехал клиент отца или из Одессы возвращался аптекарь. Но чем дольше я всматривался в облачко, тем увереннее мне казалось, что это целый поезд, который скользит медянкой в пыли и взбирается на холм.
Я немного выждал, перебежал выше по склону и разглядел всадников и возниц на телегах. Их одежда и посадка в седле выдавали чужаков, и я подумал: вдруг в наших краях блуждает отставшая австрийская кавалерия с фуражирами?
Но нет, это была не кавалерия. Это была рука Господа, выкинувшая меня из колыбели.
Часть I
Леонид Ира вылезает из лужи
Вера Ельчанинова просыпается в междуцарствии
Ханс Бейтельсбахер бежит
Показания господина Иры
Интервью, 2 ноября 1946 года, Лондон
Спросили бы меня, с чего всё началось, я бы ответил просто: ни с чего. Ну не помню я точечки, на которую можно было бы встать и крикнуть: отсюда произошёл Леонид Фёдорович!
Помню грязь на улицах и очень занимательные следы в этой грязи – велосипеда ли шина, автомобиля. Разные. Если у вас есть карандаш, могу нарисовать хоть сейчас. Момент… Это «Проводник»… А это «Мишлен».
И вот я блуждал по такой грязи с деревянной сабелькой. Всё моё пасмурное детство, до разумных лет. А потом ко мне прилетел он – такой сырой, с налипшей грязью, с разлохматившейся шнуровкой – и шлёпнул прямо в голову. Бол. По-русски – мяч.
Я свалился в лужу, а дно её оказалось топким и стало засасывать. На счастье, меня схватили за хлястик и вытащили – хоть бы и без сапог и без сабельки. Отряхнули и пошли дальше лупить по своему намокшему мячу.
Ну вот, я и стал приходить к ним на краешек поля и шагать туда-сюда. Они вкрутили жерди в траву и сконструировали таким образом гол, по-русски – ворота. Впрочем, они были студентами, и у них скоро кончались каникулы. Они разъехались кто в Воронеж, а кто и в Москву. Я же запомнил и оплеуху эту, и лужу, и как лихо они усмиряли подскакивавший мяч, и как выговаривали диковинные слова: офсайд, корнер…
Я удивлён, что в моей душе вообще отпечаталось нечто подобное. Я ничего не знал о футболе и не помышлял о таких развлечениях. На стадионе присутствовал лишь единожды, когда был смотр у кавалерийского полка. И ещё в сладчайший день, когда в Екатеринодар пожаловали кирасиры Ея Величества. Вот в чём была моя страсть.
Мы совершенные пленники младенчества: западёт в душу бог весть что, а ты всю жизнь это носи. Блестящие кирасы, орлы на касках, портупеи вот так, крест-накрест, и кители белые как снег среди глиняного болота на плацу. Всё это отпечаталось во мне как след «Мишлена», и я захотел стать кирасиром. Гимны и всё последование к обедне я выучил потом, как аппендикс, – ради того чтобы только прикоснуться к этим богам, присвоить их, стать одним из них и никогда более не беспокоиться о несбывшихся мечтах.
А мечты во мне роились разные. Мать скончалась от чахотки, когда мне не было и года. Отец передал меня на воспитание своей вдовой сестре, и, когда мы изредка встречались с ним, я видел, что своей хрупкостью и небольшим ростом не нравлюсь ему. Вероятно, поэтому я и сам себе не нравился. Зачислившись в гимназию, я решил стать другим.
На уроке латыни учитель остановил свой палец на моей фамилии и сказал: вот это да, какая редкость, ira означает «ярость». Отец ничего нового сообщить о нашем происхождении не смог, кроме того что прадед учился в Могилянской академии в Киеве и стал священником, читавшим столь яростные проповеди, что от них воспламенялся воздух, а однажды воспламенилась и крытая щепой церковь под Хустом, и он сгорел.
Вот так. А мне казалось, что моей крови не соответствует Леонид. Имя Лёня мягкое, как покрывало, от него тянет бездельем. Книгоноша продал отцу для моего скорейшего воспитания брошюры с житиями, и один из святых оказался воином. Его звали Лонгин, он был одним из стражников, наблюдавших распятие Христа, и позже стал проповедником веры Его.
Раз не удаётся за помазанника Божия сразиться воочию, надо взять меч хотя бы в душе, верно? Я и взял и до последнего класса так и представлялся: Лонгин.
Чтобы не утомлять вас далее, приведу лишь два момента юности, которые обнаружат потом свою важность, и всё.
Первое случилось в двенадцать моих лет под Пшадой, селом, около коего жил дед. Утомившись от социального копошения людей, он построил хутор у моря, чуть в отдалении от деревни собратьев-чехов, прямо у Кавказского хребта. Всё лето, как Адам в раю, я лазил по деревьям и срывал абрикосы, вишни, груши. Горы сияли вдали – когда дед был помоложе, ходил туда, забирался вверх по ущелью и часами пел в скалах: эхо соединяло голоса в ораторию.
Как я понял позже, Рохус не просто ценил мать как прихожанку, по-настоящему горячо переживавшую за дело Христово, а любил. Возвращаясь из дома причта, мать имела вид астматика, которому дали морфия. Впрочем, Розенфельд был крошечным, и даже если они имели более интимные отношения, нежели экзегетические, то на людях всё равно держались отчуждённо.
Мать с её строгостью редко открывалась мне дольше, чем на те утренние минуты, когда мне было разрешено класть ей голову на колени. Она гладила мои волосы. Однажды, вернувшись от патера, мать сказала: «Бог есть время, и знаешь, чем люди наслаждаются, когда молятся? Чувством, что мир не начинался и не кончится, а был и будет всегда в одном мгновении. Бог наблюдает, что было двести лет назад, одновременно с тем, что происходит сейчас с нами. Время – как вода в купели, где купал меня твой дед».
Когда мне исполнилось восемь, я увидел воду. Меня отвезли в Одессу к родственнику, также Бейтельсбахеру, архитектору. Тот согласился сдать мне комнату в одной квартире со своей сестрой, достойной отдельной арии. Имея жильё, я мог посещать училище Святого Павла, основанное немцами. Во время войны училище избавилось от иностранцев среди учителей – кроме тех, кто преподавал язык, – но не потеряло в жестокости. Весь день нас караулили швейцары и, чуть что, тащили учеников, не повиновавшихся преподавателям, в карцер или к директору.
Почти шесть лет я провёл в Одессе, но так и не понял причин восторга, который она вызывала у многих путешественников. Одесса была грязна, пахла овощной лавкой, помоями и удушливыми цветами, чьё название я забыл. Здесь всегда было много банд. Квартира дяди находилась на Старопортофранковской, недалеко от училища, и по дороге домой меня грабили всего дважды. Здесь не очень-то любили евреев, греков, а после того, как началась война, стали прихватывать и немцев. Банды стреляли в полицейских. Затем стали бунтовать рабочие. Их демонстрации забрасывали друг друга камнями.
Море и революция меня не интересовали, и я проводил время, свернувшись как кот на кровати и читая книги из библиотеки архитектора.
Весной восемнадцатого года мы с отцом сели в фургон и поехали к Лизогубам. Кончалась война, Украина оставалась ещё немецкой. Дядя Ханс сгинул где-то на севере, но все надеялись, что он в плену и скоро ему разрешат вернуться. Большевистская республика родилась в Одессе и так же быстро задохнулась. Ночуя на станциях, где тарелки прилипали к столам, мы доволоклись до городка Седнёв. Впервые оказавшись вне степи, я изумлённо наблюдал густолесье. Нас поселили во флигеле с видом на статую поэта по имени Тарас Шевченко, с которым дружил старый Лизогуб.
Несколько дней отец осматривал угодья с управляющим, а я носил за ними землемерный циркуль. Мы справились быстро, так как почва уже подсохла, а трава ещё не поднялась. Князь Фёдор велел накрыть столы прямо на лугу, за которым колыхались освещённые закатом сосны. Отец начертил план и описал, как следует разбить сады, как за чем ухаживать и какой урожай ждать.
Солнце садилось, но ещё лило сквозь кроны деревьев густейший свет. В этом зареве носились и падали в траву чёрными метеоритами майские жуки. На горящем небе они выглядели так отчётливо и заманчиво, что я вернулся в комнату, вытряс спички из коробка и вернулся с готовым вместилищем добычи.
Между князем и отцом развязался спор. Я не запомнил его точно, но смысл уяснил. Всё-таки мне было почти тринадцать, и отец несколько раз вёл со мной разговоры после чтения газет.
«Украину ждёт независимость, – говорил Лизогуб, – мы выгодно расположены и будем кормить Европу. С войной господство империй кончилось и больше не вернётся. В ближайшее время освободятся прибалты, чехи, словаки, галисийцы. Кто-то отстоит свои нынешние границы, кто-то возьмёт автономию, но никому не нужна ещё одна война. Больше нет сил, которые могут удерживать свободные народы».
В коробок лёг жук с отливающим зеленцой крыльями. Поймать его было не сложно. На освещённом уходящим солнцем небе можно было разглядеть каждое насекомое, и я выждал, пока в траву спикирует самый крупный экземпляр. Он яростно жужжал и бился об стенки.
„«Понимаю ваши надежды и надеюсь, что они сбудутся. Но империи не откажутся от господства и, конечно, продолжат делить Европу на части. Большевики сейчас слабы, но, если им удастся удержать власть, отпускать Украину они не захотят». – «Ещё неизвестно, останутся ли они у власти. К тому же армия ослаблена войной, и крестьяне против них. Нас же поддерживают Австрия и Германия. Нам предстоит использовать нашу богатую землю более разумно, и вы с вашими успехами в селекции могли бы этому помочь. Кстати, скоро я еду в Киев, гетман назначает меня председателем правительства».
Жук не переставал елозить, и мне пришлось поискать берёзовый лист, чтобы завернуть его и тем утихомирить.
«Я человек обычный, мой дед был фермером в Эльзасе. А вы смотрите вперёд, видите будущее. Вам кажется, что оно вблизи, вот-вот, здесь, рядом. Но крупные хищники ещё не заснули». – «Ну хорошо. Сами-то вы что станете делать, если большевики или французы съедят Украину? До ваших колоний доберутся и те и другие». – «Мы незаметны, ничего не требуем и ничем особенным не владеем. Так ли нужны им колонии? Степи хватит на всех».
Несколько минут жук молчал, и я подумал, что можно было бы бесконечно подкладывать ему листы и тогда он бы доехал с нами до Розенфельда. Я погнался за ещё одним на край луга, споткнулся о прятавшуюся под травой ветку и порвал штаны.
Когда я вернулся к спорщикам, князь увещевал отца: «Очень жаль, герр Бейтельсбахер, подумайте ещё. Ваши таланты могли бы расцвести в подобающем масштабе». Отец отговаривался, что ему хватает своей земли, но было видно, что в уме его составлялось и обдумывалось уравнение, в котором и мы, семья, и другие колонисты – лишь один из членов.
Небо погасло, и падение насекомых прекратилось. Князь с интересом расспрашивал отца о фруктовых садах, а я отправился спать. В сумерках оплывала круглая голова поэта. Я заглянул в коробок. Жук шевелился и пробовал вылезти. Пришлось запихнуть его обратно.
В дороге отец разговорился. По его мнению, Лизогуб был господином, совершенно не понимающим жизни «народа в пути», то есть колонистов. Сила наша заключалась в способности затеряться, существовать сепаратно, не приникая к власти и храня связь с родиной. На родине, впрочем, творилось чёрт знает что: к власти рвались коммунисты. Условия мира – если заключать его сейчас – были бы унизительными для Германии, Эльзас того гляди отойдёт Франции. В такое время надеяться, что Украина останется столь огромной и самостоятельной, – пф, лучше подождать, куда задует ветер. Дураки верят, что где-либо возможен рай. Это обман, рая на Земле нет, а война и вовсе показала, что люди сошли с ума. Новый век зовёт нас убивать друг друга всё более изощрёнными способами, не размышлять слишком долго, не жить медленно, как в старину. Переждать это время на отшибе, не теряя себя, – вот единственный выход.
Наконец мы добрались до дома. Утром я взял брюки, чтобы отдать их зашивать, и нащупал в кармане спичечный коробок. Берёзовый лист был доеден, жук был мёртв.
Так же умерло в те месяцы материнское время-бог и отцовское время-ракушка, где будущее слипалось с прошлым и вытекало из него. Родители упустили момент, когда прошлое и настоящее разлепились и между ними образовалась пропасть, расщелина, устремляющаяся к самому центру Земли.
Раньше, чтобы защититься от бед, можно было положиться на опыт и бежать от вредных перемен, гремевших за пределами степи. Но теперь из дедовского опыта ничего не следовало, всё менялось столь молниеносно, что даже понимание сути этих изменений не давало никакого преимущества. Требовался дар не понимания, а предсказания, которым осевшие в степи беглецы от мира не обладали. И как при оползне километры почвы отрываются вместе с домами, чтобы уплыть в море, так и наше настоящее оторвалось от прошлого.
Австрийцы устали от войны и знали, что скоро уйдут. Их генералы доверяли колонистам, и в Розенфельд и другие колонии явились инструкторы и повозки, гружённые пулемётами и ружьями. Всех взрослых мужчин, включая патера Рохуса, научили стрелять и держать круговую оборону. С соседями из Нейфрейденталя договорились о связи в случае нападения.
Украина выказывала недовольство вооружением колонистов, но деваться ей было некуда. Осенью немцы бросили Киев, и правительство Лизогуба приготовилось обороняться от большевиков. Великая война кончилась миром, но в колониях не спешили радоваться. Австрийцы ушли, и мы остались один на один с большевиками, вновь перехватившими власть в Одессе.
Нам действительно везло: колонии были небольшими и стояли вдали от важных дорог. Ополченцы редко использовали оружие, разве что против залётных банд. Ханс так и не вернулся с войны, а Карл с Катариной Фишер обосновались в Розенфельде. В Одессе же шли бои, и, не дожидаясь осени, отец забрал мои документы из гимназии, рассудив, что безопаснее мне будет доучиться в Нейфрейдентальском училище.
Директор Нольд оказался не таким мучителем, каким мне представлял его брат Карл. Нольд распознал мою любовь к степи и, поскольку программа училища ничего общего с ботаникой не имела, посоветовал единственно возможное: сосредоточиться на химии и поступать в Новороссийский университет, чтобы изучать почвы.
После уроков я возвращался степью, и к выпускному экзамену мою комнату заполнили гербарии. Химия же давалась легко. Вечерами мать садилась на лавку за моей спиной и смотрела, как я выписываю формулы. Она молчала, но я чувствовал, что её взгляд торопит меня.
С почвой тоже всё оказалось просто. Я без труда выучил её виды и, как мне казалось, мог на ощупь отличить лёсс от суглинка. Даже ранней весной было достаточно лечь на землю, ещё мёрзлую, чтобы почувствовать, как прибывают силы. Я обнимал её, и усталость уходила.
Кто бы знал, что именно из степи, моего святилища, явится наваждение. Сначала оно показалось облачком пыли, которое ползло по дороге от Фрилинга, будто к нам ехал клиент отца или из Одессы возвращался аптекарь. Но чем дольше я всматривался в облачко, тем увереннее мне казалось, что это целый поезд, который скользит медянкой в пыли и взбирается на холм.
Я немного выждал, перебежал выше по склону и разглядел всадников и возниц на телегах. Их одежда и посадка в седле выдавали чужаков, и я подумал: вдруг в наших краях блуждает отставшая австрийская кавалерия с фуражирами?
Но нет, это была не кавалерия. Это была рука Господа, выкинувшая меня из колыбели.
Часть I
Леонид Ира вылезает из лужи
Вера Ельчанинова просыпается в междуцарствии
Ханс Бейтельсбахер бежит
Показания господина Иры
Интервью, 2 ноября 1946 года, Лондон
Спросили бы меня, с чего всё началось, я бы ответил просто: ни с чего. Ну не помню я точечки, на которую можно было бы встать и крикнуть: отсюда произошёл Леонид Фёдорович!
Помню грязь на улицах и очень занимательные следы в этой грязи – велосипеда ли шина, автомобиля. Разные. Если у вас есть карандаш, могу нарисовать хоть сейчас. Момент… Это «Проводник»… А это «Мишлен».
И вот я блуждал по такой грязи с деревянной сабелькой. Всё моё пасмурное детство, до разумных лет. А потом ко мне прилетел он – такой сырой, с налипшей грязью, с разлохматившейся шнуровкой – и шлёпнул прямо в голову. Бол. По-русски – мяч.
Я свалился в лужу, а дно её оказалось топким и стало засасывать. На счастье, меня схватили за хлястик и вытащили – хоть бы и без сапог и без сабельки. Отряхнули и пошли дальше лупить по своему намокшему мячу.
Ну вот, я и стал приходить к ним на краешек поля и шагать туда-сюда. Они вкрутили жерди в траву и сконструировали таким образом гол, по-русски – ворота. Впрочем, они были студентами, и у них скоро кончались каникулы. Они разъехались кто в Воронеж, а кто и в Москву. Я же запомнил и оплеуху эту, и лужу, и как лихо они усмиряли подскакивавший мяч, и как выговаривали диковинные слова: офсайд, корнер…
Я удивлён, что в моей душе вообще отпечаталось нечто подобное. Я ничего не знал о футболе и не помышлял о таких развлечениях. На стадионе присутствовал лишь единожды, когда был смотр у кавалерийского полка. И ещё в сладчайший день, когда в Екатеринодар пожаловали кирасиры Ея Величества. Вот в чём была моя страсть.
Мы совершенные пленники младенчества: западёт в душу бог весть что, а ты всю жизнь это носи. Блестящие кирасы, орлы на касках, портупеи вот так, крест-накрест, и кители белые как снег среди глиняного болота на плацу. Всё это отпечаталось во мне как след «Мишлена», и я захотел стать кирасиром. Гимны и всё последование к обедне я выучил потом, как аппендикс, – ради того чтобы только прикоснуться к этим богам, присвоить их, стать одним из них и никогда более не беспокоиться о несбывшихся мечтах.
А мечты во мне роились разные. Мать скончалась от чахотки, когда мне не было и года. Отец передал меня на воспитание своей вдовой сестре, и, когда мы изредка встречались с ним, я видел, что своей хрупкостью и небольшим ростом не нравлюсь ему. Вероятно, поэтому я и сам себе не нравился. Зачислившись в гимназию, я решил стать другим.
На уроке латыни учитель остановил свой палец на моей фамилии и сказал: вот это да, какая редкость, ira означает «ярость». Отец ничего нового сообщить о нашем происхождении не смог, кроме того что прадед учился в Могилянской академии в Киеве и стал священником, читавшим столь яростные проповеди, что от них воспламенялся воздух, а однажды воспламенилась и крытая щепой церковь под Хустом, и он сгорел.
Вот так. А мне казалось, что моей крови не соответствует Леонид. Имя Лёня мягкое, как покрывало, от него тянет бездельем. Книгоноша продал отцу для моего скорейшего воспитания брошюры с житиями, и один из святых оказался воином. Его звали Лонгин, он был одним из стражников, наблюдавших распятие Христа, и позже стал проповедником веры Его.
Раз не удаётся за помазанника Божия сразиться воочию, надо взять меч хотя бы в душе, верно? Я и взял и до последнего класса так и представлялся: Лонгин.
Чтобы не утомлять вас далее, приведу лишь два момента юности, которые обнаружат потом свою важность, и всё.
Первое случилось в двенадцать моих лет под Пшадой, селом, около коего жил дед. Утомившись от социального копошения людей, он построил хутор у моря, чуть в отдалении от деревни собратьев-чехов, прямо у Кавказского хребта. Всё лето, как Адам в раю, я лазил по деревьям и срывал абрикосы, вишни, груши. Горы сияли вдали – когда дед был помоложе, ходил туда, забирался вверх по ущелью и часами пел в скалах: эхо соединяло голоса в ораторию.