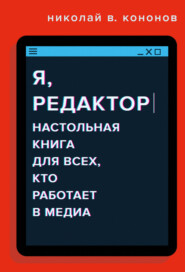По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Восстание. Документальный роман
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вы член партии? – спросил он меня наконец.
– Нет.
– Тогда и вы не поймете. Коммунизм неизбежен. Народы придут к тому, что единственное справедливое устройство общества – это общество равных. Русского человека мы уже двадцать лет переделываем, а европейские страны погрязли в неравенстве. Империалисты-колонизаторы примут истину, лишь когда увидят нашу мощь.
– Я вижу немного другое, – сказал я, подбирая слова, так как не был уверен, что он не вытащит пистолет. – Какое равенство мы можем им предъявить как образец – равенство в бедности и давлении на бесправного? Никакого другого равенства нет – я видел, как живут следователи, я знаю о привилегиях начальства партии…
– Вы правы, гнили много, – перебил Круглов, – и не вся она вычищена. Вы мне нравитесь, редко встретишь прямо мыслящего человека, таких коммунистов не хватает. Когда все это кончится, я дам вам характеристику, хоть вы и позеленели от агитснаряда. Мы на пути, Соловьев. На долгом, длинном пути, но конец его предрешен. По-другому быть не может. Это аксиома, и я верю в нее, я старый коммунист. Русские долго шли к этой идее, она пустила корни в нашем сознании. Не может быть никакой собственности, все даровано богом, даже помещик и фабрикант не владеют ничем, а так, взяли попользоваться, и горе им, если подумают, что это их. Только у нас вместо бога – рабочий народ, вот и все.
– Подождите, а хозяин – что, не рабочий человек? Я знаю, вам это не понравится, но когда Столыпин выпихнул крестьян в самостоятельную хозяйскую жизнь, многие сразу поняли, что их дело – собственное. И за свое они горой были готовы стоять и работали по-другому.
– А вот это индивидуализм, – засмеялся Круглов. – Нет никакого «своего». Еще Ленин говорил, что ваш Столыпин опоздал лет на сто, а то и двести. Голыми придем в мир, голыми уйдем – не должен новый человек к старому порядку привязываться, как и к земле, скарбу, дому. Все общее, в любую минуту готов хоть один, хоть с семьей пойти, куда воля народная пошлет. Европейцы пока этому сопротивляются, ушли с пути к коммунизму, натерпелись от Гитлера и теперь смотрят, как мы с ним воюем. Для них это как две змеи сцепились, одна другую кусает и ядом травит, а другая ее душит, – но когда война кончится, они не отвертятся от нашей правоты.
– Вы рассуждаете как религиозник, – произнес я, растирая глуховатое ухо. – Только у вас вместо пришествия Христа – всемирный коммунизм, который наступит обязательно и ничто его не отменит.
– Вы, Соловьев, хоть и прямой человек, но в душе не коммунист. Поэтому и видите только то, что у вас под ногами, а вдаль взглянуть не можете. Один лист своей карты можете рассмотреть, а весь глобус – нет. А я не слепой и вижу все: и что воруют прямо здесь, на фронте, у товарищей, и что своей выгоды ищут, и что многим все равно, социализм ли или еще что-нибудь, сдери с них форму, надень царскую или французскую – те же люди будут. Вижу, каких политруков присылают – безграмотных. Я, кадровый военный, старый коммунист, не могу их слушать. Под агитацией у них ничего нет. Чего удивляться, что у солдат три темы для разговора: смерть – как у них там что оторвет, – бабы и пожрать. Офицерский состав плохо обучен и руководить не умеет, может только орать «В атаку!». И это еще фронт стоит. А если наступление, если перестроиться, если сложный маневр? Многие побегут – одни в лес, другие в плен. Чего вы ежитесь, я то же самое говорю им в лицо. Когда пятый месяц лежишь рожей в грязь, не боишься прямоты. Это генералов тасуют – на одну армию, на другую – а полковник, да еще в гнилом отдаленном углу… Где начал воевать, там и кончил. Я вам скажу, почему вера моя крепка: потому что у истории железная логика. Рабовладельцев сменили поработители, царей – парламенты. Следующая ступенечка – всеобщее равенство, свободное от мерзавцев, плюс партия, проводник истинных интересов нового человека.
Стало понятно, что Круглова прошибить невозможно, но при этом ужасно не хотелось уходить из натопленного блиндажа от самовара и сушек. То ли от жары, то ли от первого за долгие месяцы умного разговора я пустился в откровения.
– Вы, кажется, не сознаете проблемы с этим новым человеком. Он не знает, что такое сострадание, сопереживание, внимание к ближнему своему, стремление понять хотя бы своего соседа и облегчить ему жизнь хоть чем-то. Нет у партии цели так гражданина воспитать. Сочувствия страшно не хватает, а вовсе не мировой гегемонии. После того как брат с братом воевал, а граждане с правами у бесправных зерно отнимали – после этого залечить раны надо, они сами собой не затянутся. А у вас кругом враги: вычистили одних, подавай следующих – строить, сеять, жать и сражаться за коммунистов всей Земли. Это утопия. С такими же, кстати, утопистами воюем, только у них вместо пролетариата – арийская раса.
Круглов смотрел на меня сквозь папиросный дым. Он явно жалел, что затеял этот разговор. Я живо представил себя и его в кабинете, где подозреваемым загоняют булавки под ногти. Однако комполка решил, что я все-таки откровенный идиот, а не провокатор.
Тем более с рекогносцировкой в полку была беда, и ему проще было изобразить, что он воспитывает меня, чем арестовывать и ждать нового топографа.
– Потом, Соловьев, – вздохнул он, – потом сострадание и умиротворение. Опять хотите всего сразу. Пока мы окружены, надо беспощадно выявлять предателей. Помните, как казалось, что пора умиротвориться? Даже товарищ Сталин поверил и выступил, что жить стало веселее и надо вожжи приотпустить. И что мы получили? Наросла контрреволюция! Изолировать тех, кто по жизни при царе тоскует, – необходимость. Как и случайных, разочаровавшихся коммунистов – такие разлагают партию. Без очищения не создашь нового человека. Когда нет гнета своих желаний и воля следует за партийными нуждами – только тогда можно достичь настоящей свободы. Всегда будут отщепенцы и патологические эгоисты, но в целом, лейтенант, от прогресса не сбежишь. Потому и умирать не страшно, и драться до конца будем. За будущее человеков воюем…
Вскоре с обозом приехали запрошенные мной мензула, штатив, рейки, планшет, краски, кисти, тушь, кривоножка и даже блокноты для абрисов. Где-то с неделю мы снимали участки недалеко от ближайшей деревни, Белебелки. Лошади вязли в снегу. Близнецы сплели лямки, похожие на сбруи, и скользили на лыжах, закинув на спины деревянные ящики, где покоились в ложементах приборы. От них, в общем, и не требовалось большего – разве что стоять, сменяя друг друга, если замерзли, и держать рейку, пока я двигался от пикета к пикету и правил план прямо на столике. После возвращения я брел в блиндаж к разведчикам, дорабатывал карандашный набросок красками и отдавал им готовую карту. Оставался лишь один участок.
Потеплело, снег стал утаптываться ударом подошвы, и запахло хвоей. Лыжная мазь давно кончилась, поэтому мы вышли затемно и покатились медленно, с руганью. Болото, схожее очертаниями с запятой, мы разыскали быстро – оно не слишком отличалось от того, что картограф нарисовал тридцать лет назад. Расставив братьев с рейками, я настраивал мензулу, вдыхал воздух марта и крутил регулировочный винт, когда сразу с нескольких сторон ударил и разошелся оглушающими раскатами гром. Спустя секунды тишины где-то близко, за перелеском, взорвались снаряды и встала на дыбы земля. Костя и Полуект бежали ко мне, проваливаясь и падая.
Не слыша их криков, я нагнулся к ящикам и зачем-то стал протирать не успевшие вымокнуть инструменты.
На минуту рухнуло затишье, а потом орудия начали палить вразнобой, раздались выстрелы винтовок и тарахтенье автоматов. Молчаливых близнецов прорвало и они матерились, как будто их рвало словами. Не представляя, что теперь делать, и трясясь, я сам наорал на них. Судя по карте, если бы мы хотели вернуться к своим, нам пришлось бы прорываться через бой. С дороги до Белебелки донесся тяжелый гул. «Танки их эти блядские! – кричал Костя. – Наши не так рычат!» В голове металась тысяча мыслей, поймать хотя бы некоторые и связать в цепь было невозможно. Наконец я решил прятаться до темноты в той части запятой, откуда просматривалась большая часть болота и уреза воды. Костя и Полуект вскинули ящики на спины, и под грохот и рычание я перешел вслед за оруженосцами на другой берег, обмирая от ужаса и ежесекундно ожидая, что какой-нибудь снаряд отклонится от траектории и прилетит в нас. Близнецы любили болтать о том, как кого убивает, и накануне обсуждали сержанта, разорванного взрывом на две части, между которыми ползла по снегу и не обрывалась длинная кишка. Тогда меня едва не вырвало гороховым концентратом, а сейчас в висках стучало одно: только бы не разорвало.
Привалившись к сосне, Костя допил чай из крышки термоса, налил еще и протянул мне. До заката оставалось два часа. Я взял крышку, и тут же что-то подняло меня вверх и бросило на землю, лишив слуха и забросав снегом. Очнувшись, я увидел двоящегося Полуекта, который обхватил меня как полено и беззвучно что-то втолковывал. Его лицо кружилось, будто мы ехали с ним на карусели. Земля подскочила и вздыбилась еще раз, и теперь я услышал тугой удар и отдаленный звук взрыва. И еще раз, и еще, уже в стороне. Удары слились в один огненный молот, который освещал оранжевым темноту, маячившую передо мной, и этот молот бил, бил по голове, заставляя скрючиваться зародышем в неглубокой ложбине, как в утробе матери. Подползший Костя помог брату поднять меня, стащить валенки, засунуть ступни в ботинки и завязать шнурки. Шатаясь и падая, когда бухало рядом, мы отходили всё дальше от берега. За каким-то чертом они палили по нам, может, по кривой наводке или по докладу разведчика, принявшего фигуры в маскхалатах за роту, пробравшуюся в тыл. А может, по какой-то неведомой логике немцы накрывали квадрат за квадратом, и очередь дошла до нашей позиции. Казалось, что мы уже удалились от проклятого места, когда воздух разорвался совсем близко и к грому примешался страшный треск. Меня отбросило в сугроб, и я увидел кристаллы снега прямо у себя в глазах: прозрачные квадратики переливались и образовывали крупные зерна. Я поймал себя на том, что оставшимся, глядящим из дальнего угла кусочком сознания, напоминавшего темную комнату, я молюсь, чтобы не было еще одного снаряда. Сколько пришлось так пролежать, я не запомнил. Взрывы еще гремели, но уже в стороне, и земля не взметывалась вверх, а лишь толкала меня в живот. В себя я пришел от странного чувства, что в штанах очень горячо. Ощупав белье, я понял, что кал и моча покинули меня. Метрах в пятнадцати стояла расщепленная сосна, ее верхушка рухнула между мной и близнецами и кроной накрыла Полуекта. Из-под веток торчала его палка. Оглохнув и подволакивая ногу в лыже, вторая отлетела, я приковылял к нему. Откуда-то возник Костя и стал вытаскивать брата из-под ветвей. Тот наконец пришел в сознание, схватился за голову, которую ударил довольно толстый сук, и запричитал: его щека была рассечена и кровоточила.
Чувство карты впервые в жизни оставило меня, и я не знал, где мы. Ориентироваться сил не было, а едва я вгляделся в план, как лес затанцевал с проселками, кружками кустарника и дефисами болота, и от этого зрелища голова закружилась так, что меня чуть не вывернуло. Я попросил близнецов дождаться паузы в канонаде и расслышать, где дорога. Посидев с минуту и отдышавшись, они поймали промежуток между залпами и услышали рык, напоминающий танковый. Один из ящиков треснул, но сами инструменты оказались целы. Вскинув поклажу на спины, пошатываясь и хватаясь за стволы, мы направились к дороге и изредка останавливались, чтобы понять, в верную ли сторону движемся. Вскоре гул исчез, скороговорка автоматов отдалилась и раздавалась все реже. Серые облака были словно обшиты багровой каймой. Опускались сумерки, мы шли наугад.
Дорога появилась в низине, будто и не было никакой насыпи, и колеи ее змеились сквозь болота. Она оказалась пуста, по обочинам тянулись заросшие канавы. Стрельба отдалилась и стихла. Подморозило, стволы деревьев еще отчетливо различались, и мерцал синий наст. Лыжи катились легче, хотя приходилось преодолевать следы танков, похожие на траншеи, и за первым же поворотом мы встретили его. Верхней своею частью скрючившись, а нижней выломав ноги, как убитый комар, лежал человек. Уставшее его лицо было того же зеленого оттенка, что и шинель, а под головой застыла черная лужа. Все еще оглохший и с гудящим в голове набатом, я медленно догадался, что это немец. Я часто воображал, как это случится, что увижу немца, он будет пленный летчик люфтваффе или пехотинец вермахта, или, может, начнется бой и навстречу по лесу, мелькая среди стволов, понесется волна квадратных подбородков, прозрачных глаз, хищных касок, – а теперь я склонился над ним, уставившись на славянское, неотличимое и по смерти своей даже принявшее выражение, одинаковое со многими моими однополчанами, лицо. Близнецы не решались подойти и обшарить карманы трупа. Меня передернуло, потому что на мгновение показалось, что в колее лежит мое тело, и я резко отвернулся, потому что среди всполохов и набата в мозгу мелькнул кусочек ярцевского лета, когда баба Фося, сидя у ветлы на берегу Вопи, говорила: не смотри на мертвых, а то, если разглядишь лицо, мертвый вселится. Она шила и дарила нам куклы без лица – не знаю, как на это смотрели строгие святые с ее икон. Я не хотел, чтобы немец вселился в меня, но не был уверен, что получилось избежать этого.
Чуть дальше по дороге темными грудами одежды лежали другие, несколько. Кто-то полз к краю и оставил смазанный след, кто-то лежал покойно на спине, сложив руки, будто хотел, чтобы его прямо так, бережно подняв, опустили в гроб и похоронили. Вскоре встретился и наш рядовой, завалившийся на бок и подтянувший ноги, словно заснул на нарах в теплушке. Костя подхватил валявшуюся рядом винтовку, а я, с трудом ворочая мыслями, ставшими вдруг валунами, думал о том, сколько непогребенных останется, сколько их пропадет и останется лежать вот так, спихнутыми в канаву обозниками, какой же это, получается, хор отлетевших и повисших в непоминовении душ будет маячить над этими озерами, речками, сосновыми гривами, подо всей древесно-лиственной шерстью земли. Еще один поворот, и при последнем закатном свете мы увидели танк. Резко пахло гарью и еще чем-то химическим. Из-под гусениц танка вытекало топливо, а сам он был покрыт сажей, как чугунок; над люком вился дым. Рядом валялись невысокие кучи жженых тряпок, и когда мы подъехали ближе, оказалось, что это превратившиеся в обугленные туши танкисты. Чуть дальше накренился и потерял гусеницу еще один сгоревший танк. Его экипаж, похоже, сбежал – посреди дороги лежало лишь одно тело. Кажется, мы забрели в царство мертвых, потеряли выход и спускались все глубже.
Я знал, что так поступать нельзя, но, будто бы схватив себя за затылок и ткнув в нужную сторону, заставил себя всмотреться во вдавленное, расплющенное тело в грязном маскхалате, у которого торчала, выломившись, рука, словно салютуя небу. Верхняя часть лица отсутствовала, вместо него я разглядел что-то влажное, а от нижней остался кусок челюсти с длинным, извивающимся, покоящимся едва ли не на животе языком. Меня все-таки вывернуло и долго рвало вперемежку с кашлем так, что я едва не задохнулся. Близнецы отвернулись. Я сполз в канаву и, стараясь отдышаться, ждал, когда кончится последняя судорога. Затем поднялся сначала на колени, потом, опираясь на палки, на ноги и почувствовал, что слух вернулся, а набат переместился в затылок и глухо долбил там, как часы с боем в дальней комнате.
Со стороны передовой раздалось стрекотание то ли мотоциклетов, то ли танкеток. Царапаясь и получая пощечины от веток, мы побежали напролом, спотыкаясь и теряя палки, через ельник и спустя сто метров упали лицом в снег. Замерли и прислушались: по дороге катили более мелкие машины. Я достал карту и вернулся в нее. До землянок оставалось несколько километров, если пойти по тропам или подсечь свою утреннюю лыжню, но кто знает, чьи нам могут встретиться посты и вообще на чьей мы теперь территории. Я решил, что лучше медленно продираться в темноте по азимуту, чем рисковать. На одной из полян из ольшаника с криком выпрыгнуло животное с палкой. Пока я застыл по пояс в снегу, Костя стащил винтовку и наставил на него. Животное опустило палку и выматерилось. Это был рядовой из роты, которую подняли вместе со всем батальоном по тревоге и бросили удерживать дорогу. Левая его рука безвольно висела, так как в предплечье попала пуля. Мы перевязали его, как умели. Ротный успел сообщить им диспозицию: немцы атаковали дивизию от Поддорья до Холма по всей удерживаемой ею линии фронта, чтобы отвлечь обороняющихся от попытки танкового прорыва со стороны Локни к блокированному Холму. Но второй задачей черных было, очевидно, не просто запугать противника, а сдвинуть линию фронта ближе к Ловати и отрезать от насыпной дороги нас и соседние полки. Когда мы добрались до землянок, счастливо не встретив никаких засад, выяснилось, что у немцев все получилось и у дивизии осталось лишь пятнадцать километров дороги до Холма, а всю ее северную часть до самой Старой Руссы захватил соперник. По лесу бродили резервисты, которых не успели бросить в бой. В свете вышедшей луны их тени походили на сутулых испуганных ангелов, они выкликивали раненых.
Утром нас засыпал снег. Ветер бросал крупу в лицо полными горстями. Всех подняли затемно, чтобы мертвых не успело занести. Ныло все тело, от затылка до стертых ног. Убитых искали, бродя цепью по лесу, снимали сапоги и шинели, примеряли их, отойдя в сторону. Многие искали взглядом немцев – из их штыков получались удобные ножи, а в карманах лежали фонари, папиросы, зажигалки и другая мелочь, которую многие выгребали и разбирали уже в землянках. У своих же забирали документы, клали тела в плащ-палатки и несли к ожидающим мертвых подводам на проселке, вихляющем мимо бисера озер к Поддорью. Тыловики готовили могилу – долбили землю, чтобы сберечь взрывчатку, ее оставалось немного, и складывали грунты в курганы. В те же плащи заворачивали винтовки, несли к костру и сваливали на разложенный там брезент. Мне опять казалось, что пыхтящие интенданты несут к могиле не безымянное тело, а меня, мое лицо, мои руки. Так продолжалось несколько дней, пока мы с близнецами лежали по землянкам, выбираясь лишь, чтобы раздобыть дрова. Новую обходную дорогу для обозов еще не пробили, поэтому мы сосали хлебные корки и меняли припрятанные немецкие консервы на немецкие же, вытащенные у трупов сигареты. Костя все время лежал, отвернувшись к стене, а Полуект бесконечно топил снег и жевал – сначала ледяную кашу, а потом шнурки и ремень.
Я провалился в забытье и пребывал там, пока не пришел Велижев с приказом явиться в штаб. С трудом разгибая ноги, я встал, с ненавистью влез в валенки и поплелся. Около блиндажа курили Круглов, его заместители и разведчик. Я догадался, что предстоит снимать – линия фронта изогнулась, а где-то, может, разорвалась, и надо добыть изменения обстановки на тех участках, которые наш батальон захватил во время контратаки. Но Круглов сообщил иное. «Соловьев, – сказал он без намеков, что помнит наш разговор, – вы единственный топограф на ближайшие полсотни километров. Был еще один, да его убило. Необходимо поработать для нескольких полков. Сначала, конечно, снимите захваченные нами позиции противника. Вас с помощниками будут сопровождать бойцы разведроты. Отчитаетесь опять мне, а потом – на новые участки». Видно было, что он разочарован, но ничего поделать не может. Я пробормотал что-то вроде «разрешите сначала закончить работу, которую начал на текущем месте», но полковник оборвал меня: «Нет, это срочно. Повоюем со старыми картами – разведка их, как может, скорректирует».
Около полудня мы вышли. Плечо и ногу ломило, близнецов бил кашель, все мы с трудом переставляли стертые ноги. Костя во сне так сжал челюсти, что у него откололась часть зуба и впилась в небо. Провожавшие нас разведчики хмурились и честили какого-то Нечипорука, которого просили снять с убитых немцев фонари, а он принес только один, да и тот сигнальный, для регулировщика, где, крутя ручку, можно менять красное стекло на белое и зеленое, что разведке с этой фары? Их голоса жужжали где-то вдали, а передо мной плыло и покачивалось при каждом шаге лицо того немца с дороги. Ближе к позициям мышцы разогрелись, я машинально настраивал мензулу, снимал небольшое поле среди леса – не дор, а, похоже, старые вырубки, – чертил на плане затупившимся карандашом, который в спешке забыл поточить. Разведчики следили за опушкой. Мимо прошел отряд из их роты, они тоже не теряли времени и, пока была передышка, обследовали окрестности новой передовой. Спустя четверть часа, кажется, именно этот отряд напоролся на пехоту. Началась пальба, сначала перестрелка, затем проснулся миномет, и вскоре это напоминало бой, который мы слышали на заросшем озере. На меня напал ужас, похожий на тот, что пригвоздил к креслу во время шутейного суда. Выстрелы отдавали в виски нестерпимой болью, и уже не соблюдая никакой субординации, я крикнул близнецов. Они всё поняли и заспешили укладывать рейки и штатив. Бой развивался стремительно, разведрота объединилась, заняла оборону и вызвала огонь, немцы ответили. Слева и справа загрохотали взрывы, начался стрекот пулеметов, и в конце концов их основные силы пехоты решились на атаку. Возможно, они пользовались случаем и хотели вернуть потерянные позиции, а может, решили, что их собираются отшвырнуть еще дальше, и контратаковали, но так или иначе, помчавшись по лыжне обратно, мы оказались в положении мишеней на стрельбище. По обеим сторонам из перелесков уже гремели и приближались выстрелы. Мы катили как безумные и быстро выдохлись, и потому, отчаявшись обогнать бой, нашли овражек и упали туда. Сняли ящики, мешки, лыжи, отдышались. А когда захотели выбраться, вблизи начала рваться земля, вскидывая снежные фонтаны и толкая в грудь воздушной волной. «Минометы», – провыл Костя. Недалеко от края овражка рвануло и сбило всех с ног белым потоком, и тогда мы, не сговариваясь, за несколько секунд забросали снегом ящики и выкарабкались, к сожалению, в разные стороны.
Через сто метров я попал примерно на линию огня, но все-таки чуть ближе к своим. Выражение «свист пули» воплотилось наяву, только пули не свистели, а взвизгивали. Мне замахали рукой, и я пополз между редкими деревьями в сторону машущего. Тут же его накрыли миной. Я вновь оглох, но все-таки уловил крики на родном языке – от тех, уходивших с позиции. Поспешив доковылять до края леса, я свалился в густой ельник, где скрывался тот, кто меня звал. А потом я увидел его прямо рядом с собой.
Части лица этого человека двигались отдельно друг от друга, бровь и щека дергались вниз, рот прыгал, словно умирающий причитал, левый глаз выпал и покачивался на скользкой мышце, а правый уставился на меня как дуло. Он поднял уцелевшую руку и занес надо лбом, чуть выше виска, и еще раз, и еще, пока я не понял и не вытащил без раздумий наган и не приставил к его затылку. Что-то меня заставило вдруг отдернуть руку, и наган чуть не вылетел из замерзшей кисти. Мне стало до слез жаль его: а вдруг он сможет жить, пусть и одноглазый, вдруг живот зашьют, – и я не хотел быть убийцей. Рядом застучала очередь, и я упал рядом с раненым, уже не думая об убийстве, а бешено перебирая варианты, что делать, если сейчас подойдут, прикидываться трупом, и если пронесет, то как выбираться и куда. Опять застучал автомат, правда, в стороне. Бой уходил дальше от перелеска, но я еще долго лежал, боясь вздохнуть. Наконец я взглянул на раненого. Он не дышал.
Я встал и, шатаясь, сделал несколько шагов, не сразу заметив не привыкшими к ночи глазами несколько тел, и своих, и чужих. Над ветвями висели холодные яркие звезды. Вернувшись к телу, я сел рядом на корточки и рассмотрел размозженную голову, застывшую кровь, переплетения вывалившейся утробы, черные грубые руки, похожие на корни пальцы. Внутри меня все замерло, заморозилось, и я ощутил легкость и поднялся, зашагал, проваливаясь и не обращая внимания на хаос, по подсеченной неподалеку лыжне домой. Я думал, что меня пристрелят очень быстро, но, видимо, согбенное существо, бредущее, спотыкаясь, и не смотрящее по сторонам, оставляло впечатление безнадежно раненного – иначе я не могу объяснить, почему остался жив. Мимо меня даже проносились, пригнувшись и меняя позиции, пулеметчик с расчетом и, кажется, кто-то со снайперской винтовкой, свой ли, немец, я смотрел перед собой и не реагировал на тукающие выстрелы. Однако я ошибался, думая, что выпотрошил все чувства и теперь смогу вынести что угодно.
На одной из полян, когда огонь со всех сторон прекратился, я понял, что набрел на проселок, хотя и засыпанный снегом, оказавшимся по бедра. Свернув на него, я заковылял; вскоре за спиной раздались храп, топот, барахтанье, и на краю поляны возник тыловой воз на полозьях, на который залезло несколько легкораненых. «Живой? – крикнул возница. – Полезай скорее». Я взгромоздился, неловко задев раненного в руку. В ответ он двинул меня здоровым локтем. Над головой понеслись сахарные ветви. Ехавшие сидели, плотно прижавшись друг к другу, оружия не было почти ни у кого. Рядом со мной покачивался тот немец, став как бы моим проводником: ты думаешь, что умер я, а на самом деле вопрос, кто из нас на каком свете, и этот снег, хвоя и шершавые веточки, втоптанные в него, колосья сухих трав, торчащие из наста, да и сам лес – не пограничье ли это между миром живых и мертвых, но ты иди, иди, я буду с тобой, я тебя не брошу.
Выскочив на широкий дор, а затем еще на одну поляну, возница сначала притормозил, а потом резко дал вперед. Я свесился, насколько мог, и увидел впереди барахтавшиеся по пояс в снегу фигуры в хищных касках. Тут же прогремели выстрелы, я спрятался и выглянул опять – фигуры бросили оружие и пытались уйти с нашей траектории, спотыкались, вязли, а возница гнал, все ближе, ближе, и послышался крик, сначала просто страшный, а потом короткий, такой, что не забывается. Лошади подмяли человека, и я увидел на мгновение между постромками искаженное лицо уже задавленного, но еще живого – а потом он скользнул под полозья со сводящим с ума звуком разрезаемой плоти. Я откинулся, как будто железо разрезало меня, и завизжал. Второй беглец все понял и попытался отпрыгнуть, но снег той зимой был глубок, и все повторилось: глухие удары лошадиных копыт и неизрекаемый в своем ужасе звук, от которого хотелось выкричать все внутренности.
Никто не обернулся, и поезд мчался дальше. Добравшись до землянки, я свернулся, как собака, у остывшей печки и заснул, не скидывая шинели. Бои продолжались несколько дней. Близнецы, проплутав всю ночь, явились обратно под утро, и мы даже обнялись как друзья. Они рвались искать и откапывать брошенные инструменты, но я запретил. Нас словно забыли, потому что властвовала неразбериха. Я лежал, отчаявшись если не стереть, то попробовать закрыть хоть чем-нибудь дыру в голове, зиявшую и кровоточившую после увиденного.
Шатры лазарета переполнились, и резервисты клали раненых в блиндажи. Проселок до Поддорья теперь простреливался, эвакуация раненых была затруднена. Везде, где оперировали, ампутировали и перевязывали, стояла вонь. Позиции удавалось держать, но ценой новых и новых тел, которые ползли как по конвейеру. Очнувшись и встав, я чувствовал себя так, будто меня окунули в яму с дерьмом и держали там, пока я не начал задыхаться. Потом я смог заставить себя выйти на свет и там обнаружил, что мир задеревенел. Я ходил и выполнял действия как сломанный, заторможенный механизм. Когда с передовой приехал целый караван подвод, нас позвали их разгружать, и теперь вереница увечных с культями на месте оторванных ног, умирающих и верещащих «убей» и «укол», проплывала перед нами как нескончаемый поезд. Нам с Полуектом достался обморочный, бледный лет пятидесяти, которого мы положили на указанное медбратом место. Полуект осмотрелся и задержал взгляд на углу шатра. Я пробрался к выходу через тазы с бордовыми тампонами и бинтами, раздвинул ветви елочной маскировки и увидел переплетенные, смерзшиеся руки и ноги, сползшие рты, гримасы убитых, сложенных как суковатые бревна в поленницу. Розовощекий, младше меня лейтенант улыбался, глядя на заиндевевший окровавленный нос соседа. Я рассматривал его с такой же любовью, а потом поленница расползлась, шатер, деревья, небо, все окунулось в лунную ночь и поперек лица мелькнул возница, свистнули полозья, и я услышал тот режущий звук и скорчился, обхватив голову руками. Полуект выбежал и схватил меня за рукав, но поднять не смог, пока видение не исчезло.
С передовой доносился гром, лагерь готовили к эвакуации. Хаос продолжался несколько дней, и в этой круговерти мы продолжали жевать корки и уже не обращали внимания на тупой голод, высасывающий внутренности, и на полчища вшей. Единственным, что нас волновало и чего мы искали, было тепло. Мы часами шатались туда-сюда в поисках дров – интенданты не давали пилы, а сами обеспечивать весь полк не успевали. И едва мы уверились, что это не кончится никогда, как кончилось все.
Немцы встали и, судя по тому, что доносила разведка, начали окапываться, рассчитывая на долгую паузу. Или, может быть, изображая ее. Так или иначе это означало передышку. Еще несколько дней мы просыпались, ожидая звуков боя, но их все не было и не было. Инструменты нашлись там, где мы их оставили. По лагерю бродили тени штабных, остальные лежали в своих подземных жилищах, отсыпались, составляли списки выбывших и раненых, писали письма вдовам и переформировывали роты. Круглов ждал подкрепления, оружия и еды, но поскольку еще больше дороги оказалось за линией черных, то обозы пришлось бросить среди леса и перетаскивать, что можно, ночами силами лыжников. Спустя неделю они вытоптали такую тропу, что по ней два человека, впрягшись, могли тащить минометы и сопровождать лошадей, вязнувших в снегу. Из-за неразберихи топографическую бригаду решили держать при полку, и на одной из таких подвод нас отправили с ротой снимать урочище под названием Рог, очертаниями действительно напоминавшее толстый рог с завитком – рядом с тем Рдейским болотом, которое упоминал разведчик.
Завернувшись в непросохший ватник, я колыхался на подводе, которую перла пара лошадей сквозь ледяную кашу. Интенданты запрягли с битюгом орловскую, крепкую, не похожую на тонконогих выгибающих шеи с отцовских фотокарточек, но все равно беспомощную на переходах по брюхо в шуге. Спустя километр непролазной тропы пришлось слезть и вытаскивать, отчего одежда вымокла окончательно. Рота ушла вперед, изредка присылая кого-то на подмогу. У них убило полсостава, включая политрука, а командир лежал в лазарете с осколком под левым ребром и старался не шевелиться, чтобы свинец не коснулся сердца. Командовать поручили старшине по фамилии Еремин, лет сорока от роду, но безусому как подросток. Присланная им смена велела нам оставить инструмент, и добираться вперед подводы, и греться у костра. Мы отряхнулись, выжали рукавицы и поковыляли.
К вечеру мы добрались до позиций. За соснами белело пятно болота, огромное, берега даже не угадывалось. Пришедшие задолго до нас развели костер и, замерзнув, сидели вокруг так плотно, что пахло паленым, у некоторых на спинах маскхалатов зияли прожженные дыры. Согревшиеся обустраивали ночлег и ставили палатку для кухни. Через час добралась и наша подвода, застряв метрах в тридцати от костра. Орловскую выпрягли. Она упала и лежала, дергаясь и вперившись влажным, похожим на человечий глазом в замкомандира Резуна, бессмысленно оравшего на нее. Еремин и некоторые неохотно встали и пошли к подводе. Они что-то забухтели, и вскоре бухтение переросло в спор. Рота разделилась: одни жаловались, что не видели мяса третью неделю, а другие стояли за то, что лошадь «кормилица, на чем обратно поволочемся». Громче других высказывался Еремин, настаивая, что лошадь издохнет и никто ее не хватится, поэтому надо, пока еще свет, пристрелить, разделать и поужинать ею. Уходить от костра не хотелось, и я прикрыл глаза, вполуха слушая спорщиков. «А если весна? На чем минометы поволокем?» – «Да какая весна, фронт весной вообще встанет с такой-то распутицей. Бросили нас к херам! Живи тут как хочешь!» – «Верно говорит, вспомнят про нас теперь к лету, а немец не полезет сюда. Зачем ему этот гнилой угол». – «Как по радио передают, забыл? Бои местного значения! Сдохнешь тут, и не найдут среди болот». – «Как политрука убили, так смелый стал, заговорил!» – «Она просто уставшая». – «Какая уставшая, у нее пена идет!» – «Может, она больная». – «Один хуй помрем».
Слова рассыпались на междометия, и взвод едва не передрался, но все-таки Еремин был командиром, и покорившись ему, они стали обсуждать, как пристрелить за раз, чтобы не тратить лишние патроны. Наконец кто-то сходил к костру за винтовкой и вернулся. Еремин взял винтовку и подошел к лошади. Сначала ему пришлось отпрыгнуть, потому что она попыталась встать, провалилась сквозь наст, попробовала еще раз и тонко заржала. Затем положила голову на снег и стала смотреть на меня так, будто знала обо мне всё. Еремин подкрался к лошади, долго целился, выстрелил в черный глаз и промахнулся, угодив пулей в височную кость. Лошадь вскинулась и упала набок, забившись, все пытаясь подняться на передние ноги. Еремин прицелился и выстрелил еще, но орловская захрипела и метнулась, и пуля попала в лоб. Стрелок подобрался ближе, посмотрел на жертву, распаляясь руганью, и вновь поднял винтовку. Опять не попал в глаз, и начал стрелять вновь и вновь, уже не целясь, и орал.
Показалось, что у него сдали нервы, но, присмотревшись, я увидел, что безусое его лицо перекосилось не от отвращения и ярости, а еще от чего-то. Лошадь агонизировала. «Хорош!» – крикнул Резун между выстрелами. Еремин обернулся, и я увидел, что ткань его брюк около бедер взбугрилась и была натянута. «Вот мудак, – неловко сказал кто-то, – даже пристрелить не может». Остальные отвернулись. «Скотоебина», – сплюнул Костя. Агония продолжалась несколько минут, после чего к туше приблизились, осторожно взяли за копыта и гриву и потащили к кухне разделывать штыками. Когда лошадь варили, мясо источало почти такой же запах, как плоть в санчасти. Все сидели с лицами мучеников. Еремин куда-то делся, а потом пришел к кухне. По мискам разложили куски мяса, схожего с резиной, и оно оказалось терпким, с привкусом сладкой полевой травы. Правда, оно было еще и жестким, и все, кто неделями недоедал, набросились на него и глотали, не разжевав, а потом свирепо мучились животом, матерились и испражнялись под березами, сплевывая набегавшую под язык водянистую слюну.
– Нет.
– Тогда и вы не поймете. Коммунизм неизбежен. Народы придут к тому, что единственное справедливое устройство общества – это общество равных. Русского человека мы уже двадцать лет переделываем, а европейские страны погрязли в неравенстве. Империалисты-колонизаторы примут истину, лишь когда увидят нашу мощь.
– Я вижу немного другое, – сказал я, подбирая слова, так как не был уверен, что он не вытащит пистолет. – Какое равенство мы можем им предъявить как образец – равенство в бедности и давлении на бесправного? Никакого другого равенства нет – я видел, как живут следователи, я знаю о привилегиях начальства партии…
– Вы правы, гнили много, – перебил Круглов, – и не вся она вычищена. Вы мне нравитесь, редко встретишь прямо мыслящего человека, таких коммунистов не хватает. Когда все это кончится, я дам вам характеристику, хоть вы и позеленели от агитснаряда. Мы на пути, Соловьев. На долгом, длинном пути, но конец его предрешен. По-другому быть не может. Это аксиома, и я верю в нее, я старый коммунист. Русские долго шли к этой идее, она пустила корни в нашем сознании. Не может быть никакой собственности, все даровано богом, даже помещик и фабрикант не владеют ничем, а так, взяли попользоваться, и горе им, если подумают, что это их. Только у нас вместо бога – рабочий народ, вот и все.
– Подождите, а хозяин – что, не рабочий человек? Я знаю, вам это не понравится, но когда Столыпин выпихнул крестьян в самостоятельную хозяйскую жизнь, многие сразу поняли, что их дело – собственное. И за свое они горой были готовы стоять и работали по-другому.
– А вот это индивидуализм, – засмеялся Круглов. – Нет никакого «своего». Еще Ленин говорил, что ваш Столыпин опоздал лет на сто, а то и двести. Голыми придем в мир, голыми уйдем – не должен новый человек к старому порядку привязываться, как и к земле, скарбу, дому. Все общее, в любую минуту готов хоть один, хоть с семьей пойти, куда воля народная пошлет. Европейцы пока этому сопротивляются, ушли с пути к коммунизму, натерпелись от Гитлера и теперь смотрят, как мы с ним воюем. Для них это как две змеи сцепились, одна другую кусает и ядом травит, а другая ее душит, – но когда война кончится, они не отвертятся от нашей правоты.
– Вы рассуждаете как религиозник, – произнес я, растирая глуховатое ухо. – Только у вас вместо пришествия Христа – всемирный коммунизм, который наступит обязательно и ничто его не отменит.
– Вы, Соловьев, хоть и прямой человек, но в душе не коммунист. Поэтому и видите только то, что у вас под ногами, а вдаль взглянуть не можете. Один лист своей карты можете рассмотреть, а весь глобус – нет. А я не слепой и вижу все: и что воруют прямо здесь, на фронте, у товарищей, и что своей выгоды ищут, и что многим все равно, социализм ли или еще что-нибудь, сдери с них форму, надень царскую или французскую – те же люди будут. Вижу, каких политруков присылают – безграмотных. Я, кадровый военный, старый коммунист, не могу их слушать. Под агитацией у них ничего нет. Чего удивляться, что у солдат три темы для разговора: смерть – как у них там что оторвет, – бабы и пожрать. Офицерский состав плохо обучен и руководить не умеет, может только орать «В атаку!». И это еще фронт стоит. А если наступление, если перестроиться, если сложный маневр? Многие побегут – одни в лес, другие в плен. Чего вы ежитесь, я то же самое говорю им в лицо. Когда пятый месяц лежишь рожей в грязь, не боишься прямоты. Это генералов тасуют – на одну армию, на другую – а полковник, да еще в гнилом отдаленном углу… Где начал воевать, там и кончил. Я вам скажу, почему вера моя крепка: потому что у истории железная логика. Рабовладельцев сменили поработители, царей – парламенты. Следующая ступенечка – всеобщее равенство, свободное от мерзавцев, плюс партия, проводник истинных интересов нового человека.
Стало понятно, что Круглова прошибить невозможно, но при этом ужасно не хотелось уходить из натопленного блиндажа от самовара и сушек. То ли от жары, то ли от первого за долгие месяцы умного разговора я пустился в откровения.
– Вы, кажется, не сознаете проблемы с этим новым человеком. Он не знает, что такое сострадание, сопереживание, внимание к ближнему своему, стремление понять хотя бы своего соседа и облегчить ему жизнь хоть чем-то. Нет у партии цели так гражданина воспитать. Сочувствия страшно не хватает, а вовсе не мировой гегемонии. После того как брат с братом воевал, а граждане с правами у бесправных зерно отнимали – после этого залечить раны надо, они сами собой не затянутся. А у вас кругом враги: вычистили одних, подавай следующих – строить, сеять, жать и сражаться за коммунистов всей Земли. Это утопия. С такими же, кстати, утопистами воюем, только у них вместо пролетариата – арийская раса.
Круглов смотрел на меня сквозь папиросный дым. Он явно жалел, что затеял этот разговор. Я живо представил себя и его в кабинете, где подозреваемым загоняют булавки под ногти. Однако комполка решил, что я все-таки откровенный идиот, а не провокатор.
Тем более с рекогносцировкой в полку была беда, и ему проще было изобразить, что он воспитывает меня, чем арестовывать и ждать нового топографа.
– Потом, Соловьев, – вздохнул он, – потом сострадание и умиротворение. Опять хотите всего сразу. Пока мы окружены, надо беспощадно выявлять предателей. Помните, как казалось, что пора умиротвориться? Даже товарищ Сталин поверил и выступил, что жить стало веселее и надо вожжи приотпустить. И что мы получили? Наросла контрреволюция! Изолировать тех, кто по жизни при царе тоскует, – необходимость. Как и случайных, разочаровавшихся коммунистов – такие разлагают партию. Без очищения не создашь нового человека. Когда нет гнета своих желаний и воля следует за партийными нуждами – только тогда можно достичь настоящей свободы. Всегда будут отщепенцы и патологические эгоисты, но в целом, лейтенант, от прогресса не сбежишь. Потому и умирать не страшно, и драться до конца будем. За будущее человеков воюем…
Вскоре с обозом приехали запрошенные мной мензула, штатив, рейки, планшет, краски, кисти, тушь, кривоножка и даже блокноты для абрисов. Где-то с неделю мы снимали участки недалеко от ближайшей деревни, Белебелки. Лошади вязли в снегу. Близнецы сплели лямки, похожие на сбруи, и скользили на лыжах, закинув на спины деревянные ящики, где покоились в ложементах приборы. От них, в общем, и не требовалось большего – разве что стоять, сменяя друг друга, если замерзли, и держать рейку, пока я двигался от пикета к пикету и правил план прямо на столике. После возвращения я брел в блиндаж к разведчикам, дорабатывал карандашный набросок красками и отдавал им готовую карту. Оставался лишь один участок.
Потеплело, снег стал утаптываться ударом подошвы, и запахло хвоей. Лыжная мазь давно кончилась, поэтому мы вышли затемно и покатились медленно, с руганью. Болото, схожее очертаниями с запятой, мы разыскали быстро – оно не слишком отличалось от того, что картограф нарисовал тридцать лет назад. Расставив братьев с рейками, я настраивал мензулу, вдыхал воздух марта и крутил регулировочный винт, когда сразу с нескольких сторон ударил и разошелся оглушающими раскатами гром. Спустя секунды тишины где-то близко, за перелеском, взорвались снаряды и встала на дыбы земля. Костя и Полуект бежали ко мне, проваливаясь и падая.
Не слыша их криков, я нагнулся к ящикам и зачем-то стал протирать не успевшие вымокнуть инструменты.
На минуту рухнуло затишье, а потом орудия начали палить вразнобой, раздались выстрелы винтовок и тарахтенье автоматов. Молчаливых близнецов прорвало и они матерились, как будто их рвало словами. Не представляя, что теперь делать, и трясясь, я сам наорал на них. Судя по карте, если бы мы хотели вернуться к своим, нам пришлось бы прорываться через бой. С дороги до Белебелки донесся тяжелый гул. «Танки их эти блядские! – кричал Костя. – Наши не так рычат!» В голове металась тысяча мыслей, поймать хотя бы некоторые и связать в цепь было невозможно. Наконец я решил прятаться до темноты в той части запятой, откуда просматривалась большая часть болота и уреза воды. Костя и Полуект вскинули ящики на спины, и под грохот и рычание я перешел вслед за оруженосцами на другой берег, обмирая от ужаса и ежесекундно ожидая, что какой-нибудь снаряд отклонится от траектории и прилетит в нас. Близнецы любили болтать о том, как кого убивает, и накануне обсуждали сержанта, разорванного взрывом на две части, между которыми ползла по снегу и не обрывалась длинная кишка. Тогда меня едва не вырвало гороховым концентратом, а сейчас в висках стучало одно: только бы не разорвало.
Привалившись к сосне, Костя допил чай из крышки термоса, налил еще и протянул мне. До заката оставалось два часа. Я взял крышку, и тут же что-то подняло меня вверх и бросило на землю, лишив слуха и забросав снегом. Очнувшись, я увидел двоящегося Полуекта, который обхватил меня как полено и беззвучно что-то втолковывал. Его лицо кружилось, будто мы ехали с ним на карусели. Земля подскочила и вздыбилась еще раз, и теперь я услышал тугой удар и отдаленный звук взрыва. И еще раз, и еще, уже в стороне. Удары слились в один огненный молот, который освещал оранжевым темноту, маячившую передо мной, и этот молот бил, бил по голове, заставляя скрючиваться зародышем в неглубокой ложбине, как в утробе матери. Подползший Костя помог брату поднять меня, стащить валенки, засунуть ступни в ботинки и завязать шнурки. Шатаясь и падая, когда бухало рядом, мы отходили всё дальше от берега. За каким-то чертом они палили по нам, может, по кривой наводке или по докладу разведчика, принявшего фигуры в маскхалатах за роту, пробравшуюся в тыл. А может, по какой-то неведомой логике немцы накрывали квадрат за квадратом, и очередь дошла до нашей позиции. Казалось, что мы уже удалились от проклятого места, когда воздух разорвался совсем близко и к грому примешался страшный треск. Меня отбросило в сугроб, и я увидел кристаллы снега прямо у себя в глазах: прозрачные квадратики переливались и образовывали крупные зерна. Я поймал себя на том, что оставшимся, глядящим из дальнего угла кусочком сознания, напоминавшего темную комнату, я молюсь, чтобы не было еще одного снаряда. Сколько пришлось так пролежать, я не запомнил. Взрывы еще гремели, но уже в стороне, и земля не взметывалась вверх, а лишь толкала меня в живот. В себя я пришел от странного чувства, что в штанах очень горячо. Ощупав белье, я понял, что кал и моча покинули меня. Метрах в пятнадцати стояла расщепленная сосна, ее верхушка рухнула между мной и близнецами и кроной накрыла Полуекта. Из-под веток торчала его палка. Оглохнув и подволакивая ногу в лыже, вторая отлетела, я приковылял к нему. Откуда-то возник Костя и стал вытаскивать брата из-под ветвей. Тот наконец пришел в сознание, схватился за голову, которую ударил довольно толстый сук, и запричитал: его щека была рассечена и кровоточила.
Чувство карты впервые в жизни оставило меня, и я не знал, где мы. Ориентироваться сил не было, а едва я вгляделся в план, как лес затанцевал с проселками, кружками кустарника и дефисами болота, и от этого зрелища голова закружилась так, что меня чуть не вывернуло. Я попросил близнецов дождаться паузы в канонаде и расслышать, где дорога. Посидев с минуту и отдышавшись, они поймали промежуток между залпами и услышали рык, напоминающий танковый. Один из ящиков треснул, но сами инструменты оказались целы. Вскинув поклажу на спины, пошатываясь и хватаясь за стволы, мы направились к дороге и изредка останавливались, чтобы понять, в верную ли сторону движемся. Вскоре гул исчез, скороговорка автоматов отдалилась и раздавалась все реже. Серые облака были словно обшиты багровой каймой. Опускались сумерки, мы шли наугад.
Дорога появилась в низине, будто и не было никакой насыпи, и колеи ее змеились сквозь болота. Она оказалась пуста, по обочинам тянулись заросшие канавы. Стрельба отдалилась и стихла. Подморозило, стволы деревьев еще отчетливо различались, и мерцал синий наст. Лыжи катились легче, хотя приходилось преодолевать следы танков, похожие на траншеи, и за первым же поворотом мы встретили его. Верхней своею частью скрючившись, а нижней выломав ноги, как убитый комар, лежал человек. Уставшее его лицо было того же зеленого оттенка, что и шинель, а под головой застыла черная лужа. Все еще оглохший и с гудящим в голове набатом, я медленно догадался, что это немец. Я часто воображал, как это случится, что увижу немца, он будет пленный летчик люфтваффе или пехотинец вермахта, или, может, начнется бой и навстречу по лесу, мелькая среди стволов, понесется волна квадратных подбородков, прозрачных глаз, хищных касок, – а теперь я склонился над ним, уставившись на славянское, неотличимое и по смерти своей даже принявшее выражение, одинаковое со многими моими однополчанами, лицо. Близнецы не решались подойти и обшарить карманы трупа. Меня передернуло, потому что на мгновение показалось, что в колее лежит мое тело, и я резко отвернулся, потому что среди всполохов и набата в мозгу мелькнул кусочек ярцевского лета, когда баба Фося, сидя у ветлы на берегу Вопи, говорила: не смотри на мертвых, а то, если разглядишь лицо, мертвый вселится. Она шила и дарила нам куклы без лица – не знаю, как на это смотрели строгие святые с ее икон. Я не хотел, чтобы немец вселился в меня, но не был уверен, что получилось избежать этого.
Чуть дальше по дороге темными грудами одежды лежали другие, несколько. Кто-то полз к краю и оставил смазанный след, кто-то лежал покойно на спине, сложив руки, будто хотел, чтобы его прямо так, бережно подняв, опустили в гроб и похоронили. Вскоре встретился и наш рядовой, завалившийся на бок и подтянувший ноги, словно заснул на нарах в теплушке. Костя подхватил валявшуюся рядом винтовку, а я, с трудом ворочая мыслями, ставшими вдруг валунами, думал о том, сколько непогребенных останется, сколько их пропадет и останется лежать вот так, спихнутыми в канаву обозниками, какой же это, получается, хор отлетевших и повисших в непоминовении душ будет маячить над этими озерами, речками, сосновыми гривами, подо всей древесно-лиственной шерстью земли. Еще один поворот, и при последнем закатном свете мы увидели танк. Резко пахло гарью и еще чем-то химическим. Из-под гусениц танка вытекало топливо, а сам он был покрыт сажей, как чугунок; над люком вился дым. Рядом валялись невысокие кучи жженых тряпок, и когда мы подъехали ближе, оказалось, что это превратившиеся в обугленные туши танкисты. Чуть дальше накренился и потерял гусеницу еще один сгоревший танк. Его экипаж, похоже, сбежал – посреди дороги лежало лишь одно тело. Кажется, мы забрели в царство мертвых, потеряли выход и спускались все глубже.
Я знал, что так поступать нельзя, но, будто бы схватив себя за затылок и ткнув в нужную сторону, заставил себя всмотреться во вдавленное, расплющенное тело в грязном маскхалате, у которого торчала, выломившись, рука, словно салютуя небу. Верхняя часть лица отсутствовала, вместо него я разглядел что-то влажное, а от нижней остался кусок челюсти с длинным, извивающимся, покоящимся едва ли не на животе языком. Меня все-таки вывернуло и долго рвало вперемежку с кашлем так, что я едва не задохнулся. Близнецы отвернулись. Я сполз в канаву и, стараясь отдышаться, ждал, когда кончится последняя судорога. Затем поднялся сначала на колени, потом, опираясь на палки, на ноги и почувствовал, что слух вернулся, а набат переместился в затылок и глухо долбил там, как часы с боем в дальней комнате.
Со стороны передовой раздалось стрекотание то ли мотоциклетов, то ли танкеток. Царапаясь и получая пощечины от веток, мы побежали напролом, спотыкаясь и теряя палки, через ельник и спустя сто метров упали лицом в снег. Замерли и прислушались: по дороге катили более мелкие машины. Я достал карту и вернулся в нее. До землянок оставалось несколько километров, если пойти по тропам или подсечь свою утреннюю лыжню, но кто знает, чьи нам могут встретиться посты и вообще на чьей мы теперь территории. Я решил, что лучше медленно продираться в темноте по азимуту, чем рисковать. На одной из полян из ольшаника с криком выпрыгнуло животное с палкой. Пока я застыл по пояс в снегу, Костя стащил винтовку и наставил на него. Животное опустило палку и выматерилось. Это был рядовой из роты, которую подняли вместе со всем батальоном по тревоге и бросили удерживать дорогу. Левая его рука безвольно висела, так как в предплечье попала пуля. Мы перевязали его, как умели. Ротный успел сообщить им диспозицию: немцы атаковали дивизию от Поддорья до Холма по всей удерживаемой ею линии фронта, чтобы отвлечь обороняющихся от попытки танкового прорыва со стороны Локни к блокированному Холму. Но второй задачей черных было, очевидно, не просто запугать противника, а сдвинуть линию фронта ближе к Ловати и отрезать от насыпной дороги нас и соседние полки. Когда мы добрались до землянок, счастливо не встретив никаких засад, выяснилось, что у немцев все получилось и у дивизии осталось лишь пятнадцать километров дороги до Холма, а всю ее северную часть до самой Старой Руссы захватил соперник. По лесу бродили резервисты, которых не успели бросить в бой. В свете вышедшей луны их тени походили на сутулых испуганных ангелов, они выкликивали раненых.
Утром нас засыпал снег. Ветер бросал крупу в лицо полными горстями. Всех подняли затемно, чтобы мертвых не успело занести. Ныло все тело, от затылка до стертых ног. Убитых искали, бродя цепью по лесу, снимали сапоги и шинели, примеряли их, отойдя в сторону. Многие искали взглядом немцев – из их штыков получались удобные ножи, а в карманах лежали фонари, папиросы, зажигалки и другая мелочь, которую многие выгребали и разбирали уже в землянках. У своих же забирали документы, клали тела в плащ-палатки и несли к ожидающим мертвых подводам на проселке, вихляющем мимо бисера озер к Поддорью. Тыловики готовили могилу – долбили землю, чтобы сберечь взрывчатку, ее оставалось немного, и складывали грунты в курганы. В те же плащи заворачивали винтовки, несли к костру и сваливали на разложенный там брезент. Мне опять казалось, что пыхтящие интенданты несут к могиле не безымянное тело, а меня, мое лицо, мои руки. Так продолжалось несколько дней, пока мы с близнецами лежали по землянкам, выбираясь лишь, чтобы раздобыть дрова. Новую обходную дорогу для обозов еще не пробили, поэтому мы сосали хлебные корки и меняли припрятанные немецкие консервы на немецкие же, вытащенные у трупов сигареты. Костя все время лежал, отвернувшись к стене, а Полуект бесконечно топил снег и жевал – сначала ледяную кашу, а потом шнурки и ремень.
Я провалился в забытье и пребывал там, пока не пришел Велижев с приказом явиться в штаб. С трудом разгибая ноги, я встал, с ненавистью влез в валенки и поплелся. Около блиндажа курили Круглов, его заместители и разведчик. Я догадался, что предстоит снимать – линия фронта изогнулась, а где-то, может, разорвалась, и надо добыть изменения обстановки на тех участках, которые наш батальон захватил во время контратаки. Но Круглов сообщил иное. «Соловьев, – сказал он без намеков, что помнит наш разговор, – вы единственный топограф на ближайшие полсотни километров. Был еще один, да его убило. Необходимо поработать для нескольких полков. Сначала, конечно, снимите захваченные нами позиции противника. Вас с помощниками будут сопровождать бойцы разведроты. Отчитаетесь опять мне, а потом – на новые участки». Видно было, что он разочарован, но ничего поделать не может. Я пробормотал что-то вроде «разрешите сначала закончить работу, которую начал на текущем месте», но полковник оборвал меня: «Нет, это срочно. Повоюем со старыми картами – разведка их, как может, скорректирует».
Около полудня мы вышли. Плечо и ногу ломило, близнецов бил кашель, все мы с трудом переставляли стертые ноги. Костя во сне так сжал челюсти, что у него откололась часть зуба и впилась в небо. Провожавшие нас разведчики хмурились и честили какого-то Нечипорука, которого просили снять с убитых немцев фонари, а он принес только один, да и тот сигнальный, для регулировщика, где, крутя ручку, можно менять красное стекло на белое и зеленое, что разведке с этой фары? Их голоса жужжали где-то вдали, а передо мной плыло и покачивалось при каждом шаге лицо того немца с дороги. Ближе к позициям мышцы разогрелись, я машинально настраивал мензулу, снимал небольшое поле среди леса – не дор, а, похоже, старые вырубки, – чертил на плане затупившимся карандашом, который в спешке забыл поточить. Разведчики следили за опушкой. Мимо прошел отряд из их роты, они тоже не теряли времени и, пока была передышка, обследовали окрестности новой передовой. Спустя четверть часа, кажется, именно этот отряд напоролся на пехоту. Началась пальба, сначала перестрелка, затем проснулся миномет, и вскоре это напоминало бой, который мы слышали на заросшем озере. На меня напал ужас, похожий на тот, что пригвоздил к креслу во время шутейного суда. Выстрелы отдавали в виски нестерпимой болью, и уже не соблюдая никакой субординации, я крикнул близнецов. Они всё поняли и заспешили укладывать рейки и штатив. Бой развивался стремительно, разведрота объединилась, заняла оборону и вызвала огонь, немцы ответили. Слева и справа загрохотали взрывы, начался стрекот пулеметов, и в конце концов их основные силы пехоты решились на атаку. Возможно, они пользовались случаем и хотели вернуть потерянные позиции, а может, решили, что их собираются отшвырнуть еще дальше, и контратаковали, но так или иначе, помчавшись по лыжне обратно, мы оказались в положении мишеней на стрельбище. По обеим сторонам из перелесков уже гремели и приближались выстрелы. Мы катили как безумные и быстро выдохлись, и потому, отчаявшись обогнать бой, нашли овражек и упали туда. Сняли ящики, мешки, лыжи, отдышались. А когда захотели выбраться, вблизи начала рваться земля, вскидывая снежные фонтаны и толкая в грудь воздушной волной. «Минометы», – провыл Костя. Недалеко от края овражка рвануло и сбило всех с ног белым потоком, и тогда мы, не сговариваясь, за несколько секунд забросали снегом ящики и выкарабкались, к сожалению, в разные стороны.
Через сто метров я попал примерно на линию огня, но все-таки чуть ближе к своим. Выражение «свист пули» воплотилось наяву, только пули не свистели, а взвизгивали. Мне замахали рукой, и я пополз между редкими деревьями в сторону машущего. Тут же его накрыли миной. Я вновь оглох, но все-таки уловил крики на родном языке – от тех, уходивших с позиции. Поспешив доковылять до края леса, я свалился в густой ельник, где скрывался тот, кто меня звал. А потом я увидел его прямо рядом с собой.
Части лица этого человека двигались отдельно друг от друга, бровь и щека дергались вниз, рот прыгал, словно умирающий причитал, левый глаз выпал и покачивался на скользкой мышце, а правый уставился на меня как дуло. Он поднял уцелевшую руку и занес надо лбом, чуть выше виска, и еще раз, и еще, пока я не понял и не вытащил без раздумий наган и не приставил к его затылку. Что-то меня заставило вдруг отдернуть руку, и наган чуть не вылетел из замерзшей кисти. Мне стало до слез жаль его: а вдруг он сможет жить, пусть и одноглазый, вдруг живот зашьют, – и я не хотел быть убийцей. Рядом застучала очередь, и я упал рядом с раненым, уже не думая об убийстве, а бешено перебирая варианты, что делать, если сейчас подойдут, прикидываться трупом, и если пронесет, то как выбираться и куда. Опять застучал автомат, правда, в стороне. Бой уходил дальше от перелеска, но я еще долго лежал, боясь вздохнуть. Наконец я взглянул на раненого. Он не дышал.
Я встал и, шатаясь, сделал несколько шагов, не сразу заметив не привыкшими к ночи глазами несколько тел, и своих, и чужих. Над ветвями висели холодные яркие звезды. Вернувшись к телу, я сел рядом на корточки и рассмотрел размозженную голову, застывшую кровь, переплетения вывалившейся утробы, черные грубые руки, похожие на корни пальцы. Внутри меня все замерло, заморозилось, и я ощутил легкость и поднялся, зашагал, проваливаясь и не обращая внимания на хаос, по подсеченной неподалеку лыжне домой. Я думал, что меня пристрелят очень быстро, но, видимо, согбенное существо, бредущее, спотыкаясь, и не смотрящее по сторонам, оставляло впечатление безнадежно раненного – иначе я не могу объяснить, почему остался жив. Мимо меня даже проносились, пригнувшись и меняя позиции, пулеметчик с расчетом и, кажется, кто-то со снайперской винтовкой, свой ли, немец, я смотрел перед собой и не реагировал на тукающие выстрелы. Однако я ошибался, думая, что выпотрошил все чувства и теперь смогу вынести что угодно.
На одной из полян, когда огонь со всех сторон прекратился, я понял, что набрел на проселок, хотя и засыпанный снегом, оказавшимся по бедра. Свернув на него, я заковылял; вскоре за спиной раздались храп, топот, барахтанье, и на краю поляны возник тыловой воз на полозьях, на который залезло несколько легкораненых. «Живой? – крикнул возница. – Полезай скорее». Я взгромоздился, неловко задев раненного в руку. В ответ он двинул меня здоровым локтем. Над головой понеслись сахарные ветви. Ехавшие сидели, плотно прижавшись друг к другу, оружия не было почти ни у кого. Рядом со мной покачивался тот немец, став как бы моим проводником: ты думаешь, что умер я, а на самом деле вопрос, кто из нас на каком свете, и этот снег, хвоя и шершавые веточки, втоптанные в него, колосья сухих трав, торчащие из наста, да и сам лес – не пограничье ли это между миром живых и мертвых, но ты иди, иди, я буду с тобой, я тебя не брошу.
Выскочив на широкий дор, а затем еще на одну поляну, возница сначала притормозил, а потом резко дал вперед. Я свесился, насколько мог, и увидел впереди барахтавшиеся по пояс в снегу фигуры в хищных касках. Тут же прогремели выстрелы, я спрятался и выглянул опять – фигуры бросили оружие и пытались уйти с нашей траектории, спотыкались, вязли, а возница гнал, все ближе, ближе, и послышался крик, сначала просто страшный, а потом короткий, такой, что не забывается. Лошади подмяли человека, и я увидел на мгновение между постромками искаженное лицо уже задавленного, но еще живого – а потом он скользнул под полозья со сводящим с ума звуком разрезаемой плоти. Я откинулся, как будто железо разрезало меня, и завизжал. Второй беглец все понял и попытался отпрыгнуть, но снег той зимой был глубок, и все повторилось: глухие удары лошадиных копыт и неизрекаемый в своем ужасе звук, от которого хотелось выкричать все внутренности.
Никто не обернулся, и поезд мчался дальше. Добравшись до землянки, я свернулся, как собака, у остывшей печки и заснул, не скидывая шинели. Бои продолжались несколько дней. Близнецы, проплутав всю ночь, явились обратно под утро, и мы даже обнялись как друзья. Они рвались искать и откапывать брошенные инструменты, но я запретил. Нас словно забыли, потому что властвовала неразбериха. Я лежал, отчаявшись если не стереть, то попробовать закрыть хоть чем-нибудь дыру в голове, зиявшую и кровоточившую после увиденного.
Шатры лазарета переполнились, и резервисты клали раненых в блиндажи. Проселок до Поддорья теперь простреливался, эвакуация раненых была затруднена. Везде, где оперировали, ампутировали и перевязывали, стояла вонь. Позиции удавалось держать, но ценой новых и новых тел, которые ползли как по конвейеру. Очнувшись и встав, я чувствовал себя так, будто меня окунули в яму с дерьмом и держали там, пока я не начал задыхаться. Потом я смог заставить себя выйти на свет и там обнаружил, что мир задеревенел. Я ходил и выполнял действия как сломанный, заторможенный механизм. Когда с передовой приехал целый караван подвод, нас позвали их разгружать, и теперь вереница увечных с культями на месте оторванных ног, умирающих и верещащих «убей» и «укол», проплывала перед нами как нескончаемый поезд. Нам с Полуектом достался обморочный, бледный лет пятидесяти, которого мы положили на указанное медбратом место. Полуект осмотрелся и задержал взгляд на углу шатра. Я пробрался к выходу через тазы с бордовыми тампонами и бинтами, раздвинул ветви елочной маскировки и увидел переплетенные, смерзшиеся руки и ноги, сползшие рты, гримасы убитых, сложенных как суковатые бревна в поленницу. Розовощекий, младше меня лейтенант улыбался, глядя на заиндевевший окровавленный нос соседа. Я рассматривал его с такой же любовью, а потом поленница расползлась, шатер, деревья, небо, все окунулось в лунную ночь и поперек лица мелькнул возница, свистнули полозья, и я услышал тот режущий звук и скорчился, обхватив голову руками. Полуект выбежал и схватил меня за рукав, но поднять не смог, пока видение не исчезло.
С передовой доносился гром, лагерь готовили к эвакуации. Хаос продолжался несколько дней, и в этой круговерти мы продолжали жевать корки и уже не обращали внимания на тупой голод, высасывающий внутренности, и на полчища вшей. Единственным, что нас волновало и чего мы искали, было тепло. Мы часами шатались туда-сюда в поисках дров – интенданты не давали пилы, а сами обеспечивать весь полк не успевали. И едва мы уверились, что это не кончится никогда, как кончилось все.
Немцы встали и, судя по тому, что доносила разведка, начали окапываться, рассчитывая на долгую паузу. Или, может быть, изображая ее. Так или иначе это означало передышку. Еще несколько дней мы просыпались, ожидая звуков боя, но их все не было и не было. Инструменты нашлись там, где мы их оставили. По лагерю бродили тени штабных, остальные лежали в своих подземных жилищах, отсыпались, составляли списки выбывших и раненых, писали письма вдовам и переформировывали роты. Круглов ждал подкрепления, оружия и еды, но поскольку еще больше дороги оказалось за линией черных, то обозы пришлось бросить среди леса и перетаскивать, что можно, ночами силами лыжников. Спустя неделю они вытоптали такую тропу, что по ней два человека, впрягшись, могли тащить минометы и сопровождать лошадей, вязнувших в снегу. Из-за неразберихи топографическую бригаду решили держать при полку, и на одной из таких подвод нас отправили с ротой снимать урочище под названием Рог, очертаниями действительно напоминавшее толстый рог с завитком – рядом с тем Рдейским болотом, которое упоминал разведчик.
Завернувшись в непросохший ватник, я колыхался на подводе, которую перла пара лошадей сквозь ледяную кашу. Интенданты запрягли с битюгом орловскую, крепкую, не похожую на тонконогих выгибающих шеи с отцовских фотокарточек, но все равно беспомощную на переходах по брюхо в шуге. Спустя километр непролазной тропы пришлось слезть и вытаскивать, отчего одежда вымокла окончательно. Рота ушла вперед, изредка присылая кого-то на подмогу. У них убило полсостава, включая политрука, а командир лежал в лазарете с осколком под левым ребром и старался не шевелиться, чтобы свинец не коснулся сердца. Командовать поручили старшине по фамилии Еремин, лет сорока от роду, но безусому как подросток. Присланная им смена велела нам оставить инструмент, и добираться вперед подводы, и греться у костра. Мы отряхнулись, выжали рукавицы и поковыляли.
К вечеру мы добрались до позиций. За соснами белело пятно болота, огромное, берега даже не угадывалось. Пришедшие задолго до нас развели костер и, замерзнув, сидели вокруг так плотно, что пахло паленым, у некоторых на спинах маскхалатов зияли прожженные дыры. Согревшиеся обустраивали ночлег и ставили палатку для кухни. Через час добралась и наша подвода, застряв метрах в тридцати от костра. Орловскую выпрягли. Она упала и лежала, дергаясь и вперившись влажным, похожим на человечий глазом в замкомандира Резуна, бессмысленно оравшего на нее. Еремин и некоторые неохотно встали и пошли к подводе. Они что-то забухтели, и вскоре бухтение переросло в спор. Рота разделилась: одни жаловались, что не видели мяса третью неделю, а другие стояли за то, что лошадь «кормилица, на чем обратно поволочемся». Громче других высказывался Еремин, настаивая, что лошадь издохнет и никто ее не хватится, поэтому надо, пока еще свет, пристрелить, разделать и поужинать ею. Уходить от костра не хотелось, и я прикрыл глаза, вполуха слушая спорщиков. «А если весна? На чем минометы поволокем?» – «Да какая весна, фронт весной вообще встанет с такой-то распутицей. Бросили нас к херам! Живи тут как хочешь!» – «Верно говорит, вспомнят про нас теперь к лету, а немец не полезет сюда. Зачем ему этот гнилой угол». – «Как по радио передают, забыл? Бои местного значения! Сдохнешь тут, и не найдут среди болот». – «Как политрука убили, так смелый стал, заговорил!» – «Она просто уставшая». – «Какая уставшая, у нее пена идет!» – «Может, она больная». – «Один хуй помрем».
Слова рассыпались на междометия, и взвод едва не передрался, но все-таки Еремин был командиром, и покорившись ему, они стали обсуждать, как пристрелить за раз, чтобы не тратить лишние патроны. Наконец кто-то сходил к костру за винтовкой и вернулся. Еремин взял винтовку и подошел к лошади. Сначала ему пришлось отпрыгнуть, потому что она попыталась встать, провалилась сквозь наст, попробовала еще раз и тонко заржала. Затем положила голову на снег и стала смотреть на меня так, будто знала обо мне всё. Еремин подкрался к лошади, долго целился, выстрелил в черный глаз и промахнулся, угодив пулей в височную кость. Лошадь вскинулась и упала набок, забившись, все пытаясь подняться на передние ноги. Еремин прицелился и выстрелил еще, но орловская захрипела и метнулась, и пуля попала в лоб. Стрелок подобрался ближе, посмотрел на жертву, распаляясь руганью, и вновь поднял винтовку. Опять не попал в глаз, и начал стрелять вновь и вновь, уже не целясь, и орал.
Показалось, что у него сдали нервы, но, присмотревшись, я увидел, что безусое его лицо перекосилось не от отвращения и ярости, а еще от чего-то. Лошадь агонизировала. «Хорош!» – крикнул Резун между выстрелами. Еремин обернулся, и я увидел, что ткань его брюк около бедер взбугрилась и была натянута. «Вот мудак, – неловко сказал кто-то, – даже пристрелить не может». Остальные отвернулись. «Скотоебина», – сплюнул Костя. Агония продолжалась несколько минут, после чего к туше приблизились, осторожно взяли за копыта и гриву и потащили к кухне разделывать штыками. Когда лошадь варили, мясо источало почти такой же запах, как плоть в санчасти. Все сидели с лицами мучеников. Еремин куда-то делся, а потом пришел к кухне. По мискам разложили куски мяса, схожего с резиной, и оно оказалось терпким, с привкусом сладкой полевой травы. Правда, оно было еще и жестким, и все, кто неделями недоедал, набросились на него и глотали, не разжевав, а потом свирепо мучились животом, матерились и испражнялись под березами, сплевывая набегавшую под язык водянистую слюну.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: