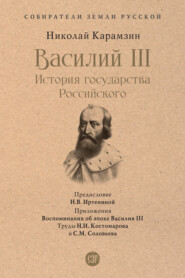По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Полная история государства Российского в одном томе
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
С Литвою мы также были в переговорах. Казалось, что Сигизмунд искренно желал конца войны, для него тягостной; казалось, что и Царь хотел отдохновения. С обеих сторон изъявляли редкую уступчивость. Единственно для соблюдения старого обычая Великие Послы Королевские, приехав в Москву, требовали Смоленска, а наши Бояре Киева, Белоруссии и Волынии: ни мы, ни они в самом деле не помышляли о сем невозможном возврате. Сигизмунд уступал нам даже Полоцк; а Государь велел сказать Послам: "любя спокойствие Христиан, я уже не требую Царского титула от Короля: довольно, что все иные Венценосцы дают мне оный". Затруднение состояло в Ливонии: Сигизмунд предлагал, чтобы каждому владеть в ней своею частию, ему и нам; чтобы общими силами изгнать Шведов из Эстонии и разделить ее между Польшею и Россиею: в таком случае обязывался быть истинным другом Иоанну и называть его Царем. Но Царь хотел Риги, Вендена, Вольмара, Роннебурга, Кокенгузена: за что уступал Королю Озерище, Лукомль, Дриссу, Курляндию и 12 городков в Ливонии; освобождал безденежно всех пленников Королевских, а своих выкупал. Послы стояли за Ригу, за Венден; наконец сказали Боярам, что истинный, твердый мир всего скорее может быть заключен между их Государями в личном свидании на границе. Сия мысль сперва полюбилась Иоанну. Избрали место: Царю надлежало приехать в Смоленск, Королю в Орту, каждому с пятью тысячами благородных воинов. Но Послы не брали на себя условиться в обрядах свидания: например, Иоанн желал в первый день угостить Сигизмунда в своем шатре: что им казалось несовместно с достоинством Государя их. Миновало около двух месяцев в переговорах.
Тогда (в июле 1566 года) Иоанн явил России зрелище необыкновенное: призвал в Земскую думу не только знатнейшее Духовенство, Бояр, Окольничих, всех других сановников, казначеев, Дьяков, Дворян первой и второй статьи, но и гостей, купцев, помещиков иногородных; отдал им на суд переговоры наши с Литвою, и спрашивал, что делать: мириться или воевать с Королем? В собрании находились 339 человек. Все ответствовали – Духовенство за себя, Бояре, сановники, граждане также особенно, но единогласно – что Государю без вреда для России уже нельзя быть снисходительнее; что Рига и Венден необходимы нам для безопасности Юрьева, или Дерпта, самого Пскова и Новагорода, коих торговля стеснится и затворится, если сии города Ливонские останутся у Короля; что Государи вольны видеться на границе для тишины Христиан, но что Сигизмунд по-видимому намерен только длить время, дабы между тем устроить запутанные дела в своем отечестве, примириться с Цесарем, умножить войско в Ливонии. Духовенство прибавило: "Государь! Твоя власть действовать как вразумит тебя Бог; нам должно молиться за Царя, а советовать непристойно". Воинские чиновники изъявили готовность пролить кровь свою в битвах; граждане вызывались отдать Царю последнее достояние на войну, если гордый Сигизмунд отвергнет предлагаемые ему условия для мира. Была ли свобода во мнениях, была ли искренность в ответе сей Земской, или Государственной Думы? Но совещание имело вид торжественный, и народ с благоговением видел Иоанна не среди опричников ненавистных, а в истинном величии Государя, внимающего гласу отечества из уст россиян знаменитейших: явление достойное лучших времен Иоаннова царствования!
Дума утвердила сей приговор грамотою; а Панам Королевским сказали, что Государь чрез своих Послов объяснится с Королем, соглашаясь между тем прекратить воинские действия и разменяться пленниками. Сим кончилось дело. Вслед за Послами Литовскими (в 1567 году) отправились к Сигизмунду наши, Боярин Умной-Колычев и Дворецкий Григорий Нагой, уполномоченные подписать мир: что было новостию: ибо прежние договоры с Литвою совершались единственно в Москве. Сигизмунд встретил наших Бояр в Гродне: когда они вошли к нему, все Литовские Вельможи встали; но Послы увидели тут Князя Андрея Курбского и с презрением отвратились: им велено было требовать головы сего изменника! Девять раз они съезжались с Королевскими Панами и не могли ни в чем согласиться: Иоанн непременно хотел, изгнав Шведов и Датчан, владеть всею Ливониею, уступая Сигизмунду Курляндию. Несмотря на свое искреннее желание мира, Король отвергнул сии предложения; не согласился выдать и Курбского. Решились продолжать войну. "Я вижу, – писал Сигизмунд к Иоанну, – что ты хочешь кровопролития; говоря о мире, приводишь полки в движение. Надеюсь, что Господь благословит мое оружие в защите необходимой и справедливой".
Полки наши действительно шли из Вязьмы, Дорогобужа, Смоленска к Великим Лукам. Целию была Ливония. Основав на Литовской границе новые крепости Усвят, Улу, Сокол, Копие, Государь с Царевичем Иоанном выехал из Москвы к войску. 5 октября [1567 г.], в поле, близ Медного, представили ему Посланника Королевского Юрия Быковского с упомянутым письмом Сигизмундовым. Иоанн сидел в шатре, вооруженный, в полном доспехе, среди Бояр, многих чиновников, также вооруженных с головы до ног, и сказал ему: "Юрий! Мы посылали к брату нашему, Сигизмунду августу, своих знатных Бояр с предложением весьма умеренным. Он задержал их в пути, оскорблял, бесчестил. Итак, не дивися, что мы сидим в доспехе воинском: ибо ты пришел к нам от брата нашего с язвительными стрелами". Спросив Юрия о здравии Королевском, приказав ему сесть, но не дав руки, Иоанн выслал из шатра всех чиновников ратных, кроме советников, больших Дворян и Дьяков; выслушал речь Посланника, велел угостить его в другой ставке и немедленно отослать – в темницу Московскую! Сие нарушение права народного без сомнения не извинялось грубыми выражениями письма Королевского и тем, что Бояре Колычев и Нагой, приехав тогда же в стан к Иоанну, жаловались ему на худые с ними поступки в Литве. Кроме множества сановников, телохранителей, провождали Царя Суздальский Епископ Пафнутий, Архимандрит Феодосий, Игумен Никон, до Новагорода, где он жил 8 дней, усердно моляся в древнем Софийском храме и занимаясь распоряжением полков, чтобы идти к Ливонским городам Луже и Резице. Но вдруг воинский жар его простыл: встретились затруднения, опасности, коих Иоанн не предвидел, и для того призвал всех главных Воевод на совет. Они 12 ноября съехалися близ Красного, в селении Оршанском, и рассуждали с Царем, начать ли осаду неприятельских городов или отложить поход: ибо за худыми дорогами обозы с тяжелым снарядом двигались медленно к границе, лошади падали, люди разбегались; надлежало ждать долго и стоять в местах скудных хлебом. Узнали также, что Король собирает войско в Борисове, замышляя идти зимою к Полоцку и Великим Лукам. Боялись утомить рать осадою крепостей, в то время когда неприятель с другой стороны может явиться в наших собственных пределах; а всего более опасались найти язву в Ливонии, где, по слуху, многие люди умирали от заразительных болезней. Решили, чтобы Государю ехать назад в Москву, а Воеводам стоять в Великих Луках, в Торопце и наблюдать неприятеля.
Таким образом, Иоанн не без внутренней досады возвратился в столицу; но к утешению его самолюбия Король Польский сделал то же: (в 1568 году) собрав 60000 или более воинов, хваляся по следам Ольгерда устремиться к Москве, и действительно выступив в поле с Двором блестящим, Сигизмунд несколько недель стоял праздно в Минской области, распустил главное войско, и сам уехав в Гродно, послал только отряды в западную Россию. Под Улою Литовцы претерпели великий урон; но имели и некоторые выгоды. Строением новой крепости, названной Копием, управляли Князья Петр Серебряный и Василий Палицкий: Литовцы в нечаянном нападении убили Палицкого; а Князь Серебряный едва ускакал в Полоцк. Близ Велижа пленив знатного чиновника, Петра Головина, они истребили несколько селений в Смоленской области, и каким-то обманом взяли Изборск (в начале 1569 года); но россияне выгнали их немедленно: громили Польскую Ливонию, сожгли большую часть Витебска. Между тем разменивались пленниками на границе: Иоанн освободил Королевского Воеводу Довойну, Сигизмунд Князя Темкина. Жена Довойны умерла в Москве: Царь согласился отпустить ее тело в Литву, с условием, чтобы Король прислал в Москву тело Князя Петра Шуйского: о чем просили добрые сыновья сего несчастного Воеводы.
Уважив совет Бояр не прерывать мирных сношений с Литвою, Государь освободил Посланника Сигизмундова, семь месяцев страдавшего в темнице; дал ему видеть лице свое, говорил с ним милостиво; сказал: "Юрий! Ты вручил нам письмо столь грубое, что тебе не надлежало бы остаться живым; но мы не любим крови. Иди с миром к Государю своему, который забыл тебя в несчастии. Мы готовы с ним видеться; готовы прекратить бедствие войны. Кланяйся от нас брату, Королю Сигизмунду августу". Начались снова переговоры. Гонцы ездили из земли в землю: Сигизмундовы, в речах с Боярами, именовали Иоанна Царем, и на вопрос: что значит сия новость? ответствовали: "так нам приказано от Вельмож Литовских". Гонцам Московским давались также наставления миролюбивые и следующее, достойное замечания: "Если будет говорить с вами в Литве Князь Андрей Курбский или ему подобный знатный беглец Российский, то скажите им: ваши гнусные измены не вредят ни славе, ни счастию Царя великого: Бог дает ему победы, а вас казнит стыдом и отчаянием. С простым же беглецом не говорите ни слова: только плюньте ему в глаза и отворотитесь… Когда же спросят у вас: что такое Московская опричнина? скажите: Мы не знаем опричнины: кому велит Государь жить близ себя, тот и живет близко; а кому далеко, тот далеко. Все люди Божии да Государевы". Наконец Иоанн и Сигизмунд условились остановить неприятельские действия. Послам Литовским надлежало быть в Москву для заключения мира, коего желали искренно обе стороны: что изъясняется обстоятельствами времени. Сигизмунд не имел детей: движимый истинною любовию к отечеству, он хотел неразрывным соединением Литвы с Польшею утвердить их могущество, опасаясь, чтобы та и другая держава по его смерти не избрала себе особенного Властителя. Намерение было достохвально, полезно, но исполнение трудно: ибо Вельможи Польские и Литовские жили в вечной вражде между собою; одна власть Королевская могла обуздывать их страсти. Сигизмунд желал внешнего спокойствия, чтобы успеть в сем важном деле, предложенном тогда люблинскому сейму; а Царь желал короны Сигизмундовой: ибо носился слух, что Паны мыслят избрать в Короли сына его, Царевича Иоанна. Гонцам нашим велено было разведать о том в Литве и ласкать Вельмож. Государь унял кровопролитие, дабы потушить в Литовцах враждебное к нам чувство.
Перемена в отношениях Швеции к России также немало способствовала миролюбию Иоаннову в отношении к Сигизмунду. Чтобы удержать Эстонию за собою вопреки Дании и Польше, Король Эрик имел нужду не только в мире, но и в союзе с Царем: для чего употреблял все возможные средства и мыслил даже совершить подлое, гнусное злодеяние. Прелестная и не менее добрая сестра Сигизмундова Екатерина, на коей Царь хотел жениться, и которая, может быть, спасла бы его и Россию от великих несчастий – Екатерина в 1562 году вступила в супружество с любимым сыном Густава Вазы, Герцогом Финляндским Иоанном. Завистливый, безрассудный Эрик издавна не терпел сего брата и возненавидел еще более за противный ему союз с Королем Польским; выдумал клевету и заключил Иоанна. Тут обнаружилось великодушие Екатерины: ей предложили на выбор, оставить супруга или свет. Вместо ответа она показала свое кольцо с надписью: ничто, кроме смерти – и четыре года была Ангелом-утешителем злосчастного Иоанна в Грипсгольмской темнице, не зная того, что два тирана готовили ей гораздо ужаснейшую долю. Царь предложил, и Король согласился выдать ему Екатерину, как предмет странной любви или злобы его за бесчестие отказа. Дело началось тайною перепискою, а кончилось торжественным договором: в феврале 1567 года приехали Шведские государственные сановники, Канцлер Нильс Гилленстирна и другие, прямо в Александровскую Слободу, были угощены великолепно и подписали хартию союза Швеции с Россиею. Царь назвал Эрика другом и братом, уступал ему навеки Эстонию, обещал помогать в войне с Сигизмундом, доставить мир с Даниею и с городами Ганзейскими: за что Эрик обязывался прислать свою невестку в Москву. Думный советник Воронцов и Дворянин Наумов поехали в Стокгольм с договорною грамотою, а Бояре Морозов, Чеботов, Сукин должны были принять Екатерину на границе. Но Провидение не дало восторжествовать Иоанну. Послы наши, встреченные в Стокгольме с великою честию, жили там целый год без всякого успеха в своем деле. Пригласив их обедать с собою, Эрик упал в обморок и не мог выйти к столу: с сего времени послы не видали Короля; им сказывали, что он или болен, или сражается с Датчанами. Для переговоров являлись к Воронцову только Советники Думы Королевской и говорили, что выдать Екатерину Царю, отнять жену у мужа, мать у детей, противно Богу и Закону; что сам Царь навеки обесславил бы себя таким нехристианским делом; что у Сигизмунда есть другая сестра, девица, которую Эрик может достать для Царя; что Послы Шведские заключили договор о Екатерине без ведома Королевского. Боярин Московский не щадил в ответах своих ни советников, ни Государя их; доказывал, что они лжецы, клятвопреступники, и требовал свидания с Эриком. Сей несчастный Король был тогда в жалостном состоянии: многими жестокими, безрассудными делами заслужив общую ненависть, боялся и народа и Дворянства; мучился совестию, терял ум, освободил и думал снова заключить брата; в смятении духа, в малодушном страхе, то объявлял нашим послам, что сам едет в Москву, то опять хотел послать Екатерину к Царю. Наконец совершился удар: 29 сентября 1568 года Послы Московские увидели страшное волнение в столице и недолго были спокойными зрителями оного: воины с ружьями, с обнаженными мечами вломились к ним в дом, сбили замки, взяли все: серебро, меха; даже раздели Послов, грозили им смертию. В сию минуту явился Принц Карл, меньший брат Эриков: Боярин Воронцов, стоя перед ним в одной рубашке, с твердостию сказал ему, что так делается в вертепе разбойников, а не в Государствах Христианских. Карл выгнал неистовых воинов: изъяснил Боярину, что Эрик, как безумный тиран, свержен с престола; что новый Король, брат его Иоанн, желает дружбы Царя Московского; что обида, сделанная послам, не останется без наказания, будучи единственно следствием беспорядка, соединенного с переменою верховной власти. Послы требовали отпуска: выехали из Стокгольма, но 8 месяцев жили в Абове как невольники и возвратились в Москву уже в июле 1569 года донести Царю о судьбе его друга и брата, несчастного Эрика, торжественно осужденного государственными чинами умереть в темнице, за разные злодейства, как сказано в сем приговоре, и за бесчестные, нехристианские условия союза с Россиею. Легко представить себе досаду Царя: он умел скрывать свои чувства: дозволил Шведским Послам, Епископу Абовскому, Павлу Юсту, с другими знатными чиновниками быть в Москву и велел их ограбить, задержать в Новегороде, точно так, как Боярин Воронцов и Наумов были ограблены, задержаны в Швеции. Сие действие казалось ему справедливою местию; но он хотел и важнейшей: хотел немедленно выгнать Шведов из Эстонии, и для того примириться на время с Сигизмундом, чтобы не иметь дела с двумя врагами.
Надлежало отвратить еще другую опасность, которая тогда явилась для России, но недолго тревожила Иоанна и дала без победы новую воинскую славу его Царствованию. Что замышлял против нас Солиман Великий, то сын его, малодушный Селим, хотел исполнить: восстановить Царство Мусульманское на берегах Ахтубы: к чему склоняли Султана некоторые Князья Ногайские, Хивинцы и Бухарцы, представляя ему, что Государь Российский истребляет Магометанскую Веру, и пресек для них сообщение с Меккою; что Астрахань есть главная пристань Каспийского моря, наполненная кораблями всех народов Азиатских, и что в казну Царскую входит там ежедневно около тысячи золотых монет. Послы Литовские, находясь в Константинополе, говорили то же. Один Хан Девлет-Гирей доказывал, что к Астрахани нельзя идти ни зимою, ни летом: зимою от несносного для Турков холода, летом от безводия; и что гораздо лучше воевать Московскую Украйну. Не слушая возражений Хана, Селим (весною 1569 года) прислал в Кафу 1500 °Cпагов, 2000 Янычар и велел ее Паше, Касиму, идти к Переволоке, соединить Дон с Волгою, море Каспийское с Азовским, взять Астрахань или, по крайней мере, основать там крепость в ознаменование Султанской державы. 31 мая Паша выступил в поход; Хан также, имея до 50000 всадников. Они сошлися в нынешней Качалинской станице и ждали судов, которые плыли Доном от Азова с тяжелым снарядом, с богатою казною, имея для защиты своей только 500 воинов и 2500 гребцов, большею частию Христианских невольников, окованных цепями. Турки в отмелях выгружали пушки, влекли их берегом, с трудом неописанным. Тысячи две россиян могли бы без кровопролития взять снаряд и казну: невольники ждали их с надеждою, а Турки с трепетом – никто не показывался! Донские Козаки, испуганные слухом о походе Султанского войска, скрылись в дальних степях, и суда 15 августа благополучно достигли Переволоки. Тут началась работа жалкая и смешная: Касим велел рыть канал от Дона до Волги; увидев невозможность, велел тащить суда землею. Турки не хотели слушаться и говорили, что Паша безумствует, предпринимая такое дело, для коего мало ста лет для всех работников Оттоманской Империи. Хан советовал возвратиться; но, к удовольствию Касима, явились Послы Астраханские. "На что вам суда? – сказали они: – мы дадим их вам сколько хотите; идите только избавить нас от власти россиян". Паша усмирил войско: 2 сентября отпустил пушки назад в Азов, и с 12 легкими орудиями пошел к Астрахани, где жители готовились встретить его как избавителя: надежда их не исполнилась.
Посол Иоаннов, Афанасий Нагой, писал к Государю из Тавриды о замысле Султановом: письма его, хотя и не скоро, доходили. Война с Турциею не представляла Иоанну ничего, кроме опасностей: собирая многочисленное войско в Нижнем Новегороде и немедленно отрядив мужественного Князя Петра Серебряного с легкою дружиною занять Астрахань, он в то же время послал дары к Паше Кафинскому, чтобы склонить его к миролюбию. Паша взял дары, целовал грамоту Иоаннову, три дня честил гонцов Московских, а на четвертый заключил в темницу. Но Государь успокоился, сведав о малом числе Турков и худом усердии Девлет-Гирея к сему походу; угадывал следствия и не обманулся.
16 сентября Паша и Хан стали ниже Астрахани, на Городище, где была, как вероятно, древняя столица Козарская. Тут ждали их наши изменники Астраханские с судами и Ногаи с дружественными уверениями: Касим, велев Ногаям прикочевать к Волге, начал строить новую крепость на Городище, и Турки, к изумлению своему, узнали, что Паша намерен зимовать под Астраханью, где горсть бодрых россиян обуздывала измену жителей и казалась ему страшною, так что он не смел отважиться на приступ. В самом деле ничто не могло быть безрассуднее сего намерения: Паша давал россиянам время изготовиться к обороне; давал время Царю прислать войско в Астрахань, а свое изнурял трудами, голодом: ибо Астраханцы не могли доставлять ему хлеба в избытке. Ропот обратился в мятеж, когда услышали Турки, что Хан по совершении крепости должен возвратиться в Тавриду. Они решительно объявили, что никто из них не останется зимовать в земле неприятельской. Еще Касим упорствовал, грозил; но вдруг 26 сентября зажег сделанные им деревянные укрепления и вместе с Ханом удалился от Астрахани: причиною было то, что Князь Петр Серебряный вступил в сей город с войском и что за ним, как сказывали, шло другое, сильнейшее. Турки и Крымцы бежали день и ночь. В шестидесяти верстах, на Белом озере, встретились им гонцы Султанский и Литовский: Селим писал к Паше, чтобы он непременно держался под Астраханью до весны; что к нему будет новая рать из Константинополя; что летом увидит Россия в недрах своих знамена Оттоманские, за коими должен идти и Хан к Москве, утвердив союз и дружбу с Литвою. Но Касим продолжал бегство. Путеводитель его, Девлет-Гирей, умышленно вел Турков местами безводными, голодною пустынею, где кони и люди умирали от изнурения; где Черкесы стерегли их в засадах и томных, полумертвых брали в плен; где россияне могли бы совершенно истребить сие жалкое войско, если бы они не следовали правилу, что надобно давать волю бегущему неприятелю. Турки были в отчаянии: проклиная Пашу, не щадили и Султана, который послал их в землю неизвестную, в ужасную Россию, не за победою, а за голодом и смертию бесчестною. Касим с толпою бледных теней через месяц достиг Азова, чтобы золотом откупиться от петли. Он приписывал свое несчастие единственно тому, что не мог ранее начать похода; но Девлет-Гирей уверял Султана в невозможности взять или удержать Астрахань, столь отдаленную от владений Турецких; а Крымскому Послу нашему сказал: "Государь твой должен благодарить меня: я погубил Султанское войско; не хотел ни приступать к Астрахани, ни строить там крепости на старом Городище, во-первых, желая угодить ему, во-вторых, и для того, что не хочу видеть Турков властелинами древних Улусов Татарских". К утверждению нашей безопасности с сей стороны, Азовская крепость со всеми пороховыми запасами взлетела тогда на воздух; не только большая часть города, зажженного, как думали, россиянами, но и пристань с военными судами обратилась в пепел.
Вид Константинополя
Сей несчастный поход войска Селимова описан нами по сказанию очевидца, Царского сановника, Семена Мальцова, достойного быть известным потомству. Он ехал из Ногайских Улусов и встретил неприятеля на берегу Волги: окруженный ими, скрыл Государев наказ как неприкосновенную святыню в дереве на Царицыне-острове; сдался уже полумертвый от ран; прикованный к пушке, терзаемый чувством боли, жажды, голода, – ежечасно угрожаемый смертию, не преставал ревностно служить Царю своему; стращал Турков рассказами: уверял, что Астраханцы и Ногаи манят их в сети; что Шах Персидский есть союзник России; что мы послали к нему 100 пушек и 500 пищалей для нападения на Касима; что Князь Серебряный плывет с тридцатью тысячами к Астрахани, а Князь Иван Бельский идет полем с несметною силою. Мальцов учил и других наших пленников сказывать то же; склонял Греков и Волохов, бывших с Касимом, пристать к россиянам в случае битвы; звал сыновей Девлет-Гиреевых к нам в службу; говорил им: "Вас у отца много: он раздает вас по людям. Вы ни сыты, ни голодны; скитаетесь из места в место. В Москве же найдете честь и богатство. Сам отец будет вам завидовать". Без всякой надежды увидеть святую Русь, без всякой мысли о награде, о славе, сей усердный гражданин хотел еще и накануне смерти быть полезным Государю, отечеству. Таких слуг имел Иоанн Грозный, упиваясь кровию своих подданных! – Провидение спасло Мальцева. Выкупленный в Азове нашим Крымским Послом Афанасием Нагим, он возвратился в Москву донести Царю, что россияне могут не страшиться Оттоманов.
Итак, внешние действия или отношения России к иноземным Державам были довольно благоприятны. С Литвою мы ожидали мира, удерживая за собою новые важные завоевания; слабую Швецию презирали; видели тыл и гибель Султанской рати; узнав неприязнь Хана к Туркам, тем менее опасались его впадений, и тем более надеялись с ним примириться. Войско наше было многочисленно, границы укреплены: на самом отдаленном Тереке Иоанн поставил город как для защиты своего тестя, Черкесского Князя Темгрюка, так и для утверждения своей власти над сим краем. – Шах Персидский, Тамас, хотел быть другом Иоанну, который, желая заключить с ним тесный союз против Султана, в Маие 1569 года посылал в Персию чиновника Алексея Хозникова. Сибирь платила нам дань: около 1563 года новый Князь ее, Шибанский Царевич Едигерь, убил там нашего данщика, за что Государь остановил в Москве Посла Сибирского, но скоро освободил его из уважения к ходатайству Исмаила, Ногайского Владетеля, и в 1569 году торжественным договором с новым Сибирским Царем, Кучюмом, утвердил сию землю в подданстве России. Иоанн взял Кучюма под свою руку, в оберегание, с условием, чтобы он давал ему ежегодно тысячу соболей, а Посланнику Государеву, который приедет за данию, тысячу белок. Боярский сын, Третьяк Чабуков, (в 1571 году) отвез в Сибирь жалованную Иоаннову грамоту, украшенную златою печатаю. – Россия внутри бедствовала – от язвы, голода и тиранства – но торговля ее процветала. Цари Абдула Шамаханский и Бухарский того же имени, Сеит Самаркандский, Азим Хивинский присылали дары в Москву, чтобы Иоанн дозволял их подданным купечествовать не только в Астрахани и в Казани, но и в других городах наших. Несмотря на явную вражду Султана, россияне еще торговали в Кафе, в Азове, а Турки в Москве вместе с Армянами. Сам Государь из казны своей отправлял за Каспийское море меха драгоценные и купцев Московских в Антверпен, в Лондон, даже в Ормус. Ганза не преставала искать милости в Иоанне и менялась с нами товарами в Нарве, завидуя Англичанам, которые пользовались благосклонностию Царя и правами исключительными в России, особенно с восшествия на престол Елисаветы: ибо сия знаменитая Королева, одаренная и великим умом и любезными свойствами, снискала его дружбу. Лондонское Российское Общество дарило Царя алмазами; Елисавета писала к нему ласковые письма. Три раза Посланник ее, Дженкинсон, был в Москве; ездил оттуда в Персию и с усердием исполнил тайный наказ Государев к Шаху. Следствием было то, что в 1567 и в 1569 году Иоанн дал новые выгоды купцам Английским: дозволил им ездить из России в Персию, завести селение на реке Вычегде, искать железной руды и плавить ее, с условием выучить россиян сему искусству, а при вывозе железа в Англию платить деньгу с фунта. Англичане должны были все драгоценные вещи показывать Государеву казначею; обязывались также продавать Царские товары в Англии и в Персии; впрочем могли везде купечествовать свободно, без пошлин, везде строить жилища, лавки и чеканить для себя талеры; судились только судом опричнины, и Московский их двор, у церкви Св. Максима, находился в ее ведомстве. Напрасно купцы Ганзейские старались вредить Англичанам в уме Иоанна; напрасно Короли Польский и Шведский убеждали Елисавету не способствовать выгодами торговли могуществу опасной России. Бывали неудовольствия взаимные, однако ж прекращались дружелюбно. Например, в 1568 году Посланник Елисаветин Томас Рандольф около четырех месяцев жил в Москве, не видав Царя. Иоанн досадовал на Английских купцев за то, что они ежегодно возвышали цену своих товаров; наконец велел Рандольфу быть к себе, но не дал лошадей: люди Посольские шли во дворец пешком, и никто из Царских сановников не кланялся представителю лица Королевина. Гордый Англичанин, оскорбленный сею грубостию, сам надел шляпу во дворце. Ждали гнева, опалы: вместо чего Иоанн принял Рандольфа весьма ласково, уверял в своей дружбе к любезной сестре Елисавете и возвратил милость купцам Английским; имел с ним другое свидание наедине, ночью; говорил три часа – и послал к Елисавете Дворянина Андрея Савина с делом тайным, которое знаем только по ответу Елисаветину, хранящемуся в нашем Архиве: оно весьма любопытно и доказывает малодушие Иоанна. Сей Монарх, еще победитель, еще гроза всех держав соседственных, не находя ни малейшего сопротивления в своих бедных подданных, невинно им губимых, трепетал в сердце, ждал казни, мечтал о бунтах, об изгнании; не устыдился писать о том к Елисавете и просить убежища в ее земле на сей случай: унижение достойное мучителя! Благоразумная Королева ответствовала, что желает ему Царствовать со славою в России, но готова дружественно принять его вместе с супругою и детьми, ежели, вследствие тайного заговора, внутренние мятежники или внешние неприятели изгонят Иоанна из отечества; что он может жить где ему угодно в Англии, наблюдать в Богослужении все обряды Веры Греческой, иметь своих слуг и всегда свободно выехать назад ли в Россию или в другую землю. В верности сих обещаний Елисавета дала ему слово Христианского Венценосца и грамоту, ею собственноручно подписанную в присутствии всех ее государственных советников, великого Канцлера Николая Бакона, Лорда Нортамптона, Русселя, Арунделя и других с прибавлением, что Англия и Россия будут всегда соединенными силами противиться их врагам общим. – Донесения Савина, хотя обласканного в Лондоне, не весьма благоприятствовали Англичанам: он сказал Царю, что Королева думает единственно о выгодах Лондонского купечества. Иоанн был недоволен и тем, что Елисавета в деле столь важном ответствовала ему чрез его Посланника, а не прислала своего; но берег ее дружбу, ибо действительно хотел бежать в крайности за море. Сию мысль вселил в него, как уверяют, Голландский доктор Елисей Бомелий, негодяй и бродяга, изгнанный из Германии: снискав доступ к Царю, он полюбился ему своими кознями; питал в нем страх, подозрения; чернил Бояр и народ, предсказывал бунты и мятежи, чтобы угождать несчастному расположению души Иоанновой. Цари и в добре и в зле имеют всегда ревностных помощников: Бомелий заслужил первенство между услужниками Иоанна, то есть, между злодеями России. Казнь Божия для них готовилась; но кровавый пир тиранства был еще в средине. Открывается новый феатр ужасов!
Глава III
Продолжение царствования Иоанна Грозного. 1569-1572
1 сентября 1569 года скончалась супруга Иоаннова, Мария, едва ли искренно оплаканная и самим Царем, хотя для соблюдения пристойности вся Россия долженствовала явить образ глубокой печали: дела остановились; Бояре, Дворяне, Приказные люди надели смиренное платье или траур (шубы бархатные и камчатные без золота), во всех городах служили панихиды; давали милостыню нищим, вклады в монастыри и в церкви; показывали горесть лицемерную, скрывая истинную, общую, производимую свирепством Иоанна, который чрез десять дней уже мог спокойно принимать иноземных Послов во дворце Московском, но спешил выехать из столицы, чтобы в страшном уединении Александровской Слободы вымыслить новые измены и казни. Кончина двух супруг его, столь несходных в душевных свойствах, имела следствия равно несчастные: Анастасия взяла с собою добродетель Иоаннову: казалось, что Мария завещала ему превзойти самого себя в лютых убийствах. Распустив слух, что Мария, подобно Анастасии, была отравлена тайными злодеями, он приготовил тем Россию к ужаснейшим исступлениям своей ярости.
Иоанн карал невинных; а виновный, действительно виновный, стоял пред тираном: тот, кто в противность закону хотел быть на троне, не слушался болящего Царя, радовался мыслию об его близкой смерти, подкупал Вельмож и воинов на измену – Князь Владимир Андреевич! Прошло 16 лет; но Иоанн, как мы видели, умел помнить старые вины и не переставал его опасаться. Никто из Бояр не дерзал иметь дружелюбного обхождения с сим Князем: одни лазутчики приближались к нему, чтобы всякое нескромное слово употребить в донос. Что спасало несчастного? Естественный ли ужас обагрить руки кровию ближнего родственника? Быть может: ибо есть остановки, есть затруднения для самого ожесточенного тирана: иногда он бывает человеком; уже не любя добра, боится крайностей во зле; тревожимый совестию, облегчает себя мыслию, что он еще удерживается от некоторых преступлений! Но сей оплот ненадежен: злодейства стремят к злодействам, и Князь Владимир мог предвидеть свою неминуемую участь, несмотря на милостивое прощение, ему объявленное в 1563 году, несмотря на лицемерие Иоанна, который всегда честил, ласкал его. В знак милости дав Владимиру большое место в Кремле для нового великолепного дворца и города Дмитров, Боровск, Звенигород, Царь взял себе на обмен Верею, Алексин, Старицу, без сомнения для того, что сей Князь с новыми поместьями казался менее опасным, нежели с наследственными, где еще хранился дух древней Удельной системы. Весною в 1569 году, собирая войско в Нижнем Новегороде для защиты Астрахани, Иоанн не усомнился вверить оное своему мужественному брату; но сия мнимая доверенность произвела опалу и гибель. Князь Владимир ехал в Нижний чрез Кострому, где граждане и Духовенство встретили его со крестами, с хлебом и солью, с великою честию, с изъявлением любви. Узнав о том, Царь велел привезти тамошних начальников в Москву и казнил их; а брата ласково звал к себе. Владимир с супругою, с детьми, остановился верстах в трех от Александровской Слободы, в деревне Слотине; дал знать Царю о своем приезде, ждал ответа – и вдруг видит полк всадников: скачут во всю прыть с обнаженными мечами как на битву, окружают деревню; Иоанн с ними: сходит с коня и скрывается в одном из сельских домов. Василий Грязной, Малюта Скуратов объявляют Князю Владимиру, что он умышлял на жизнь Государеву и представляют уличителя, царского повара, коему Владимир дал будто бы деньги и яд, чтобы отравить Иоанна. Все было вымышлено, приготовлено. Ведут несчастного с женою и с двумя юными сыновьями к Государю: они падают к ногам его, клянутся в своей невинности, требуют пострижения. Царь ответствовал: "Вы хотели умертвить меня ядом: пейте его сами!» Подали отраву. Князь Владимир, готовый умереть, не хотел из собственных рук отравить себя. Тогда супруга его, Евдокия (родом Княжна Одоевская), умная, добродетельная – видя, что нет спасения, нет жалости в сердце губителя – отвратила лице свое от Иоанна, осушила слезы и с твердостию сказала мужу: "Не мы себя, но мучитель отравляет нас: лучше принять смерть от Царя, нежели от палача». Владимир простился с супругою, благословил детей и выпил яд: за ним Евдокия и сыновья. Они вместе молились. Яд начинал действовать: Иоанн был свидетелем их терзания и смерти! Призвав Боярынь и служанок Княгини Евдокии, он сказал: "Вот трупы моих злодеев! Вы служили им; но из милосердия дарую вам жизнь». С трепетом увидев мертвые тела господ своих, они единогласно отвечали: "Мы не хотим твоего милосердия, зверь кровожадный! Растерзай нас: гнушаясь тобою, презираем жизнь и муки!» Сии юные жены, вдохновенные омерзением к злодейству, не боялись ни смерти, ни самого стыда: Иоанн велел обнажить их и расстрелять. – Мать Владимирова Евфросиния, некогда честолюбивая, но в Монашестве смиренная, уже думала только о спасении души: умертвив сына, Иоанн тогда же умертвил и мать: ее утопили в реке Шексне вместе с другою Инокинею, добродетельною Александрою, его невесткою, виновною, может быть, слезами о жертвах Царского гнева.
Судьба несчастного Князя Владимира произвела всеобщую жалость: забыли страх; слезы лилися в домах и в храмах. Никто без сомнения не верил объявленному умыслу сего Князя на жизнь Государеву: видели одно гнусное братоубийство, внушенное еще более злобою, нежели подозрением. Он не имел великих свойств, но имел многие достохвальные: мог бы Царствовать в России и не быть тираном! Сносил долговременную, явную опалу свою с твердостию, ждал своей неминуемой гибели с каким-то Христианским спокойствием и приводил добрые сердца в умиление, рождающее любовь. Иоанн слышал – если не смелые укоризны, то по крайней мере воздыхания россиян великодушных и хотел открытием мнимого важного заговора доказать необходимость своей жестокости для обуздания предателей, будто бы единомышленников Князя Владимира. Сия новая клевета на живых и мертвых была ли только изобретением смятенного ума Иоаннова или адским ковом его сподвижников в губительстве, которые желали тем изъявить ему свое усердие и питать в нем страсть к мучительству? Надеялся ли Иоанн обмануть современников и потомство грубою ложью или обманывал самого себя легковерием? Последнее утверждают летописцы, чтобы облегчить лежащее на Иоанне бремя дел страшных; но самое легковерие в таком случае не вопиет ли на Небо? уменьшает ли омерзение к убийствам неслыханным?
Новгород, Псков, некогда свободные державы, смиренные самовластием, лишенные своих древних прав и знатнейших граждан, населенные отчасти иными жителями, уже изменились в духе народном, но сохраняли еще какую-то величавость, основанную на воспоминаниях старины и на некоторых остатках ее в их бытии гражданском. Новгород именовался Великим и заключал договоры с Королями Шведскими, избирая, равно как и Псков, своих Судных Целовальников, или присяжных. Дети от родителей наследовали и тайную нелюбовь к Москве: еще рассказывали в Новегороде о битве Шелонской; еще могли быть очевидцы последнего народного Веча во Пскове. Забыли бедствия вольности: не забыли ее выгод. Сие расположение тамошнего слабого гражданства, хотя уже и не опасное для могущественного самодержавия, беспокоило, гневило Царя, так что весною 1569 года он вывел из Пскова 500 семейств, а из Новагорода 150 в Москву, следуя примеру своего отца и деда. Лишаемые отчизны, плакали; оставленные в ней, трепетали. То было началом: ждали следствия. В сие время, как уверяют, один бродяга Волынский, именем Петр, за худые дела наказанный в Новегороде, вздумал отмстить его жителям: зная Иоанново к ним неблаговоление, сочинил письмо от Архиепископа и тамошних граждан к Королю Польскому; скрыл оное в церкви Св. Софии за образ Богоматери; бежал в Москву и донес Государю, что Новгород изменяет России. Надлежало представить улику: Царь дал ему верного человека, который поехал с ним в Новгород и вынул из-за образа мнимую Архиепископову грамоту, в коей было сказано, что Святитель, Духовенство, чиновники и весь народ поддаются Литве. Более не требовалось никаких доказательств. Царь, приняв нелепость за истину, осудил на гибель и Новгород и всех людей, для него подозрительных или ненавистных.
А. Новоскольцев. Убиение митрополита Филиппа Малютой Скуратовым
В декабре 1569 года он с Царевичем Иоанном, со всем Двором, со всею любимою дружиною выступил из Слободы Александровской, миновал Москву и пришел в Клин, первый город бывшего Тверского Великого Княжения. Думая, вероятно, что все жители сей области, покоренной его дедом, суть тайные враги Московского Самодержавия, Иоанн велел смертоносному легиону своему начать войну, убийства, грабеж, там, где никто не мыслил о неприятеле, никто не знал вины за собою; где мирные подданные встречали Государя как отца и защитника. Домы, улицы наполнились трупами; не щадили ни жен, ни младенцев. От Клина до Городни и далее истребители шли с обнаженными мечами, обагряя их кровию бедных жителей, до самой Твери, где в уединенной тесной келии Отроча-монастыря еще дышал Св. старец Филипп, молясь (без услышания!) Господу о смягчении Иоаннова сердца: тиран не забыл сего сверженного им Митрополита и послал к нему своего любимца Малюту Скуратова будто бы для того, чтобы взять у него благословение. Старец ответствовал, что благословляют только добрых и на доброе. Угадывая вину Посольства, он с кротостию примолвил: "Я давно ожидаю смерти: да исполнится воля Государева!» Она исполнилась: гнусный Скуратов задушил Св. мужа; но, желая скрыть убийство, объявил Игумену и братии, что Филипп умер от несносного жара в его келии. Устрашенные Иноки вырыли могилу за олтарем и в присутствии убийцы погребли сего великого иерарха Церкви Российской, украшенного венцем Мученика и славы: ибо умереть за добродетель есть верх человеческой добродетели, и ни новая, ни древняя История не представляют нам Героя знаменитейшего. Чрез несколько лет (в 1584 году) Святые Мощи его были пренесены в обитель Соловецкую, а после (в 1652 году) в Москву, в храм Успения Богоматери, где мы и ныне с умилением им поклоняемся.
За тайным злодейством следовали явные. Иоанн не хотел въехать в Тверь и пять дней жил в одном из ближних монастырей, между тем как сонмы неистовых воинов грабили сей город, начав с Духовенства и не оставив ни одного дома целого: брали легкое, драгоценное; жгли, чего не могли взять с собою; людей мучили, убивали, вешали в забаву; одним словом, напомнили несчастным Тверитянам ужасный 1327 год, когда жестокая месть Хана Узбека совершалась над их предками. Многие Литовские пленники, заключенные в тамошних темницах, были изрублены или утоплены в прорубях Волги: Иоанн смотрел на сие душегубство! – Оставив наконец дымящуюся кровию Тверь, он также свирепствовал в Медном, в Торжке, где в одной башне сидели Крымские, а в другой Ливонские пленники, окованные цепями: их умертвили; но Крымцы, защищаясь, тяжело ранили Малюту Скуратова, едва не ранив и самого Иоанна. Вышний Волочек и все места до Ильменя были опустошены огнем и мечем. Всякого, кто встречался на дороге, убивали, для того, что поход Иоаннов долженствовал быть тайною для России!
[1570 г.] 2 января передовая многочисленная дружина Государева вошла в Новгород, окружив его со всех сторон крепкими заставами, дабы ни один человек не мог спастися бегством. Опечатали церкви, монастыри в городе и в окрестностях; связали Иноков и Священников; взыскивали с каждого из них по двадцати рублей, а кто не мог заплатить сей пени, того ставили на правеж: всенародно били, секли с утра до вечера. Опечатали и дворы всех граждан богатых; гостей, купцов, приказных людей оковали цепями; жен, детей стерегли в домах. Царствовала тишина ужаса. Никто не знал ни вины, ни предлога сей опалы. Ждали прибытия Государева.
6 января, в день Богоявления, ввечеру, Иоанн с войском стал на Городище, в двух верстах от посада. На другой день казнили всех Иноков, бывших на правеже: их избили палицами и каждого отвезли в свой монастырь для погребения. января 8 Царь с сыном и с дружиною вступил в Новгород, где на Великом мосту встретил его Архиепископ Пимен с чудотворными иконами: не приняв Святительского благословения, Иоанн грозно сказал: "злочестивец! в руке твоей не крест животворящий, но оружие убийственное, которое ты хочешь вонзить нам в сердце. Знаю умысел твой и всех гнусных Новогородцев; знаю, что вы готовитесь предаться Сигизмунду-Августу. Отселе ты уже не Пастырь, а враг Церкви и Св. Софии, хищный волк, губитель, ненавистник венца Мономахова!» Сказав, Государь велел ему идти с иконами и крестами в Софийскую церковь; слушал там Литургию, молился усердно, пошел в палату к Архиепископу, сел за стол со всеми Боярами, начал обедать и вдруг завопил страшным голосом… Явились воины, схватили Архиепископа, чиновников, слуг его; ограбили палаты, келии, а Дворецкий, Лев Салтыков, и Духовник Государев Евстафий церковь Софийскую: взяли ризную казну, сосуды, иконы, колокола; обнажили и другие храмы в монастырях богатых, после чего немедленно открылся суд на Городище… Судили Иоанн и сын его таким образом: ежедневно представляли им от пятисот до тысячи и более Новогородцев; били их. мучили, жгли каким-то составом огненным, привязывали головою или ногами к саням, влекли на берег Волхова, где сия река не мерзнет зимою, и бросали с моста в воду, целыми семействами, жен с мужьями, матерей с грудными младенцами. Ратники Московские ездили на лодках по Волхову с кольями, баграми и секирами: кто из вверженных в реку всплывал, того кололи, рассекали на части. Сии убийства продолжались пять недель и заключились грабежом общим: Иоанн с дружиною объехал все обители вокруг города; взял казны церковные и монастырские; велел опустошить дворы и келии, истребить хлеб, лошадей, скот; предал также и весь Новгород грабежу, лавки, домы, церкви; сам ездил из улицы в улицу; смотрел, как хищные воины ломились в палаты и кладовые, отбивали ворота, влезали в окна, делили между собою шелковые ткани, меха; жгли пеньку, кожи; бросали в реку воск и сало. Толпы злодеев были посланы и в пятины Новогородские губить достояние и жизнь людей без разбора, без ответа. Сие, как говорит Летописец, неисповедимое колебание, падение, разрушение Великого Новагорода продолжалось около шести недель.
Февраля 12, в Понедельник второй недели Великого Поста, на рассвете, Государь призвал к себе остальных именитых Новогородцев, из каждой улицы по одному человеку: они явились как тени, бледные, изнуренные ужасом, ожидая смерти. Но Царь возрел на них оком милостивым и кротким: гнев, ярость, дотоле пылавшие в глазах его, как страшный метеор, угасли. Иоанн сказал тихо: "Мужи Новогородские, все доселе живущие! Молите Господа о нашем благочестивом Царском державстве, о христолюбивом воинстве, да побеждаем всех врагов видимых и невидимых! Суди Бог изменнику моему, вашему Архиепископу Пимену и злым его советникам! На них, на них взыщется кровь, здесь излиянная. Да умолкнет плач и стенание; да утишится скорбь и горесть! Живите и благоденствуйте в сем граде! Вместо себя оставляю вам Правителя боярина и Воеводу моего Князя Петра Данииловича Пронского. Идите в домы свои с миром!» Еще судьба Архиепископа не решилась: его посадили на белую кобылу в худой одежде, с волынкою, с бубном в руках как шута или скомороха, возили из улицы в улицу и за крепкою стражею отвезли в Москву.
Иоанн немедленно удалился от Новагорода дорогою Псковскою, отправив несметную добычу святотатства и грабежа в столицу. Некому было жалеть о богатстве похищенном: кто остался жив, благодарил Бога или не помнил себя в исступлении! Уверяют, что граждан и сельских жителей изгибло тогда не менее шестидесяти тысяч. Кровавый Волхов, запруженный телами и членами истерзанных людей, долго не мог пронести их в Ладожское озеро. Голод и болезни довершили казнь Иоаннову, так что Иереи в течение шести или семи месяцев не успевали погребать мертвых: бросали их в яму без всяких обрядов. Наконец Новгород как бы пробудился от мертвого оцепенения: 8 сентября все, еще живые, Духовенство, миряне, собралися в поле у церкви Рождества Христова служить общую панихиду за усопших над тамошнею скудельницею, где лежало 10000 неотпетых тел Христианских! (В первом месте стоял нищий старец Иоанн Жгальцо, который один с молитвою предавал мертвых земле в сие ужасное время.) – Опустел Великий Новгород. Знатная часть Торговой, некогда многолюдной стороны обратилась в площадь, где, сломав все уже необитаемые домы, заложили дворец Государев.
Иоанн готовил Пскову участь Новагорода, думая, что и жители оного хотели изменить России. Там начальствовал добрый Князь Юрий Токмаков и жил славный благочестием отшельник Салос (юродивый) Никола: один счастливым советом, другой счастливою дерзостию спасли город. В Субботу второй недели Великого Поста Царь ночевал в монастыре Св. Николая на Любатове, видя Псков, где в ожидании приближающейся грозы никто не смыкал глаз; все люди были в движении; ободряли друг друга или прощались с жизнию, отцы с детьми, жены с мужьями. В полночь Царь услышал благовест и звон церквей Псковских: сердце его, как пишут современники, чудесно умилилось. Он вообразил живо, с какими чувствами идут граждане к Заутрене в последний раз молить Всевышнего о спасении их от гнева Царского, с каким усердием, с какими слезами припадают к святым иконам – и мысль, что Господь внимает гласу сердец сокрушенных, тронула душу, столь ожесточенную! В каком-то неизъяснимом порыве жалости Иоанн сказал Воеводам своим: "Иступите мечи о камень! Да престанут убийства!..» На другой день, вступив в город, он с изумлением увидел на всех улицах пред домами столы с изготовленными яствами (так было сделано по совету Князя Юрия Токмакова): граждане, жены их, дети, держа хлеб и соль, преклоняли колена, благословляли, приветствовали Царя и говорили ему: "Государь Князь Великий! Мы, верные твои подданные, с усердием и любовию предлагаем тебе хлеб-соль; а с нами и животами нашими твори волю свою: ибо все, что имеем, и мы сами твои, Самодержец великий!» Сия неожидаемая покорность была приятна Иоанну. Игумен Печерский Корнилий с Духовенством встретил его на площади у церквей Св. Варлаама и Спаса. Царь слушал молебен в храме Троицы, поклонился гробу Св. Всеволода-Гавриила, с удивлением рассматривал тяжелый меч сего древнего Князя и зашел в келию к старцу Салосу Николе, который под защитою своего юродства не убоялся обличать тирана в кровопийстве и святотатстве. Пишут, что он предложил Иоанну в дар… кусок сырого мяса; что Царь сказал: "Я Христианин и не ем мяса в Великий Пост», а пустынник ответствовал: "Ты делаешь хуже: питаешься человеческою плотию и кровию, забывая не только Пост, но и Бога!» Грозил ему, предсказывал несчастия и так устрашил Иоанна, что он немедленно выехал из города; жил несколько дней в предместии; дозволил воинам грабить имение богатых людей, но не велел трогать Иноков и Священников; взял только казны монастырские и некоторые иконы, сосуды, книги и как бы невольно пощадив Ольгину родину, спешил в Москву, чтобы новою кровию утолять свою неутолимую жажду к мучительству.
Архиепископ Пимен и некоторые знатнейшие Новогородские узники, вместе с ним присланные в Александровскую Слободу, ждали там конца своего. Миновало около пяти месяцев, но не в бездействии: производилось важное следствие; собирали доносы, улики; искали в Москве тайных единомышленников Пименовых, которые еще укрывались от мести Государевой, сидели в главных приказах, даже в совете Царском, даже пользовались особенною милостию, доверенностию Иоанна. Печатник, или Канцлер, Иван Михайлович Висковатый, муж опытнейший в делах государственных – казначей Никита Фуников, также верный слуга Царя и Царства от юности до лет преклонных – Боярин Семен Васильевич Яковлев, Думные Дьяки Василий Степанов и Андрей Васильев были взяты под стражу; а с ними вместе, к общему удивлению, и первые любимцы Иоанновы: Вельможа Алексей Басманов, Воевода мужественный, но бесстыдный угодник тиранства – сын его, Крайчий Феодор, прекрасный лицом, гнусный душою, без коего Иоанн не мог ни веселиться на пирах, ни свирепствовать в убийствах – наконец самый ближайший к его сердцу нечестивец Князь Афанасий Вяземский, обвиняемые в том, что они с Архиепископом Пименом хотели отдать Новгород и Псков Литве, извести Царя и посадить на трон Князя Владимира Андреевича. Жалея о добрых, заслуженных сановниках, россияне могли с тайным удовольствием видеть казнь Божию над клевретами мучителя, без сомнения невинными пред ним, но виновными пред Государством и человечеством. Сии жестокие Царедворцы поздно узнали, что милость тирана столь же опасна, как и ненависть его; что он не может долго верить людям, коих гнусность ему известна; что малейшее подозрение, одно слово, одна мысль достаточны для их падения; что губитель, карая своих услужников, наслаждается чувством правосудия: удовольствие редкое для кровожадного сердца, закоснелого во зле, но все еще угрызаемого совестию в злодеяниях! Быв долго клеветниками, они сами погибли от клеветы. Пишут, что Царь имел неограниченную доверенность к Афанасию Вяземскому: единственно из рук сего любимого Оружничего принимал лекарства своего доктора Арнольфа Лензея; единственно с ним беседовал о всех тайных намерениях, ночью, в глубокой тишине, в спальне. Сын Боярский, именем Федор Ловчиков, облагодетельствованный Князем Афанасием, донес на него, что он будто бы предуведомил Новогородцев о гневе Царском, следственно был их единомышленником. Иоанн не усомнился: молчал несколько времени и вдруг, призвав Вяземского к себе, говоря ему о важных делах государственных с обыкновенною доверенностию, велел между тем умертвить его лучших слуг; возвращаясь домой, Князь Вяземский увидел их трупы: не показал ни изумления, ни жалости; прошел мимо в надежде сим опытом своей преданности обезоружить Государя; но был ввержен в темницу, где уже сидели и Басмановы, подобно ему уличаемые в измене. Всех обвиняемых пытали: кто не мог вынести мук, клеветал на себя и других, коих также пытали, чтобы выведать от них неизвестное им самим. Записывали показания истязуемых; составили дело огромное, предложенное Государю и сыну его, Царевичу Иоанну; объявили казнь изменникам: ей надлежало совершиться в Москве, в глазах всего народа, и так, чтобы столица, уже приученная к ужасам, еще могла изумиться!
Русские бояре (по А. Олеарию)
25 июля, среди большой торговой площади, в Китае-городе, поставили 18 виселиц; разложили многие орудия мук; зажгли высокий костер и над ним повесили огромный чан с водою. Увидев сии грозные приготовления, несчастные жители вообразили, что настал последний день для Москвы; что Иоанн хочет истребить их всех без остатка: в беспамятстве страха они спешили укрыться где могли. Площадь опустела; в лавках отворенных лежали товары, деньги; не было ни одного человека, кроме толпы опричников у виселиц и костра пылающего. В сей тишине раздался звук бубнов: явился Царь на коне с любимым старшим сыном, с Боярами и Князьями, с легионом кромешников, в стройном ополчении; позади шли осужденные, числом 300 или более, в виде мертвецов, истерзанные, окровавленные, от слабости едва передвигая ноги. Иоанн стал у виселиц, осмотрелся, и не видя народа, велел опричникам искать людей, гнать их отовсюду на площадь; не имев терпения ждать, сам поехал за ними, призывая Москвитян быть свидетелями его суда, обещая им безопасность и милость. Жители не смели ослушаться: выходили из ям, из погребов; трепетали, но шли: вся площадь наполнилась ими; на стене, на кровлях стояли зрители. Тогда Иоанн, возвысив голос, сказал: "Народ! увидишь муки и гибель; но караю изменников! Ответствуй: прав ли суд мой?» Все ответствовали велегласно: "Да живет многие лета Государь Великий! Да погибнут изменники!» Он приказал вывести 180 человек из толпы осужденных и даровал им жизнь, как менее виновным. Потом Думный Дьяк Государев, развернув свиток, произнес имена казнимых; вызвал Висковатого и читал следующее: "Иван Михайлов, бывший Тайный Советник Государев! Ты служил неправедно его Царскому величеству и писал к Королю Сигизмунду, желая предать ему Новгород. Се первая вина твоя!» Сказав, ударил Висковатого в голову и продолжал: "А се вторая, меньшая вина твоя: ты, изменник неблагодарный, писал к Султану Турецкому, чтобы он взял Астрахань и Казань». Ударив его в другой – и в третий раз, Дьяк примолвил: "Ты же звал и Хана Крымского опустошать Россию: се твое третие злое дело!» Тут Висковатый, смиренный, но великодушный, подняв глаза на небо, ответствовал: "Свидетельствуюсь Господом Богом, ведающим сердца и помышления человеческие, что я всегда служил верно Царю и отечеству. Слышу наглые клеветы: не хочу более оправдываться, ибо земный судия не хочет внимать истине; но Судия Небесный видит мою невинность – и ты, о Государь! увидишь ее пред лицом Всевышнего!»… Кромешники заградили ему уста, повесили его вверх ногами, обнажили, рассекли на части, и первый Малюта Скуратов, сошедши с коня, отрезал ухо страдальцу. Второю жертвою был казначей Фуников-Карцов, друг Висковатого, в тех же изменах и столь же нелепо обвиняемый. Он сказал Царю: "Се кланяюся тебе в последний раз на земле, моля Бога, да приимешь в вечности праведную мзду по делам своим!» Сего несчастного обливали кипящею и холодною водою: он умер в страшных муках. Других кололи, вешали, рубили. Сам Иоанн, сидя на коне, пронзил копием одного старца. Умертвили в 4 часа около двухсот человек. Наконец, совершив дело, убийцы, облиянные кровию, с дымящимися мечами стали пред Царем, восклицая: гойда! гойда! и славили его правосудие. Объехав площадь, обозрев груды тел, Иоанн, сытый убийствами, еще не насытился отчаянием людей: желал видеть злосчастных супруг Фуникова и Висковатого; приехал к ним в дом, смеялся над их слезами; мучил первую, требуя сокровищ; хотел мучить и пятнадцатилетнюю дочь ее, которая стенала и вопила, но отдал ее сыну Царевичу Иоанну, а после вместе с материю и с женою Висковатого заточил в монастырь, где они умерли с горести.
Граждане Московские, свидетели сего ужасного дня, не видали в числе его жертв ни Князя Вяземского, ни Алексея Басманова: первый испустил дух в пытках; конец последнего – несмотря на все беспримерные, описанные нами злодейства – кажется еще невероятным: да будет сие страшное известие вымыслом богопротивным, внушением естественной ненависти к тирану, но клеветою! Современники пишут, что Иоанн будто бы принудил юного Федора Басманова убить отца своего, тогда же или прежде заставив Князя Никиту Прозоровского умертвить брата, Князя Василия! По крайней мере сын-изверг не спас себя отцеубийством: он был казнен вместе с другими.
Имение их описали на Государя; многих знатных людей сослали на Белоозеро, а Святителя Пимена, лишив сана Архиепископского, в Тульский монастырь Св. Николая; многих выпустили из темниц на поруки; некоторых даже наградили Царскою милостию. – Три дни Иоанн отдыхал: ибо надлежало предать трупы земле! В четвертый день снова вывели на площадь несколько осужденных и казнили: Малюта Скуратов, предводитель палачей, рассекал топорами мертвые тела, которые целую неделю лежали без погребения, терзаемые псами. (Там, близ Кремлевского рва, на крови и на костях, в последующие времена стояли церкви как умилительный Христианский памятник сего душегубства.) Жены избиенных Дворян, числом 80, были утоплены в реке.
Одним словом, Иоанн достиг наконец высшей степени безумного своего тиранства; мог еще губить, но уже не мог изумлять россиян никакими новыми изобретениями лютости. Скрепив сердце, опишем только некоторые из бесчисленных злодеяний сего времени.
Не было ни для кого безопасности, но всего менее для людей известных заслугами и богатством: ибо тиран, ненавидя добродетель, любил корысть. Славный Воевода, от коего бежала многочисленная рать Селимова, – который двадцать лет не сходил с коня, побеждая и Татар и Литву и Немцев, Князь Петр Семенович Оболенский-Серебряный, призванный в Москву, видел и слышал от Царя одни ласки; но вдруг легион опричников стремится к его дому Кремлевскому: ломают ворота, двери и пред лицом, у ног Иоанна отсекают голову сему, ни в чем не обвиненному Воеводе. Тогда же были казнены: Думный советник Захария Иванович Очин-Плещеев; Хабаров-Добрынский, один из богатейших сановников; Иван Воронцов, сын Федора, любимца Иоанновой юности; Василий Разладин, потомок славного в XIV веке боярина Квашни; Воевода Кирик-Тырков, равно знаменитый и Ангельскою чистотою нравов и великим умом государственным и примерным мужеством воинским, израненный во многих битвах; Герой-защитник Лаиса Андрей Кашкаров; Воевода Нарвский Михайло Матвеевич Лыков, коего отец сжег себя в 1534 году, чтобы не отдать города неприятелю, и который, будучи с юных лет пленником в Литве, выучился там языку Латинскому, имел сведения в науках, отличался благородством души, приятностию в обхождении – и ближний родственник сего Воеводы, также Лыков, прекрасный юноша, посланный Царем учиться в Германию: он возвратился было ревностно служить отечеству с душою пылкою, с разумом просвещенным! Воевода Михайловский, Никита Козаринов-Голохвастов, ожидая смерти, уехал из столицы и посхимился в каком-то монастыре на берегу Оки; узнав же, что Царь прислал за ним опричников, вышел к ним и сказал: "Я тот, кого вы ищете!» Царь велел взорвать его на бочке пороха, говоря в шутку, что схимники – Ангелы и должны лететь на небо. Чиновник Мясоед Вислой имел прелестную жену: ее взяли, обесчестили, повесили перед глазами мужа, а ему отрубили голову. Гнев тирана, падая на целые семейства, губил не только детей с отцами, супруг с супругами, но часто и всех родственников мнимого преступника. Так, кроме десяти Колычевых, погибли многие Князья Ярославские (одного из них, Князя Ивана Шаховского, Царь убил из собственных рук булавою); многие Князья Прозоровские, Ушатые, многие Заболотские, Бутурлины. Нередко знаменитые россияне избавлялись от казни славною кончиною. Два брата, Князья Андрей и Никита Мещерские, мужественно защищая новую Донскую крепость, пали в битве с Крымцами: еще трупы сих витязей, орошаемые слезами добрых сподвижников лежали непогребенные, когда явились палачи Иоанновы, чтобы зарезать обоих братьев: им указали тела их! То же случилось и с Князем Андреем Оленкиным: присланные убийцы нашли его мертвого на поле чести. Иоанн, ни мало тем не умиленный, совершил лютую месть над детьми сего храброго Князя: уморил их в заточении.
Но смерть казалась тогда уже легкою: жертвы часто требовали ее как милости. Невозможно без трепета читать в записках современных о всех адских вымыслах тиранства, о всех способах терзать человечество. Мы упоминали о сковородах: сверх того были сделаны для мук особенные печи, железные клещи, острые ногти, длинные иглы; разрезывали людей по составам, перетирали тонкими веревками надвое, сдирали кожу, выкраивали ремни из спины…
И когда, в ужасах душегубства, Россия цепенела, во дворце раздавался шум ликующих: Иоанн тешился с своими палачами и людьми веселыми, или скоморохами, коих присылали к нему из Новагорода и других областей вместе с медведями! Последними он травил людей и в гневе и в забаву: видя иногда близ дворца толпу народа, всегда мирного, тихого, приказывал выпускать двух или трех медведей и громко смеялся бегству, воплю устрашенных, гонимых, даже терзаемых ими; но изувеченных всегда награждал: давал им по золотой деньге и более. Одною из главных утех его были также многочисленные шуты, коим надлежало смешить Царя прежде и после убийств и которые иногда платили жизнию за острое слово. Между ими славился Князь Осип Гвоздев, имея знатный сан придворный. Однажды, недовольный какою-то шуткою, Царь вылил на него мису горячих щей: бедный смехотворец вопил, хотел бежать: Иоанн ударил его ножом… Обливаясь кровию, Гвоздев упал без памяти. Немедленно призвали доктора Арнольфа. "Исцели слугу моего доброго, – сказал Царь: – я поиграл с ним неосторожно». Так неосторожно (отвечал Арнольф), что разве Бог и твое Царское Величество может воскресить умершего: в нем уже нет дыхания. Царь махнул рукою, назвал мертвого шута псом, и продолжал веселиться. В другой раз, когда он сидел за обедом, пришел к нему Воевода Старицкий, Борис Титов, поклонился до земли и величал его как обыкновенно. Царь сказал: "Будь здрав, любимый мой Воевода: ты достоин нашего жалованья» – и ножом отрезал ему ухо. Титов, не изъявив ни малейшей чувствительности к боли, с лицем покойным благодарил Иоанна за милостивое наказание: желал ему царствовать счастливо! – Иногда тиран сластолюбивый, забывая голод и жажду, вдруг отвергал яства и питие, оставлял пир, громким кликом сзывал дружину, садился на коня и скакал плавать в крови. Так он из-за роскошного обеда устремился растерзать Литовских пленников, сидевших в Московской темнице. Пишут, что один из них, Дворянин Быковский, вырвал копье из рук мучителя и хотел заколоть его, но пал от руки Царевича Иоанна, который вместе с отцем усердно действовал в таких случаях, как бы для того, чтобы отнять у россиян и надежду на будущее царствование! Умертвив более ста человек, тиран при обыкновенных восклицаниях дружины: гойда! гойда! с торжеством возвратился в свои палаты и снова сел за трапезу… Однако ж и в сие время, и на сих пирах убийственных, еще слышался иногда голос человеческий, вырывались слова великодушной смелости. Муж храбрый, именем Молчан Митьков, нудимый Иоанном выпить чашу крепкого меда, воскликнул в горести: "О Царь! Ты велишь нам вместе с тобою пить мед, смешанный с кровию наших братьев, Христиан правоверных!» Иоанн вонзил в него свой острый жезл. Митьков перекрестился и с молитвою умер.
Таков был Царь; таковы были подданные! Ему ли, им ли должны мы наиболее удивляться? Если он не всех превзошел в мучительстве, то они превзошли всех в терпении, ибо считали власть Государеву властию Божественною и всякое сопротивление беззаконием; приписывали тиранство Иоанново гневу небесному и каялись в грехах своих; с верою, с надеждою ждали умилостивления, но не боялись и смерти, утешаясь мыслию, что есть другое бытие для счастия добродетели и что земное служит ей только искушением; гибли, но спасли для нас могущество России: ибо сила народного повиновения есть сила государственная.
Довершим картину ужасов сего времени: голод и мор помогали тирану опустошать Россию. Казалось, что земля утратила силу плодородия: сеяли, но не сбирали хлеба; и холод и засуха губили жатву. Дороговизна сделалась неслыханная: четверть ржи стоила в Москве 60 алтын или около девяти нынешних рублей серебряных. Бедные толпились на рынках, спрашивали о цене хлеба и вопили в отчаянии. Милостыня оскудела: ее просили и те, которые дотоль сами питали нищих. Люди скитались как тени; умирали на улицах, на дорогах. Не было явного возмущения, но были страшные злодейства: голодные тайно убивали и ели друг друга! От изнурения сил, от пищи неестественной родилась прилипчивая смертоносная болезнь в разных местах. Царь приказал заградить многие пути; конная стража ловила всех едущих без письменного вида, неуказною дорогою, имея повеление жечь их вместе с товарами и лошадьми. Сие бедствие продолжалось до 1572 года.
Но ни Судьба, ни тиран еще не насытились жертвами. Не заключим, а только прервем описание зол, чтобы с удивлением видеть Иоанна как бы равнодушного, спокойного в его неутомимой политической деятельности.
Весною в 1570 году Послы Сигизмундовы приехали в Москву для заключения мира, желая доставить его и Королю Шведскому; но Иоанн не хотел слышать о последнем. В тайной беседе они сказали Царю, что Вельможи их думают в случае Сигизмундовой, вероятно не отдаленной смерти предложить ему венец Королевский, как Государю Славянского племени, Христианину и Владыке сильному. Не изъявив ни удовольствия, ни решительного согласия, Иоанн хладнокровно ответствовал: "Милосердием Божиим и молитвами наших прародителей Россия велика: на что мне Литва и Польша? Когда же вы имеете сию мысль, то вам не должно раздражать нас затруднениями в святом деле покоя Христианского». Говорили о мире, но заключили только перемирие на три года, утвержденное Сигизмундом в Варшаве в присутствии наших Послов, которые донесли Царю, что Вельможи Литовские желают выдать за него сестру Сигизмундову Софию и видят в нем уже будущего своего властителя; что они не хотят поддаться ни Цесарю, худому защитнику и собственных земель его, ни другим Государям, более или менее слабым, в сравнении с Московским, неприятелем опасным, но и самым надежнейшим покровителем. Честолюбивый Иоанн верил и мысленно уже простирал свою кровавую десницу к венцу Ягеллонов!
Между тем он деятельно занимался Ливониею. Любимцы его, Таубе и Крузе, возвышенные им в сан Думных людей, внушили ему мысль составить из бывших Орденских земель особенное Королевство под верховною властию России, уверяя, что все жители в таком случае пристанут к нам душою и сердцем, изгонят Шведов, Литовцев и будут вместе с Королем своим вернейшими подданными Великого Государя Московского. Еще в 1565 году, как пишут, Иоанн в самых милостивых выражениях предлагал знаменитому своему пленнику Фирстенбергу быть Ливонским Владетелем и Царским присяжником; но сей великодушный старец отвечал, что для него лучше умереть в неволе, нежели изменить совести и святым обетам Рыцарства. В 1569 году Таубе и Крузе, пользуясь доверенностию Иоанновою, имели сношения с Ревельскими гражданами, склоняя их поддаться Царю, обещая им времена златые, свободу, тишину и говорили им: "Что представляет Ливония в течение двенадцати лет? картину ужасных бедствий, кровопролитий, разорений. Никто не уверен ни в жизни, ни в достоянии. Мы служим великому Царю Московскому, но не изменили своему первому, истинному отечеству, коему хотим добра и спасения. Знаем, что он намерен всеми силами ударить на Ливонию: выгнать Шведов, Поляков и Датчан. Где защитники? Германия о вас не думает: беспечность и слабость Императора вам известны. Король Датский не смеет молвить Царю грубого слова. Дряхлый Сигизмунд унижается, ищет мира в Москве, а своих Ливонских подданных только утесняет. Швеция ждет мести и казни: вы уже сидели бы в осаде, если бы жестокая язва, свирепствуя в России, не препятствовала Царю мыслить о воинских действиях. Он любит Немцев; сам происходит от Дома Баварского и дает вам слово, что под его державою не будет города счастливее Ревеля. Изберите себе властителя из Князей Германских: не вы, но единственно сей властитель должен зависеть от Иоанна, как Немецкие Принцы зависят от Императора – не более. Наслаждайтесь миром, вольностию, всеми выгодами торговли, не платя дани, не зная трудов службы воинской. Царь желает быть единственно вашим благодетелем!» В то же время они именем Иоанновым предлагали Герцогу Курляндскому Готгарду сан Ливонского Короля. Но им не верили как ненавистным слугам Московского, уже везде известного тирана. Ревель не хотел изменить Швеции, а Готгард Сигизмунду. Тогда поверенные Иоанновы обратились к Принцу Датскому Магнусу, владетелю Эзеля, и сей легкомысленный юноша, ими обольщенный, согласился быть орудием Иоанновой политики, без ведома брата своего, Короля Датского.
В знак доверенности к великим милостям, ему обещанным, Магнус сам поехал к Царю. В Дерпте услышал он о судьбе Новагорода: остановился, медлил и думал возвратиться с пути от ужаса. Но честолюбие одержало верх: он приехал в Москву с великою пышностию, на двухстах конях, со множеством слуг и чиновников; был принят с особенною благосклонностию, угощаем пирами – и через несколько дней совершилось важное дело: Царь назвал Магнуса Королем Ливонии, а Магнус Царя своим Верховным Владыкою и отцем, удостоенный чести жениться на его племяннице Евфимии, дочери несчастного Князя Владимира Андреевича. Брак отложили до благоприятнейшего времени. Иоанн обещал невесте пять бочек золота; для своего будущего зятя освободил Дерптских пленников; дал ему войско для изгнания Шведов из Эстонии. Провожаемый многими Немцами и полками Российскими, Магнус вступил в Ливонию, объявляя жителям свое Королевство, милость Иоаннову, соединение всех земель Орденских, начало тишины и благоденствия. Таубе, Крузе, уполномоченные Царем, торжественно ручались за его искренность и добрую волю; говорили и писали, что Ливония останется Державою свободною, платя только легкую дань Государю Московскому; что все наши чиновники выедут оттуда; что одни Немцы именем Короля и закона будут управлять землею. Многие верили и радовались, но недолго. Магнус, жертва честолюбия и легковерия, сделался виновником новых бедствий для несчастной Ливонии.
Слушаясь во всем Таубе и Крузе, он (23 августа) приступил к Ревелю с 5000 россиян и со многочисленною Немецкою дружиною в надежде овладеть им без кровопролития: но граждане ответствовали на его предложение, что они знают коварство Иоанна; что тиран своего народа не может быть благотворителем чужого; что неопытный юный Магнус имеет советников или злонамеренных или безрассудных; что ему готовится в России участь Князя Михайла Глинского, но что Ревель не хочет уподобиться Смоленску. Началась осада, вылазки и смертоносные болезни как в городе, так и в стане россиян, которые оказывали более терпения, нежели искусства и храбрости. Земляные работы изнуряли осаждающих бесполезно; действие их огнестрельного снаряда было слабо. Заняв высоты пред самыми воротами Ревельскими и построив деревянные башни, они пускали гранаты, каленые ядра в крепость без важного вреда для неприятеля. Настала осень, зима. Воеводы Московские, Боярин Иван Петрович Яковлев, Князья Лыков, Кропоткин, не умея взять Ревеля, только грабили села Эстонские и в феврале отпустили в Россию 2000 саней, наполненных добычею. Ждали, что голод заставит осажденных сдаться; но Шведский флот успел доставить им изобилие в съестных и воинских припасах. Наконец войско уже изъявляло неудовольствие. Магнус был в отчаянии; винил Царских советников, Таубе и Крузе; не знал, что делать, и послал Духовника своего, Шраффера, с новыми убеждениями к Ревельским гражданам. Сей красноречивый Пастор бесстыдно уверял их, что Иоанн есть Государь истинно Христианский, любит Церковь Латинскую более Греческой и легко может пристать к Аугсбургскому исповеданию; что он строг по необходимости для одних россиян, а Немцам друг истинный; что Ревель бесполезным сопротивлением удаляет златой век, даруемый Ливонии в особе юного Короля. Граждане велели ему идти назад без ответа – и 16 марта, стояв под Ревелем 30 недель, Магнус снял осаду, зажег стан, ушел с своею Немецкою дружиною в Оберпален, данный ему Царем в залог будущего Королевства; а наше войско расположилось в восточной Ливонии.
Сия первая неудача должна была оскорбить Царя. В то же время сведав о мире Короля Датского с Шведским, он изъявил Магнусу живейшее неудовольствие, обвиняя брата его в нарушении союза с Россиею и в дружбе с ее злодеем. Другое неожиданное происшествие еще более встревожило и Царя и Магнуса. Обязанные Иоанну свободою, знатностию, богатством, Крузе и Таубе, после несчастной Ревельской осады утратив доверенность нового Короля Ливонского, боясь утратить и Государеву, забыли клятву, честь – вступили в тайные сношения с Шведами, с Поляками и вознамерились овладеть Дерптом, чтобы отдать его тем или другим. Способ казался легким: они могли располагать дружиною Немецких воинов, которые, служа Царю за деньги, не усомнились изменить ему. Знатные жители Дерптские, быв долго пленниками в России, более других Ливонцев ненавидели ее господство: следственно можно было надеяться на их ревностное содействие. С сею мыслию заговорщики вломились в город; умертвили стражу; звали к себе друзей, братьев; кричали, что настал час свободы и мести. Но изумленные граждане остались только зрителями: никто не пристал к изменникам, с коими россияне в несколько минут управились: одних изрубили, других выгнали, и, считая жителей предателями, в остервенении умертвили многих невинных. Таубе и Крузе спаслися бегством: отверженные Ревельцами, не хотевшими ни слушать, ни видеть их, они искали убежища в Польских владениях, где Король и в особенности Герцог Курляндский приняли сих безрассудных с великою честию, в надежде сведать от них важные государственные тайны России, но сведали единственно о всех ужасах тиранства Иоаннова! За год до того времени Таубе и Крузе писали к Императору Максимилиану, что один Иоанн может изгнать Турков из Европы, имея войско бесчисленное, опытное, непобедимое: изменив России, они уверяли Максимилиана и других Европейских Государей в ее бессилии и в возможности завоевать или по крайней мере стеснить оную! – Опасаясь быть жертвою их измены и гнева Иоаннова, Магнус, хотя и невинный, спешил уехать из Оберпалена на остров Эзель.
Но Царь умел быть твердым в намерениях, скрывать внутреннюю досаду, казаться хладнокровным в самых важных несгодах. Он старался успокоить Магнуса новыми уверениями в своей милости; с горестию известив его о внезапной кончине невесты, юной Евфимии, предложил ему руку малолетней сестры ее, Марии, с такими ж условиями, с тем же богатым приданым и снова обещал завоевать для него Эстонию. Магнус утешился: с благодарностию принял опять имя жениха Царской племянницы; ждал с нею Королевства и писал к брату, к Императору, к Князьям Германии, что не суетное честолюбие, но истинное усердие к общему благу Христиан заставило его искать союза России, дабы сделаться посредником между Империею и сею великою державою, которая может вместе с другими европейскими Венценосцами восстать для обуздания Турции. Сию надежду имел и сам Император и вся Германия, устрашаемая Султанским властолюбием; но Иоанн, как увидим, не думал о славе защитить Христианскую Европу от Магометанского оружия: думал единственно о выгодах своей особенной политики – о вернейшем способе овладеть всею Ливониею и смирить гордость Ревельцев, которые дерзали торжественно именовать его тираном и величались победою, одержанною над россиянами, уставив ежегодно праздновать ее память 16 марта. Он готовил месть, замедленную тогда ужаснейшим бедствием Москвы и всей юго-восточной России.
Следуя правилу не умножать врагов России, Иоанн хотел отвратить новую, бесполезную войну с Султаном, коего добрая к нам приязнь могла обуздывать Хана: для того (в 1570 году) Дворянин Новосильцов ездил в Константинополь поздравить Селима с воцарением. Иоанн в ласковом письме к нему исчислял все дружественные сношения России с Турциею от времен Баязета; удивлялся впадению Селимовой рати в наши владения без объявления войны; предлагал и мир и дружбу. "Мой Государь, – должен был сказать Новосильцов Вельможам Султанским, – не есть враг Мусульманской Веры. Слуга его, Царь Саин-Булат, господствует в Касимове, Царевич Кайбула в Юрьеве, Ибак в Сурожике, Князья Ногайские в Романове: все они свободно и торжественно славят Магомета в своих мечетях: ибо у нас всякий иноземец живет в своей Вере. В Кадоме, в Мещере многие приказные Государевы люди Мусульманского Закона. Если умерший Царь Казанский Симеон, если Царевич Муртоза сделались Христианами, то они сами желали, сами требовали крещения». Новосильцов был доволен благосклонным приемом, заметив только, что Султан не спрашивал его о здравии Иоанна и, в противность нашему обыкновению, не звал обедать с собою. Но сие Посольство и другое (в 1571 году) не имели желаемого следствия, хотя Царь, в угодность Селиму, согласился уничтожить новую крепость нашу в Кабарде. Гордый Султан хотел Астрахани и Казани, или того, чтобы Иоанн, владея ими, признал себя данником Оттоманской Империи. Предложение столь нелепое осталось без ответа. В то же время Царь узнал, что Селим просит Киева у Сигизмунда для удобнейшего впадения в Россию; что он велел делать мосты на Дунае и запасать хлеб в Молдавии; что Хан, возбуждаемый Турками, готовится к войне с нами; что Царевич Крымский разбил тестя Государева, Темгрюка, и взял в плен двух его сыновей. Уже Девлет-Гирей в непосредственных сношениях с Москвою снова начал грозить, требовать дани и восстановления Царств Батыевых, Казанского, Астраханского. Уже из Донкова, из Путивля извещали Государя о движениях Ханского войска: разъезды наши видели в степях пыль необычайную, огни ночью, сакму или следы многочисленной конницы; слышали вдали прыск и ржание табунов. Полководцы Московские стояли на Оке. Два раза сам Иоанн с сыном своим выезжал к войску, в Коломну, в Серпухов. Уже были и легкие сшибки, в местах Рязанских и Коширских; но Крымцы везде являлись в малом числе, немедленно исчезая, так что Государь наконец успокоился – объявил донесения Сторожевых Атаманов неосновательными – и зимою распустил большую часть войска…
[1571 г.] Тем более он встревожился при наступлении весны, хотя Хан, вооружив всех своих улусников, тысяч сто или более, с необыкновенною скоростию вступил в южные пределы России, где встретили его некоторые беглецы, наши Дети Боярские, изгнанные из отечества ужасом Московских казней: сии изменники сказали Девлет-Гирею, что голод, язва и непрестанные опалы в два года истребили большую часть Иоаннова войска; что остальное в Ливонии и в крепостях; что путь к Москве открыт; что Иоанн только для славы, только для вида может выйти в поле с малочисленною опричниною, но не замедлит бежать в Северные пустыни; что в истине того они ручаются своею головою, и будут верными путеводителями Крымцев. Изменники, к несчастию, сказала правду: мы имели уже гораздо менее Воевод мужественных и войска исправного. Князья Бельский, Мстиславский, Воротынский, Бояре Морозов, Шереметев, спешили, как обыкновенно, занять берега Оки, но не успели: Хан обошел их и другим путем приближился к Серпухову, где был сам Иоанн с опричниною. Требовалось решительности, великодушия: Царь бежал!.. в Коломну, оттуда в Слободу, мимо несчастной Москвы; из Слободы к Ярославлю, чтобы спастися от неприятеля, спастися от изменников: ибо ему казалось, что и Воеводы и Россия выдают его Татарам! Москва оставалась без войска, без начальников, без всякого устройства: а Хан уже стоял в тридцати верстах! Но Воеводы Царские с берегов Оки, не отдыхая, приспели для защиты – и что же сделали? Вместо того, чтобы встретить, отразить Хана в поле, заняли предместия Московские, наполненные бесчисленным множеством беглецов из деревень окрестных; хотели обороняться между тесными, бренными зданиями. Князь Иван Бельский и Морозов с большим полком стали на Варламовской улице; Мстиславский и Шереметев с правою рукою на Якимовской; Воротынский и Татев на Таганском лугу против Крутиц; Темкин с дружиною опричников за Неглинною. На другой день, мая 24, в праздник Вознесения, Хан подступил к Москве – и случилось, чего ожидать надлежало: он велел зажечь предместия. Утро было тихое, ясное. россияне мужественно готовились к битве, но увидели себя объятыми пламенем: деревянные домы и хижины вспыхнули в десяти разных местах. Небо омрачилось дымом; поднялся вихрь и чрез несколько минут огненное, бурное море разлилось из конца в конец города с ужасным шумом и ревом. Никакая сила человеческая не могла остановить разрушения: никто не думал тушить; народ, воины в беспамятстве искали спасения и гибли под развалинами пылающих зданий, или в тесноте давили друг друга, стремясь в город, в Китай, но отовсюду гонимые пламенем бросались в реку и тонули. Начальники уже не повелевали, или их не слушались: успели только завалить Кремлёвские ворота, не впуская никого в сие последнее убежище спасения, огражденное высокими стенами. Люди горели, падали мертвые от жара и дыма в церквах каменных. Татары хотели, но не могли грабить в предместиях: огонь выгнал их, и сам Хан, устрашенный сим адом, удалился к селу Коломенскому. В три часа не стало Москвы: ни посадов, ни Китая-города; уцелел один Кремль, где в церкви Успения Богоматери сидел Митрополит Кирилл с святынею и с казною; Арбатский любимый дворец Иоаннов разрушился. Людей погибло невероятное множество: более ста двадцати тысяч воинов и граждан, кроме жен, младенцев и жителей сельских, бежавших в Москву от неприятеля; а всех около восьмисот тысяч. Главный Воевода Князь Бельский задохнулся в погребе на своем дворе, также Боярин Михайло Иванович Вороной, первый доктор Иоаннов, Арнольф Лензей, и 25 Лондонских купцев. На пепле бывших зданий лежали груды обгорелых трупов человеческих и конских. "Кто видел сие зрелище, – пишут очевидцы, – тот вспоминает об нем всегда с новым ужасом и молит Бога не видать оного вторично».
Девлет- Гирей совершил подвиг: не хотел осаждать Кремля, и с Воробьевых гор обозрев свое торжество, кучи дымящегося пепла на пространстве тридцати верст, немедленно решился идти назад, испуганный, как уверяют, ложным слухом, что Герцог или Король Магнус приближается с многочисленным войском. Иоанн, в Ростове получив весть об удалении врага, велел Князю Воротынскому идти за Ханом, который однако ж успел разорить большую часть юго-восточных областей Московских и привел в Тавриду более ста тысяч пленников. Не имея великодушия быть утешителем своих подданных в страшном бедствии, боясь видеть феатр ужаса и слез, Царь не хотел ехать на пепелище столицы: возвратился в Слободу и дал указ очистить Московские развалины от гниющих трупов. Хоронить было некому: только знатных или богатых погребали с Христианскими обрядами; телами других наполнили Москву-реку, так что ее течение пресеклось: они лежали грудами, заражая ядом тления и воздух и воду; а колодези осушились или были засыпаны: остальные жители изнемогали от жажды. Наконец собрали людей из окрестных городов; вытаскали трупы из реки и предали их земле. – Таким образом, фиал гнева Небесного излиялся на Россию. Чего не доставало к ее бедствиям, после голода, язвы, огня, меча, плена и – тирана? Теперь увидим, сколь тиран был малодушен в сем первом, важнейшем злоключении своего Царствования. 15 июня он приближился к Москве и остановился в Братовщине, где представили ему двух гонцов от Девлет-Гирея, который, выходя из России, как величавый победитель желал с ним искренно объясниться. Царь был в простой одежде: Бояре и Дворяне также в знак скорби или неуважения к Хану. На вопрос Иоаннов о здравии брата его, Девлет-Гирея, чиновник Ханский ответствовал: "Так говорит тебе Царь наш, мы назывались друзьями; ныне стали неприятелями. Братья ссорятся и мирятся. Отдай Казань с Астраханью: тогда усердно пойду на врагов твоих». Сказав, гонец явил дары Ханские: нож, окованный золотом, и примолвил: "Девлет-Гирей носил его на бедре своей: носи и ты. Государь мой еще хотел послать тебе коня; но кони наши утомились в земле твоей». Иоанн отвергнул сей дар непристойный и велел читать Девлет-Гирееву грамоту: "Жгу и пустошу Россию (писал Хан) единственно за Казань и Астрахань; а богатство и деньги применяю к праху. Я везде искал тебя, в Серпухове и в самой Москве; хотел венца и головы твоей: но ты бежал из Серпухова, бежал из Москвы – и смеешь хвалиться своим Царским величием, не имея ни мужества, ни стыда! Ныне узнал я пути Государства твоего: снова буду к тебе, если не освободишь посла моего, бесполезно томимого неволею в России; если не сделаешь, чего требую, и не дашь мне клятвенной грамоты за себя, за детей и внучат своих». Как же поступил Иоанн, столь надменный против Христианских, знаменитых Венценосцев Европы? Бил челом Хану: обещал уступить ему Астрахань при торжественном заключении мира; а до того времени молил его не тревожить России; не отвечал на слова бранные и насмешки язвительные; соглашался отпустить Посла Крымского, если Хан отпустит Афанасия Нагого и пришлет в Москву Вельможу для дальнейших переговоров. Действительно готовый в крайности отказаться от своего блестящего завоевания, Иоанн писал в Тавриду к Нагому, что мы должны по крайней мере вместе с Ханом утверждать будущих Царей Астраханских на их престоле; то есть желал сохранить тень власти над сею Державою. Изменяя нашей государственной чести и пользе, он не усомнился изменить и правилам Церкви: в угодность Девлет-Гирею выдал ему тогда же одного знатного Крымского пленника, сына Княжеского, добровольно принявшего в Москве Веру Христианскую; выдал на муку или на перемену Закона к неслыханному соблазну для Православия.
Унижаясь пред врагом, Иоанн как бы обрадовался новому поводу к душегубству в бедной земле своей, и еще Москва дымилась, еще Татары злодействовали в наших пределах, а Царь уже казнил и мучил подданных! Мы видели, что изменники Российские вели Девлет-Гирея к столице: сею изменою Иоанн мог изъяснять успех неприятеля; мог, как и прежде, оправдывать исступления своего гнева и злобы: нашел и другую вину, не менее важную. Скучая вдовством, хотя и не целомудренным, он уже давно искал себе третьей супруги. Впадение Ханское прервало сие дело; когда же опасность миновалась, Царь снова занялся оным. Из всех городов свезли невест в Слободу, и знатных и незнатных, числом более двух тысяч; каждую представляли ему особенно. Сперва он выбрал 24, а после 12, коих надлежало осмотреть доктору и бабкам; долго сравнивал их в красоте, в приятностях, в уме; наконец предпочел всем Марфу Васильевну Собакину, дочь купца Новогородского, в то же время избрав невесту и для старшего Царевича, Евдокию Богдановну Сабурову. Отцы счастливых красавиц из ничего сделались Боярами, дяди будущей Царицы Окольничими, брат Крайчим; возвысив саном, их наделили и богатством, добычею опал, имением отнятым у древних родов Княжеских и Боярских. Но Царская невеста занемогла; начала худеть, сохнуть: сказали, что она испорчена злодеями, ненавистниками Иоаннова семейственного благополучия, и подозрение обратилось на ближних родственников Цариц умерших, Анастасии и Марии. Разыскивали – вероятно, страхом и лестию домогались истины или клеветы. Не знаем всех обстоятельств: знаем только, кто и как погиб в сию пятую эпоху убийств. Шурин Иоаннов Князь Михайло Темгрюкович, суровый Азиатец, то знатнейший Воевода, то гнуснейший палач, осыпаемый и милостями и ругательствами, многократно обогащаемый и многократно лишаемый всего в забаву Царю, должен был с полком опричников идти вслед за Девлет-Гиреем: он выступил – и вдруг, сраженный опалою, был посажен на кол! Вельможу Ивана Петровича Яковлева (прощенного в 1566 году), брата его, Василия, бывшего пестуном старшего Царевича, и Воеводу Замятню Сабурова, родного племянника несчастной Соломониды, первой супруги отца Иоаннова, засекли, а боярина Льва Андреевича Салтыкова постригли в Монахи Троицкой обители и там умертвили. Открылись казни иного рода: злобный клеветник доктор Елисей Бомелий, о коем мы упоминали, предложил Царю истреблять лиходеев ядом и составлял, как уверяют, губительное зелие с таким адским искусством, что отравляемый издыхал в назначаемую тираном минуту. Так Иоанн казнил одного из своих любимцев Григория Грязного, Князя Ивана Гвоздева-Ростовского и многих других, признанных участниками в отравлении Царской невесты или в измене, открывшей путь Хану в Москве. Между тем Царь женился (28 октября) на больной Марфе, надеясь, по его собственным словам, спасти ее сим действием любви и доверенности к милости Божией; чрез шесть дней женил и сына на Евдокии; но свадебные пиры заключились похоронами: Марфа 13 ноября скончалась, быв или действительно жертвою человеческой злобы или только несчастною виновницею казни безвинных. Во всяком случае Царственный гроб ее, стоящий подле двух супруг Иоанновых, в Девичьем монастыре Вознесенском, есть предмет умиления и горестных мыслей для потомства.
Утешенный местию, Иоанн искал дальнейшего рассеяния в делах государственных. Боясь вторичного Ханского нашествия и желая взять меры для безопасности Москвы, он уничтожил ее посады: всех купцев и мещан перевел оттуда в город и запретил им строить высокие деревянные домы, опасные в случае пожара; осмотрел, распорядил войско; велел Касимовскому Царю, Саин-Булату, с передовою дружиною идти на Шведов к Орешку, и сам отправился в Новгород. Казалось, что ему нелегко было увидеть сие позорище лютых казней, ужасное знамение его гнева, – то место, где в страшном безмолвии людей камни вопияли на губителя, – место скорби, уныния, нищеты и болезней, которые там еще свирепствовали. Наместники Новогородские велели собраться всем жителям пред пустым необитаемым двором Архиепископским и читали им грамоту Иоаннову: Царь писал, чтобы они были спокойны и готовили, по древнему обычаю, запасы для его прибытия. Очистили ему двор и сад на Никитской улице; поставили в Софийской церкви новое место Царское и над ним златого голубя как бы в знак примирения и незлобия; обновили и место Святительское в сем без владыки осиротелом храме. Взяли строгие меры для безопасности Царского здравия: не велели хоронить в городе людей, умирающих от болезни заразительной; отвели для них кладбище на берегу Волхова, близ монастыря Хутынского; с утра до ночи ходили стражи по улицам, осматривая домы и запирая те, в коих сей недуг обнаруживался; не пускали к больным и Священников, угрожая тем и другим, в случае непослушания, сожжением на костре. Сия жестокая строгость имела однако ж благодетельное следствие: в начале зимы Духовенство объявило торжественно Посланнику Государеву, что мор совершенно прекратился в Новегороде – и 23 Декабря для обрадования жителей, приехал к ним новый их Архиепископ Леонид, поставленный в Москве из Архимандритов Чудовского монастыря; а на другой день и сам Государь с детьми своими и с знатнейшими чиновниками. Еще двор Иоаннов, несмотря на избиение столь многих Вельмож, казался пышным и блестящим; еще являлись у трона мужи, украшенные сединою и заслугами. Походную или воинскую Думу его составляли тогда Бояре и Князья Мстиславский, Воротынский, Пронский, Трубецкой, Одоевский, Сицкий, Шереметев и знатнейший между ими Петр Тутаевич Шийдяков Ногайский; Окольничий Василий Собакин; Думные Дворяне Малюта Скуратов и Черемисинов; Печатник Олферьев; Дьяки Андрей и Василий Яковлевы Щелкаловы, главные дельцы по смерти злосчастного Ивана Махайловича Висковатого. Полки собирались в Орешке и в Дерпте, чтобы воевать вместе и Финляндию и Эстонию в отмщение Королю Шведскому за неисполнение Эрикова безумного договора и за неудачу Магнуса под Ревелем.