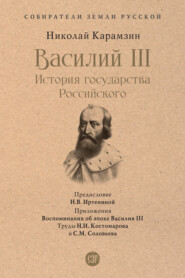По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Письма русского путешественника
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Везде в Эльзасе приметно волнение. Целые деревни вооружаются, и поселяне пришивают кокарды к шляпам. Почтмейстеры, постиллионы, бабы говорят о революции.
А в Стразбурге начинается новый бунт. Весь здешний гарнизон взволновался. Солдаты не слушаются офицеров, пьют в трактирах даром, бегают с шумом по улицам, ругают своих начальников и проч. В глазах моих толпа пьяных солдат остановила ехавшего в карете прелата и принудила его пить пиво из одной кружки с его кучером, за здоровье нации. Прелат бледнел от страха и трепещущим голосом повторял: «Mes amis, mes amis!» – «Oui, nous sommes Vos amis![63 - Друзья мои! Друзья мои! – Да, мы ваши друзья! (франц.).] – кричали солдаты. – Пей же с нами!» Крик на улицах продолжается почти беспрерывно. Но жители затыкают уши и спокойно отправляют свои дела. Офицеры сидят под окном и смеются, смотря на неистовых. – Я был ныне в театре и, кроме веселости, ничего не приметил в зрителях. Молодые офицеры перебегали из ложи в ложу и от всего сердца били в ладоши, стараясь заглушить шум пьяных бунтовщиков, который раза три приводил в замешательство актеров на сцене.
Между тем в самых окрестностях Стразбурга толпы разбойников грабят монастыри. Сказывают, что по деревням ездил какой-то человек, который называл себя графом дАртуа и возбуждал поселян к мятежу, говоря, что король дает народу полную свободу до 15 августа и что до сего времени всякий может делать что хочет. Сей слух заставил здешнего начальника обнародовать, что одна адская злоба, достойная неслыханного наказания, могла распустить такой слух. –
Здешняя кафедральная церковь есть величественное готическое здание, и башня ее почитается за самую высочайшую пирамиду в Европе. Вошедши во внутренность сего огромного храма, в котором никогда ясного света не бывает, нельзя не почувствовать благоговения; но кто хочет питать в себе это священное чувство, тот не смотри на барельефы карнизов и колонн, где вы увидите престранные и смешные аллегорические фигуры. Например, ослы, обезьяны и другие звери изображены в монашеской одежде разных орденов; иные с важностью идут в процессии, другие прыгают и проч. На одном барельефе представлен монах с монахинею в самом непристойном положении. – Богатые одежды священников и украшение олтарей показывают за диковинку. Одно серебряное распятие, подаренное церкви Людовиком XIV, стоит 60 000 талеров. – По круглой лестнице, состоящей из 725 ступеней, всходил я почти на самый верх башни, откуда без некоторого ужаса не мог смотреть вниз. Люди на улицах представлялись ползающими насекомыми, и целый город, казалось, можно было в минуту измерить аршином. Деревни вокруг Стразбурга едва были приметны; миль за десять и более синелись горы. Говорят, что в самую ясную погоду можно видеть и снежные верхи Альпийских гор; но я не видал их, сколько ни напрягал свое зрение. – Часы сей башни, по разнообразным своим движениям, считались некогда чудом механики; но вероятно, что нынешние гордые художники не так думают. – Между колоколами, из которых самый большой весом в 204 центнера, показывали мне так называемый серебряный, весом в 48 центнеров, и сказывали, что в него благовестят только в Иванов день. Там же хранится большой охотничий рог, которым, лет за четыреста перед сим, здешние жиды хотели подать сигнал неприятелю для взятия Стразбурга. Заговор открылся; многие из жидов были сожжены, многие разорены, а другие выгнаны из города. В память счастливо разрушенного заговора трубят в этот рог всякую ночь два раза. – На стенах колокольни путешественники пишут свои имена, или стихи, или что кому вздумается. Я нашел и русские следующие надписи: «Мы здесь были и устали до смерти». – «Высоко!» – «Здравствуй, брат земляк!» – «Какой же вид!»
В лютеранской церкви Св. Томаса видел я мраморный монумент маршала, графа Саксонского, славное произведение резца Пигалева. Маршал с жезлом своим сходит по ступеням в могилу и с презрением смотрит на смерть, которая открывает гроб. На правой стороне два льва и орел, в ужасе и смятении, изображают соединенные армии, побежденные графом во Фландрии. На левой стороне представлена Франция в образе прекрасной женщины, которая, со всеми знаками живой горести, хочет одною рукою удержать его, а другою отталкивает смерть. Печальный гений жизни обращает к земле свой факел; и на сей же стороне развеваются победоносные знамена Франции. – Художник хотел, чтобы удивлялись его искусству; по мнению знатоков, он достиг своей цели. Я, не будучи знатоком, смотрел на фигуры – на ту, на другую, на третью – и был в своем сердце так холоден, как мрамор, из которого они сделаны. Смерть, в образе скелета, одетого мантиею, была мне противна. Древние не так изображали ее, – и горе новым художникам, пугающим нас такими представлениями! На лице героя желал бы я видеть другое выражение. Мне хотелось бы, чтобы он имел более внимания к горестной Франции, нежели к гнусному скелету. Коротко сказать, Пигаль, по моему чувству, есть искусный художник, но худой поэт. – Под сим монументом, в темном своде, поставлен гроб, в котором лежит бальзамированное тело маршала; сердце заключено в сосуде, стоящем на гробе, а внутренность погребена в земле. Людовик XV, по своей чувствительности или по чему иному, не хотел исполнить последнего желания маршала умирающего, которое состояло в том, чтобы тело его было сожжено. «Quil ne reste rien de moi dans le monde, – сказал он, – que ma mеmoire parmi mes amis!»[64 - Пусть ничто не сохранится от меня в мире, лишь бы остаться в памяти моих друзей (франц.).]
Здешний университет так же почти славен, как лейпцигский и геттингенский. Многие немцы и англичане приезжают сюда учиться. Только из стразбургских профессоров очень немногие известны в ученом, свете как авторы. Их называют ленивыми в сравнении с другими. Может быть, они богатее других, а в Германии бедность делает многих авторами. –
Наконец, о городе скажу вам, что он многолюден, но что улицы тесны и нельзя похвалить архитектуры домов.
Головной убор женщин здесь весьма странен. Крепко счесанные и насаленные волосы связываются (то есть передние с задними) на средине головы; а наверху пришивается маленькая корона. Ничего не может быть безобразнее такого убора. –
Что принадлежит до здешнего немецкого языка, то он очень испорчен. В лучших обществах говорят всегда по-французски.
Я надеялся здесь найти письмо от А, но не нашел. Когда-то от вас, мои любезные, получу письма! Живы ли вы? Здоровы ли вы? Что с вами делается? Спрашиваю, и никакой гений не шепчет мне на ухо ответа. Путешествовать приятно, но расставаться с друзьями больно…
П. П. Мне сказывали, что Лафатер за несколько дней пред сим был в Базеле для свидания с Неккером. Я познакомился с одним магистром, очень любезным человеком, который водил меня в университет, в анатомический театр, в медицинский сад, в котором ныне за обедом и за ужином пил здоровье отечественных друзей моих. За ужином у нас был превеликий спор между офицерами о том, что делать в нынешних обстоятельствах честному человеку, французу и офицеру? «Положить руку на эфес, – говорили одни, – и быть в готовности защищать правую сторону». – «Взять абшид», – говорили другие. «Пить вино и над всем смеяться», – сказал пожилой капитан, опорожнив свою бутылку.
47
Базель
«Берегитесь, государи мои! – сказал нам в Стразбурге один офицер, когда я с другими путешественниками садился в дилижанс. – Дорога не совсем безопасна; в Эльзасе много разбойников». Мы посмотрели друг на друга. «У кого не много денег, тот не боится разбойников», – сказал молодой женевец, который приехал со мною из Франкфурта. «У меня есть кортик и собака», – сказал молодой человек в красном камзоле, севший подле меня. «Чего бояться!» – сказали все мы; поехали и приехали в Базель благополучно.
Эльзас есть прекрасная земля. Города и деревни, через которые мы проезжали, все хорошо выстроены. На той и на другой стороне дороги плодоносные поля, Лотарингские горы с развалинами рыцарских и разбойничьих замков представляют для глаз нечто романическое и придают разнообразие виду обширных равнин, утомительных для зрения. Сии горы более и более удаляются и темнеют, так что, наконец, не можно видеть на них ничего, кроме мрака. С другой стороны, за Рейном, возвышаются черные хребты Шварцвальдских гор и в неизмеримом расстоянии ограничивают горизонт. Близ дороги изредка попадаются в глаза дерева и маленькие рощицы.
Французская почта гораздо скорее немецкой. Постиллион (в синем камзоле с красным воротником и в таких сапогах, которые были бы впору гиганту в водяной болезни) беспрестанно машет хлыстом и понуждает коней своих бежать рысью. На шести, девяти и двенадцати верстах переменяют лошадей, и на каждой станции надобно платить прогоны вперед, нашими деньгами копеек по двадцати за милю (lieue). Из Стразбурга выехали мы в шесть часов поутру, а в восемь часов вечера были уже за три версты от Базеля, то есть переехали в день 29 французских миль, или 87 верст. Тут надлежало нам ночевать, для того что ровно в восемь часов запираются в Базеле ворота, которых уже до утра ни для кого и ни для чего не отворяют.
С молодым человеком в красном камзоле успел я коротко познакомиться. Он сын придворного копенгагенского аптекаря Беккера, учился в Германии медицине и химии (последней – у славного берлинского профессора Клапрота) и прошел большую часть Германии пешком, один, с своею собакою и с кортиком на бедре, пересылая через почту чемодан свой из города в город. В Стразбурге заболела у него нога и принудила его сесть в дилижанс. Теперь хочет он видеть все примечания достойнейшее в Швейцарии, а потом отправится во Францию и в Англию. Со всею нежностию дружбы любит он свою собаку и дорогою беспрестанно смотрел, бежит ли она за каретою; когда же приметил, мили за две не доезжая до нашего ночлега, что она устала и начала отставать, то, пожелав нам счастливого пути, вышел сам из дилижанса, чтобы брести потихоньку с своим другом. – Здесь, в Базеле, остановились мы с ним в одном трактире, под вывескою «Аиста».
Итак, я уже в Швейцарии, в стране живописной натуры, в земле свободы и благополучия! Кажется, что здешний воздух имеет в себе нечто оживляющее: дыхание мое стало легче и свободнее, стан мой распрямился, голова моя сама собою подымается вверх, и я с гордостью помышляю о своем человечестве.
Базель более всех городов в Швейцарии, но, кроме двух огромных домов банкира Саразеня, не заметил я здесь никаких хороших зданий, и улицы чрезмерно худо вымощены. Жителей по обширности города очень немного, и некоторые переулки заросли травою. Рейн разделяет Базель на две части; и хотя сия река здесь не так широка, как в Маинце, однако ж, по быстрейшему своему течению и по светлости воды своей, показалась мне гораздо приятнее. Только здесь она совершенно пуста; не видно на ней ни одного судна, ни одной лодочки. Не знаю, для чего базельцы не пользуются выгодами судоходства, производя довольно важный торг с немцами и отправляя в Германию полотна, ленты, шелковые материи и другие произведения своих мануфактур.
В так называемом Минстере, или главной базельской церкви, видел я многие старые монументы с разными надписями, показывающими бедность разума человеческого в средних веках. Монументы Эразма и супруги императора Рудольфа I были для меня примечательнее других. Первый считался в свое время ученейшим и остроумнейшим человеком в Европе, в доказательство чего может служить следующий, может быть, уже известный вам, анекдот: Эразм, приехав в Лондон, посетил Томаса Моруса, великого государственного канцлера, и, не сказав ему своего имени, вступил с ним в разговор о политике, религии и других предметах. Морус, будучи восхищен его разумом и красноречием, вскочил наконец с своего места и воскликнул: «Ты Эразм или демон!» – Из сочинений его самое известнейшее есть «Похвала дурачеству», в котором он смеется над всеми состояниями жизни, а наиболее над монашеским, не щадя и самого папы. Некоторые шутки, конечно, довольно остры, но многие грубы, сухи и натянуты – и вообще книга сия довольно скучна для тех, которые уже читали остроумные сочинения Вольтеров и Виландов осьмого-надесять века. – Минстер стоит на высоком месте, обсаженном деревьями, откуда вид очень хорош.
В публичной библиотеке показывают многие редкие рукописи и древние медали, которых цену знают только антикварии и нумисматографы; а что принадлежит до меня, то я с большим примечанием и удовольствием смотрел там на картины славного Гольбеина, базельского уроженца и друга Эразмова. Какое прекрасное лицо у Спасителя на вечери! Иуду, как он здесь представлен, узнал бы я всегда и везде. В Христе, снятом со креста, не видно ничего божественного, но как умерший человек изображен он весьма естественно. По преданию рассказывают, что Гольбеин писал его с одного утопшего жида. Страсти Христовы изображены на осьми картинах. – В ратуше есть целая зала, расписанная аль-фреско Гольбеином. Знатоки говорят о сем живописце, что фигуры его вообще весьма хороши, что тело писал он живо, но одежду очень дурно. – В ограде церкви Св. Петра, на стене за решеткою, видел я и славный «Танец мертвых», который, по крайней мере отчасти, считают за Гольбеинову работу. Смерть ведет на тот свет людей всякого состояния: и пану и нимфу радости, и короля и нищего, и доброго и злого. Не будучи знатоком, могу сказать, что, конечно, не одно воображение и не одна кисть произвели сей ряд фигур: столь хороши некоторые и столь дурны прочие! Я заметил три или четыре лица, весьма выразительные и, конечно, достойные левой Гольбеиновой руки[65 - Гольбеин писал левою рукою.]. Впрочем, вся картина испорчена воздухом и сыростию.
Между прочими Гольбеиновыми картинами, которыми гордится Базель, есть прекрасный портрет одной молодой женщины, славной в свое время. Живописец изобразил ее в виде Лаисы (по чему легко можно догадаться, какого рода была слава ее), а подле нее представил Купидона, облокотившегося на ее колени и держащего в руке стрелу. Сия картина найдена была на олтаре, где народ поклонялся ей под именем богоматери; и на черных рамах ее написано золотыми буквами: «Verbum Domini manet In aeternum» (слово господне пребывает вовеки).
Кабинет господина Феша есть достойный предмет любопытства всех путешественников, любящих искусство. Его ценят в 150 000 талеров. Конечно, не многие из частных людей в Европе имеют такое собрание прекрасных картин, и, конечно, не многие из богачей имеют такой вкус, как г. Феш. Но сколько завидны драгоценные его картины, столько же, или еще более, завиден для меня и тот прекрасный вид, которым наслаждается сей любимец Фортуны, смотря из окон своего кабинета на величественный Реин и взором своим следуя за его течением между двумя великими государствами. Тут Франция, Швейцария и Германия представляются глазам в разнообразной картине, под голубым сводом неба – и я мог бы целый день неподвижно простоять в сем магическом кабинете, смотреть и тихо в душе восхищаться, если бы не побоялся быть в тягость господину Фешу. – На дворе перед его домом показывают деревянную и очень топорно выработанную статую императора Рудольфа I. Он представлен сидящим на троне в порфире и со всеми знаками своего достоинства. Его избрали в императоры в самое то время, когда он войсками своими окружил Базель, после чего отворили ему городские ворота – и он жил здесь, сказывают, точно в том доме, в котором живет теперь г. Феш.
Ныне за обедом был я свидетелем трогательного явления. Пожилой человек, кавалер св. Людовика, сидел на конце стола с пожилою дамою. На лицах их изображалась горесть и бледность изнеможения. Они не брали участия в общем разговоре; взглядывали иногда друг на друга и утирали платком покрасневшие глаза свои. Все смотрели на них с почтительным сожалением и с видом скрываемого любопытства. Молодой женевец, сидевший подле меня, сказал мне на ухо: «Это – знатный французский дворянин со своею женою, который по нынешним обстоятельствам должен был бежать из Франции». В то время как подавали нам десерт, вошли в залу молодой человек и молодая дама в дорожном платье. «Mon p?re! Ma m?re! Mon fils! Ma fille!»[66 - Отец! Мать! Сын мой! Моя дочь! (франц.).] И при сих восклицаниях кавалер св. Людовика и сидевшая подле него дама вдруг очутились на средине комнаты в объятиях молодых людей. Глубокое молчание в зале – все мы, сидевшие за столом, казались оцепеневшими: один держал в руке бисквит, другой рюмку и остался неподвижен в сем положении; те, которые говорили и замолчали, не успели затворить рта, устремив взоры свои на обнимающуюся группу. Ты пролетела, минута молчания и тишины! Но глубокие черты оставила ты в моем сердце, которые всегда будут воспоминать мне чувствительность людей – ибо она превратила нас в камень, когда мы увидели отца и мать, сына и дочь, с жаром, с восторгом обнимающих друг друга! – Наконец кавалер св. Людовика, отирая лиющиеся слезы свои, оборотился к нам и сказал прерывающимся голосом: «Простите, государи мои, простите радостному исступлению нежных родителей, которые трепетали о жизни милых детей своих[67 - Слово в слово с французского, но галлицизмы такого рода простительны.]