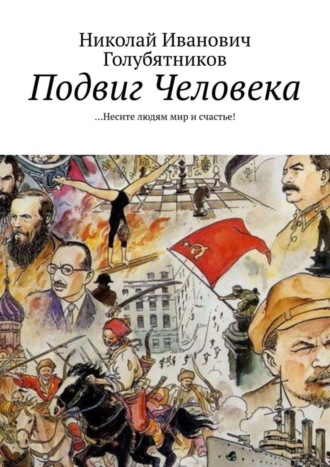
Подвиг Человека. …Несите людям мир и счастье!
– Спасибо, Тося! Ты добрая девочка, – сказал я, с благодарностью пожимая её гонкую ручонку, и удивился, что не почувствовал смущения, как это бывало раньше.
– Что ты, Николай! – радостно воскликнула девочка. – Я так злилась, когда ты поплыл.
– Почему?
– Ты мог утонуть.
– Я же был не один.
– За Васю переживала Тоня.
– Вот вы какие!
– Ты не подумай чего, Николай.
– А хоть и подумал бы. Ведь мы правда хорошие друзья, Тося?
– Хорошие…
– Вот видишь. И я поплыл-то ради тебя.
– Ты хвастунишка, Николай. Ты не подумал обо мне.
– Не обижайся на меня. Сейчас я понимаю, что поступил неправильно. А тогда… Хочешь, я завтра покатаю тебя на лодке?
– Лучше покачаемся на качелях.
– Ладно. Пошли домой? Петь хочется.
– А как же Вася и Тоня? Надо их подождать. Да вот, кажется, и они бегут.
Действительно, со стороны парома, подгоняемые ветром, взявшись за руки, бежали два подростка: голенастая девочка и прихрамывающий мальчик. Через минуту дружная четверка выпорхнула из-под обрыва и вихрем понеслась к станице.
Наступила зима. Морозная и вьюжная. Дон замерз. Знакомая четверка тут как тут. Появились и другие «квартеты». Впрочем, не только четверки, но и «деки». Не беда, что коньки у большинства мальчишек и девчонок самодельные: соструганные деревянные бруски с полозьями из толстой железной проволоки. Лишь бы было желание. И на самоделках можно кататься до упаду.
Прекрасен Дон в зимнюю стужу! Укрыл свои сладкие воды хрустальным одеялом и дрыхнет до весны. А пригреет мартовское солнышко, начнет потягиваться, разминать занемевшие члены, трещать льдами. Это потом. А сейчас зима. На берегу сугробы, а середина чистая. Чем не каток для европейских соревнований? Вдоль – хоть до Ростова катись, поперек побежишь – тоже за кочку не зацепишься.
Впереди скользит пятерка девчонок: Аня, Катя, Рита, Тоня, Тося. Позади мальчишки: Вася, Миша, Петя, Коля, Саша.
– Мальчики, догоняйте! – озорно бросает вызов Рита Кульчицкая и, срезав левым коньком ледяные стекляшки, вырывается вперед. За ней бросаются остальные.
В голубом спортивном костюме, в серой вязаной шапочке, в небрежно наброшенном белом шарфе, на никелированных коньках, гибкая и грациозная, стремительно скользит она по льду, щедро рассыпая солнечные лучи, и сердце её поет от радости.
Радость движения, сознание простора и свободы охватили всех юных конькобежцев.
– Риту нам не догнать, – бросает на бегу Катя идущей с ней рядом Тоне.
– Давай свернем с дорожки, – предлагает Тоня.
– Давай. Поворачивай за мной.
Едва подружки свернули в сторону, как мимо них на невероятной скорости промчался Вася Текучев. Губы его были плотно сжаты, серые глаза прищурены, кубанка придвинута к бровям. Во всем этом напряженном облике столько было решимости победить, что невольно додумалось: «Так рождаются герои».
Ничего этого Рита не видела и продолжала беззаботно скользить по льду, радуясь солнцу и приближающейся победе. И вдруг, со-вершенно неожиданно, от какого-то внутреннего приказа, она оглянулась назад и на мгновенье растерялась от увиденного: в нескольких шагах прямо на неё размашисто бежал Текучев. Рита попыталась наверстать упущенное. Она сделала несколько сильных движений и в то же мгновение почувствовала, как мимо неё прошуршал «снаряд», обдавая горячим ветром и осколками льда.
А финиш был совсем близко, может быть, в тридцати метрах.
Когда Рита подкатила к отметке «2000», то судья Саша Нестеров уже снимал красные флажки.
– Победила мужская команда, – деловито объявил Саша.
– Если бы я не растерялась… – виновато сказала Рита и тяжело вздохнула.
– Отчего ты растерялась, Рита? – спросил Вася.
– Твое появление было таким неожиданным, – грустно ответила Рита.
– Не отчаивайся! Сегодняшняя победа досталась мне не техникой, а силой. В следующее воскресенье ты снова будешь впереди, – великодушно пообещал Вася.
– Добежим! Товарищи ждут нас! – вдруг встрепенулась Рита и, взмахнув руками, как ласточка крыльями, понеслась к ожидавшим её подружкам.
Пора было возвращаться домой и садиться за уроки. Тем более что завтра самый тяжелый день: понедельник.
Семилетняя школа расположена в центре станицы. Это большое деревянное здание П-образной формы с открытой верандой. Заведующий школой Павел Михайлович Шмелев живет здесь же, в правом крыле. Учебных кабинетов и лабораторий нет. Однотипных учебников тоже нет. Учились по тем учебникам, какие удавалось достать.
Большинство учебников предназначалось для высших начальных училищ, но немало было и гимназических. Я, например, изучал географию по учебнику Баранова, предназначенному для высших начальных училищ, а физику – по учебнику Краевича для учительских институтов.
Несмотря на слабость материальной базы, обучение велось на высоком научном и методическом уровне, с демонстрацией опытов по физике и химии и отличных картин по истории и естествознанию. Учителя были образованные и культурные. Отношения между учителями и учащимися были тактичными и уважительными. В седьмом классе я не помню ни одного случая, когда бы учитель накричал на ученика или семиклассник ослушался учителя.
В школе работало очень сильная, авторитетная комсомольская организация, поэтому нарушение школьной дисциплины было делом маловероятным.
Физику преподавал сам заведующий школой. Учебный материал он излагал с увлечением, покрывая классную доску десятками безукоризненно выполненных схем и формул. Войдя в класс в дубленом черном полушубке, обычно говорил:
– Извините, товарищи, но я не могу снять верхней одежды. В классе недостаточно тепло.
– Мы согласны с вами, Павел Михайлович. Вы не должны раздеваться, потому что можете простудиться, – отзывается дежурная по классу Тося Траилина. – А как быть нам?
– Вы можете поступить по своему усмотрению.
Мы сидим, конечно, без пальто, хотя в классе, действительно, не жарко: +9. Да нам и нельзя сидеть в теплой одежде, во-первых, потому, что приличное пальто есть только у двух учениц. Остальные одеты очень пестро: одни в стеганых фуфайках, другие – в перешитых шинелях, третьи… в рукавицах. Во-вторых, потому, что нам нужно писать так, чтобы не смахнуть рукавом на пол чернильницу. Ведь чернила мы делаем сами из сердечка фиолетового карандаша. А «химические» карандаши, как, впрочем, и все другие промтовары, доставать было очень нелегко, главным образом, путем выменивания на базаре. За один карандаш приходилось отдавать либо два килограмма рыбы, либо три десятка «азовских» огурцов.
Но стоило только Павлу Михайловичу приступить к объяснению закона Ома или другого какого-либо физического закона, как он раскалялся подобно спирали электрической плиты, сбрасывал полушубок и, вытирая вспотевший лоб платком с коричневой каймой, говорил:
– Кстати, о возрасте. 47 лет, безусловно, не самая ранняя юность. Весьма сожалею, что не увижу вместе с вами Россию 1970 года: покрытую густой сетью электрических станций, богатую и просвещенную.
Математику преподавал Броницкий Вячеслав Иосифович, черноволосый и чернобровый красавец. Своим элегантным видом и остроумием он производил на учениц ошеломляющее впечатление. Особенно неравнодушна была к нему наша «солистка» Тоня Новожилова. У этой девушки был звонкий и приятный голос. В классе она считалась не только певицей, но и красавицей. Тоня искала любого предлога, чтобы спеть в присутствии Вячеслава Иосифовича. И такие предлоги, естественно, находились. Тоня пела, а учитель аккомпанировал ей на пианино. Летом Тоня вышла замуж за Броницкого, и они уехали в станицу Нижне-Чирскую.
Осенью Тоня вернулась к маме одна. Возможно, потому, что по закону о браке супруг не обязан следовать за супругом. Могла быть и другая причина. Как и у большинства красавиц, у Тони был вспыльчивый, неуравновешенный и грубый характер. Возможно, причиной возвращения Тони домой явился её неуравновешенней характер.
Мне было жаль одноклассницу. Как-то я повстречал её нa улице. Она была бледна и невесела. Я пытался заговорить с ней, но она сказала, что очень спешит по делу, и торопливо удалилась, даже не сказав «до свидания».
Русский язык преподавал Алексей Васильевич Текучев. Умный, начитанный, энергичный, тактичный, внимательный и простой человек. Когда он входил в класс, то светлели не только лица учащихся, но и воздух становился прозрачней. В приоткрытую дверь врывался мощный сноп солнечных лучей, и девочкам первой парты левого ряда приходилось на секунду закрывать глаза. Мальчишки шутили:
– Внимание, комета!
После обычного приветствия Алексей Васильевич раскрывал томик стихотворений М. Ю. Лермонтова и предлагал написать диктант для синтаксического разбора.
Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
про день Бородина! —
звонким тенором читал учитель, охваченный пафосом нарисованной поэтом картины. Ничего нет удивительного, что к концу урока все учащиеся знали диктант наизусть до каждой запятой.
Реакция на чтение стихотворения «Смерть поэта» состояла в том, что юноши крепко сжимали кулаки в партах, а девушки украдкой смахивали ладошками непрошеные слезинки, повисшие на длинных ресничках.
Прощаясь с классом, учитель говорил:
– До свидания, друзья! В среду я прочту вам стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «К Чаадаеву».
В классе не было равнодушных к русскому языку и литературе: любя учителя, любили его предмет.
Вас интересует судьба Алексея Васильевича Текучева? Он стал академиком. Я встречал его книги по грамматике и по методике обучения русскому языку в начальной школе. Другие учителя тоже были прекрасными педагогами, но оставили менее глубокий след в душе. Я помню только их внешний облик и фамилии: Беляев, Миронов, Деев, супруги Жариковы.
А весна? Что такое весна на Дону?
В апреле так разливается Дон, что по улицам на лодках кататься можно. Настоящая русская Венеция! Наступает время – и вода так быстро уходит, как будто её всасывает великан своим огромным ртом. В левадах вода задерживается иногда до середины лета. В мае все расцветает: лес, сады, цветники, луга, степь.
Сегодня нас добрый десяток. Мы идем по лугу рассыпным строем, продираясь сквозь высокую и густую траву, и зорко смотрим под ноги, не попадутся ли катран, сурепка, щавель, или кислица, чтобы сорвать и съесть. Мы пасемся. До полудня мы съедаем огромное количество сочной травы, а сытыми от этого не становимся. Наоборот, развивается такой аппетит, что быка бы жареного за один присест съел. Но так как жареные быки здесь не пасутся, то приходится поспешить с возвращением домой. Мы делаем разворот на 180 градусов и выходим на дорогу. Навстречу нам катит на велосипеде Петя Новожилов.
– Здорово, ребята! – весело приветствует он нас. – Вы куда?
– По домам, Петр, – без особого энтузиазма отвечает Вася. Животы от щавеля подвело.
– Айда ко мне! – обрадованно кричит Петя. – Во как накормлю, – проводит он ладонью по шее.
– Что ты, Петя! – испуганно восклицает Катя Попова. – Твоя мама прогонит нас всех.
– Не прогонит! Да и дома её нет. И отца нет. Мы сами хозяева.
– А где же они?
– На хутор в гости поехали. Сватов ждали и не дождались. Такого всего наготовили.
– А приедет?
– Скажу, что товарищей угощал. Не пропадать же добру.
Последний довод показался убедительным, и мы бросились наперегонки к дому хлебосольного товарища.
В кухню идти никто не захотел. Разместились во дворе под раскидистым тутовником. Немного потеснились, и все уселись за одним столом. Борщ был жирный, наваристый, но ели его так, для близира. Зато стопку пышек с каймаком уплели моментально. Катя с Тосей пошли на кухню за взваром, а мы тем временем вели оживленный разговор, делясь впечатлениями дня.
Вдруг у самого уха, как мне показалось, раздается звонкий голос Дарьи Матвеевны:
– Отец, а у нас гости!
– Готовь на стол, а я кобылу в конюшню отведу! – отзывается с улицы Семен Никифорович.
А у «гостей» душа в пятки ушла. Сидим ни живы ни мертвы.
– Мама, – идет навстречу Петя. – А у меня товарищи.
Дарья Матвеевна пристально смотрит на сына и, заметив умоляющее выражение его глаз, смягчается:
– Здравствуйте, дети, – приветливо говорит она. – Да у вас пустые чашки! – искренне удивляется хозяйка. – Петя!..
– Большое спасибо, Дарья Матвеевна, – бодро говорю я, чтобы разрядить обстановку и вывести компанию из замешательства. – Мы уже поели. Вот только взвар…
– Катя! Тося! Куда же вы запропастились! Парнишки взвара заждались! – весело кричит Дарья Матвеевна.
А девочки спрятались за дверью с кружками в руках и не знают, что делать: выходить из укрытия улыбаясь или позорно бежать, пока Дарья Матвеевна не вывела их за руки. Наконец, женское притворство побеждает, и они как ни в чем не бывало выпархивают из кухни и прямо к хозяйке.
– Здравствуйте, Дарья Матвеевна! Как хорошо у вас! В кухне чисто-пречисто! А борщ – одно объедение!
– Касатки вы мои милые! Щебетухи! Аль мне с вами пообедать?
– Садитесь! Садитесь! Миша, подвинься! К нам! К нам! – взрывается наполненная всеобщим ликованием обстановка.
Прислонившись спиной к старой груше, стоял никем не замеченный Семен Никифорович и смотрел на детей. На коричневом от загара сухощавом лице застыла улыбка удивления и радости.
О чем он думал в эту минуту? О том, как он был мальчишкой, или о том, какими будут эти мальчишки и девчонки? Потом он подошел к столу, решительно хлопнул ладонью по дородному плечу жены, приказал:
– Споем, жинка!
Дарья Матвеевна обвела детей мечтательным взглядом, подперла красивый подбородок рукой и запела чистым, как родниковая вода, голосом. Семен Никифорович подпевал. Пели про любовь к Тихому Дону, слаженно и задушевно.
Мы сидим как зачарованные. Нам кажется, что это поют птицы. Тихо, чтобы не спугнуть, мы покидаем гостеприимный уголок.
С окончанием школы кончилась и беззаботная юность. Наступило время активного поиска профессии и самостоятельного места в жизни.
2. КЕМ БЫТЬ?
Летом и осенью 1927 года все свободные от работы часы я просиживал за учебниками. Даже в выходные дни. Так я подготовился за курс школы второй ступени. По приглашению старшей сестры Ангелины (Люси) приехал к ней на Северный Кавказ. Село Дмитриевское поразило величиной: территория 6x3, население – свыше 10 тысяч. Мне казалось, что больших размеров село и представить невозможно. Однако вскоре убедился, что Дмитриевское – звезда далеко не первой величины, села Петровское, Михайловское, Безопасное, Медвежье еще более крупные и могущественные, их население составляет 15 и более тысяч. Поля огромные, почвы плодородные, урожаи пшеницы высокие, скота много, хлеб пышный, девушки певучие.
Муж сестры, Николай Петрович Землянухин, работал заведующим начальной школой. Жили они при школе, занимая две большие комнаты и кухню. Мебель была «казенной». Школа отапливалась соломой. Материально жили хорошо. Как-то, уезжая в райцентр
за зарплатой, заведующий школой попросил:
– Николай, позанимайся с третьим классом! Пригодится.
– Ладно, попробую!
Занятия я почему-то начал с природоведения. Разыскал в шкафу цветные картинки животного мира, сделанные из плотного картона, географические карты, другие наглядные пособия и начал урок. Дети были буквально поражены богатством фауны и флоры Земли. Они дружно просили продолжить урок природоведения завтра, если Николай Петрович не вернется сегодня из поездки.
Получить зарплату в тот день Николаю Петровичу не удалось, и он остался в Медвежьем ночевать. Пришлось мне проводить уроки и на следующий день. На этот раз я начал занятия с арифметики. Начертив на классной доске железнодорожные и водные пути, учил решать задачи на движение. И на этот раз дети занимались так, что от напряжения на кончиках их покрасневших носиков повисли капельки пота, а они не замечали до тех пор, пока не был объявлен перерыв. О шалости нa уроке и речи не могло быть: не было времени.
Уроки явно удались. Знать, практика, полученная в ликпункте, не прошла бесследно.
Посидев на одном из уроков, Николай Петрович сказал:
– Все ясно: ты будешь учителем!
– Как? Ведь я приехал к вам, чтобы вы помогли мне выбрать профессию! – воскликнул я, пораженный категоричностью выводов заведующего школой.
– А чем профессия учителя хуже других?
– Но ведь я не думал стать учителем! – продолжал я горячиться.
– Способности, дружок, способности для профессии нужны! И желание, конечно. А ты их обнаружил.
– И желание?
– Конечно. Как же без желания можно так блестяще выполнить работу? Посмотри-ка вот сюда!
Я посмотрел в окно. Во дворе стояла группа девочек и мальчиков, они о чем-то бурно спорили.
– Ну, что там?
– Дети что-то обсуждают.
– Помяни мое слово, тебя поджидают. Выйди к ним!
Я выбежал на порожни, нарочно громко хлопнув дверью. Гомон смолк, и от толпы детей тотчас отделились мальчик и девочка. В несколько прыжков они очутились около меня.
– Николай Иванович! Мы избрали вас вожатым!
– Благодарю за доверие! Но ведь вожатых назначает райком комсомола! – пробовал я возразить, но понимал, что состоявшиеся выборы уже никто не в состоянии отменить. Народ решет все. Придется подчиниться. – Пионер – всем ребятам пример! Чтобы завтра все были в галстуках!
– Согласился! Согласился! Ура! – неистово кричали мальчишки и девчонки, выбегая на улицу.
– Что нового? – насмешливо щуря глаза, спросил Николай Петрович.
– Пионервожатым избрали, – обреченно сказал я, подвигая стул к учителю. – Что делать?
– Работать. Только работать, и больше ничего. Немедленно свози пионеров на экскурсию, а потом приступай к подготовке сбора. Вот и вся премудрость.
– Николай Петрович, я же командиром Красной армии хочу быть! – взмолился я.
– Потом, Николай, потом. Будешь и командиром. Не торопись. Покомандуй пока детьми.
Говорил Николай Петрович так уверенно, и все у него получалось так просто, что невольно эта убежденность передавалась собеседнику.
Так я стал вожатым и, наверно, учителем.
Вскоре меня вызвали в районный отдел народного образования и назначили заведующим районной школой грамоты. Через некоторое время по рекомендации райкома комсомола перевели на должность инспектора отдела культпросветучреждений. Потом я попросился на учительскую работу, и меня послали заведующим начальной школой в совхозе «Коммунар».
Через полтора года перевели заведующим начальной школой в огромное село Ладовская Балка, где я проработал несколько лет.
Пришлось опять садиться за учебники, повышать квалификацию.
Вот и Центральный институт повышения квалификации кадров народного образования (ЦИПККНО) позади. Физику послали преподавать в районную среднюю школу. Вскоре на поверхность всплыла непреложная истина, что для средней школы нужны учителя с высшим образованием. Пришлось сделать задний ход, вначале из села Медвежьего в село Ладовская Балка, чтобы вначале перестроить огромный двухэтажный магазин бывшего купца Дёмина под школьное здание, а потом уже работать в этой школе.
В школе сельской молодежи (ШКМ) мне, наконец, выпало счастье преподавать любимый предмет – естествознание. На пришкольном участке мы закладывали различные опыты, испытывали наши культуры, выращивали коноплю, клещевину, применяли минеральные удобрения.
И удивительное дело: как в это время, так и позже, когда я научился выращивать роскошные плодовые деревья и закладывать сады, я встречал полное равнодушие руководителей школ к зеленому богатству. Стоило мне уйти из этой школы, как посаженные детьми под моим руководством сады забрасывались, вырубались, а на образовавшемся пустыре появлялись индивидуальные огороды, засеянные кукурузой или картошкой. Так было в с. Ладовская Балка, так продолжается в с. Татарка Шпаковского района Ставропольского края.
Проходит время, и опять не хватает знаний, не столько знаний, сколько диплома. Однако не одними знаниями жив человек, и 7 января 1935 года я женился на Дусе Бережной. Она сельских ребятишек грамоте обучала. Полюбил за кроткий нрав и пухлые щечки, пламеневшие, как утренняя заря. 14 ноября 1935 года родилась первая дочь. Отдавая дань времени, присвоили дочери имя Эмма. 15 февраля 1937 г. появилась на свет Вера. Это имя тоже соответствовало духу времени, возврату к чисто русскому, традиционному. Дети есть, а диплома нет. Решаю поступить на заочное отделение Ленинградского государственного университета. Почему именно в знаменитый ЛГУ, не знаю. По-видимому, из-за тщеславия и самолюбия. Прихвастнуть перед коллегами захотелось, покуражиться.
Летом 1937 г. еду на зачетную сессию. Лаборатории поражают обилием и сложностью оборудования. Отделение электрофизики, куда я поступил, буквально переливается электрическими разрядами. Лекции до предела насыщены теоретическими исследованиями, расчетами и проблемами. И все это на пять лет. А у меня больная мать. Да и младшие сестры в моей материальной помощи нуждаются. Учеба и погоня за большим заработком вошли в непримиримое противоречие. Побеждает оппортунизм, временная материальная выгода. И через год я оставляю университет, чтобы сосредоточить все силы на даче максимального количества уроков.
Ноша из двух слагаемых: университета и 12-часового рабочего дня оказалась для меня непосильной. Но это только тактический маневр, не достижение цели. Ближайшая цель впереди, возникшая проблема решена. Летом 1939 г. я еду в г. Орджоикидзе и поступаю на второй курс учительского института имени К. Л. Хетагурова.
Город Орджоникидзе такой же небольшой, тихий и зеленый, как Ставрополь. Мне он понравился. Но у него имеется большое преимущество – река Терек. О студенческом времени у меня остались приятные воспоминания. Я глубоко убежден, что студенческие годы, несмотря на сильные материальные ограничения, – это лучшая пора жизни. Жизнь в сплоченном коллективе, дружба, целенаправленная деятельность, общение с интересными и образованными людьми, свобода и независимость – где еще, кроме вуза, найдешь такое богатейшее сочетание духовных благ?
Как-то в конце лекции пятидесятилетний декан Собиев с грустью сказал:
– Я достиг всего, о чем мечтал и к чему стремился: высшего образования, ученой степени, высокого заработка, благоустроенной квартиры. Все это я без сожаления отдал бы только за то, чтобы стать молодым, как вы.
– Это вам так кажется, профессор, – горячо возражает Женя Щербакова. – У нас нет иногда денег даже на кино.
– А хлеб есть? – вдруг оживился ученый. – Кефир есть? – продолжал он наступать. – Пирожки есть? Пикули есть?
– Все это у нас есть, товарищ профессор, – не утерпел я от подачи реплики. Уж больно близко к сердцу принял пожилой человек высказанную студенткой неудовлетворенность. – Но не единым кефиром жив студент…
– Вы с юмором, молодой человек. Посещать кино и танцевать фокстрот тоже надо. На этот счет у меня есть для юношей практический совет: не ждать почтового перевода от мамы, а пойти на товарную станцию и разгрузить вагоны. Заработанных денег вам будет достаточно на кино и на мороженое для девушек. Впрочем, для девушек тоже найдется работа на предприятиях бытового обслуживания…
В июне 1940 г. я окончил учительский институт и получил, наконец, диплом с серебряным тиснением. Так окончательно был решен вопрос, кем мне быть.
Я стал учителем.
3. ПРОЩАНИЕ С ЮНОСТЬЮ
Выпускной вечер был в разгаре, цветущие, молодые и стройные, счастливые кружились в вальсе пары. Белые электрические шары весело улыбались им с высоты расписного потолка. Актовый зал бурно дышал, шумя, как море. А за окном была ночь: темная, звездная.
Я сидел у большого фикуса, стоявшего у окна. Рядом со мной пристроился ученик 10 класса Чернышев Александр. Светлые курчавые волосы едва оттеняли его женственно нежное белое лицо. За печальные стихи, которые он помещал в школьной стенной газете, одноклассницы прозвали его «лириком». Теперь лирик время от времени бросал на меня вопросительные взгляды, желая заговорить, но не решаясь начать разговор первым: он видел, что учитель занят своими мыслями.
А мысли мои были следующие: «Милые дети, как им весело сейчас. Впрочем, они уже не совсем дети. 18 лет… Какой это хороший возраст! Сколько ярких переживаний связано у человека с этим временем!..»
Заметив одиночество Чернышева, я прервал свои размышления.
– Почему не танцуете, молодой человек? – спросил я ученика.
– Не хочется, Николай Иванович. Я лучше посижу с вами.
«Поговорить хочется, – догадался я. – Ну что ж, пусть выскажется. Вполне естественное желание».
– Скажи, Чернышев, тебе не жалко покидать школу?
– Очень. Но и радостно.
– Как же так?
– Радостно потому, что мне только 18 лег, а я уже имею аттестат о среднем образовании. Я молод и полон сил. Впереди много неизвестного. Может быть, даже очень трудного, но меня это не страшит.

