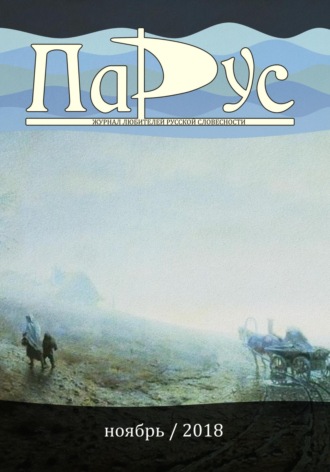
Журнал «Парус» №69, 2018 г.
Раз выжил – пусть живет!
Теряя темные следы,
Я тяжко шел на свет.
И люди с улицы Беды
Глядели мне вослед.
На «улицу Беды» я забредал в своей жизни часто, особенно в детские и подростковые годы. Позднее взросление, поражения в стычках со сверстниками, невнимание сверстниц, неудачи и хвори, полунищий быт родителей, – всё это я принимал слишком близко к сердцу. Утешали меня тогда только книги, первая и главная моя любовь.
Лишь годам к девятнадцати мое ощущение жизни стало, более или менее, комфортным: слезы и стоны остались позади, я научился выживать в мире людей, – как мог и умел.
Покидая улицу Беды, я шел мимо злобных, жадных, завистливых и тупых, мимо тех, кто в сердце своем давно уже поставил на мне крест. И мне не хотелось оборачиваться.
ХВОРЬ
Всё даст Господь!.. Любовь, победу, друга, –
Всё, что цветет на поле бытия!
Твое сомненье – это род недуга,
Всего лишь хворь постылая твоя.
Так излечись! И черпай полной мерой
Из закромов желанья своего.
Но для начала – в Господа уверуй
И попроси здоровья у Него.
Люди, живущие без Бога в душе, терпят в своей жизни самые жестокие, судьбоносные поражения – я видел таких людей, наблюдал их долголетние мучения. И желчно думал при этом: поделом вам, нехристи!
Но если в чьей-то грешной душе я замечал хоть толику страха Божьего, то всегда сожалел о судьбе такого человека. И, если имел возможность, протягивал ему руку помощи.
Помогали в этой жизни и мне – и, надо сказать, довольно часто. Из чего я заключил, что не я один так чувствую и так живу: нас довольно много и мы поддерживаем друг друга. Надо только не стесняться просить о подмоге, когда в твою жизнь приходит недобрый час. И, с Божьей помощью, подмога придет. Кто-то обязательно подаст тебе руку, выручит, посодействует.
Сомнение в вышесказанном – есть болезнь духа. Мое стихотворение свидетельствует о том, что мне и самому случалось страдать этим недугом. Но с одра своей болезни я кричал именно эти слова – никакие другие!..
ГЛАЗА ГЛУБИНЫ
Пруд застелил опавший лист,
И два листка червяк прогрыз.
Глядела в дыры глубина,
И понял я, что нету дна
У водоема… Но вопрос
Точил к сомненью склонный мозг:
Так неужель для взгляда вверх
Необходим грызущий червь?
Бездонное пространство человеческого «я» глядит вверх, в бездонную глубину мироздания, человек всматривается в Бога. Но без дыр, проточенных червем сомнения, мы ничего не разглядим, поскольку каждый устремленный в небеса людской зрачок плотно застелен иссохшей мудростью земных веков. Этот опавший опыт мешает нам видеть истину.
Так в своем раннем стихотворении я оправдывал необходимость вечного сомнения, нашу потребность в черве, неумолимо прогрызающем всё то, что не дает нам смотреть вверх. И образный ряд для поэтической передачи своих мыслей мне удавалось без труда находить в окружающей природе.
Если бы я остался верен этой, условно говоря, тютчевской традиции, моя творческая судьба сложилась бы, возможно, совсем иначе. Но тогда, в конце 70-х, я счел верными упреки в «кузнецовщине», звучавшие в мой адрес, – и пошел в другую сторону.
Может быть, и напрасно. Во всяком случае, сегодняшний я послал бы всех, кто меня упрекает, очень далеко – и продолжал гнуть своё.
ПАМЯТЬ
Дитя на пепелище
На корточках сидит.
То что-то в пепле ищет,
То хмуро вдаль глядит.
Разроет пепел темный
И уголек найдет…
И вновь о доме вспомнит,
И вновь слезу прольет.
Неподцензурная литература была в конце 70-х для меня недоступна, западные радиоголоса я слушал редко, вполуха, не доверял им. Сведущего человека рядом не было. Душа моя жаждала полной правды обо всем, но получала лишь какие-то крохи, фрагменты, обломки…
Я чувствовал, что не знаю чего-то самого главного. Но чего именно?
Порой я казался себе ребенком, сидящим на пепелище родного дома и пытающимся вспомнить, каким был этот дом. Я выгребал из пепла уголек за угольком и до рези в глазах всматривался в них…
***
А что, если нету за зло наказанья –
И всё как попало идет в мирозданье,
И все душегубы пребудут в тепле,
А те, что погублены, – в пепле, в золе,
И все, кто исчезли в пучине войны, –
На мрак и забвение осуждены?
Гоню я подальше мысль черную эту…
А что, если нету? А что, если нету?
Зло, совершенное людьми, должно быть отомщено – в этом у меня никогда не было сомнений. Но если на мщение у людей нет сил, кто отомстит? Иисус Христос говорит: не мстите, оставьте отмщение мне, я сам воздам за каждое зло. Но когда еще это будет, да и будет ли? А душегубы – вот же они, совсем рядом!
Такие вопросы занимали меня в конце 70-х годов, когда рождалось это стихотворение. К мысли о том, что в итоге все равно побеждает добро, а сатана является всего лишь слепым орудием в руках Господа, мне предстояло прийти только лет через десять…
ОБИДА
Разное было в жизни…
Что же, судьба, спасибо
За оплеухи злые
И золотые сны!
Многое было в жизни,
Даже обидно как-то —
Больше не испытаю
Радости новизны.
Кажется мне порою:
Был я в саду огромном,
Много плодов красивых,
Пробуя, надкусил.
Горькими я гнушался,
Сладкими – наслаждался.
Съел бы и самый вкусный,
Да не хватило сил.
Вопль миллионов слышу:
«Ух ты, какой, гляди-ка!
Нам вот одно досталось —
Горечь и кислота…»
Братцы, я понимаю,
И говорю спасибо.
Но все равно обидно,
Что не сбылась мечта.
Всё это ирония, конечно, самоирония… Однако, земная жизнь и в самом деле представляется мне очень похожей на плодоносящий сад: так много в ней – несмотря ни на что! – хорошего, доброго, красивого, притягательного. Если когда-нибудь все наши войны будут перенесены за пределы планеты, Землю вполне можно будет сделать чем-то вроде библейского Эдема – и разрешение людям пожить в этом раю будет выдаваться только за особые заслуги перед человечеством.
А мне вот, грешному, вкупе с моими собратьями по историческому времени, довелось побывать в этом райском саду просто так, за здорово живешь. Повезло, что уж там кривить душой.
А вопли миллионов… ну, я тоже вопил в свое время. Да и сейчас еще иногда постанываю. Но больше по инерции. На самом-то деле, начиная с конца 80-х годов прошлого столетия, когда и было написано это стихотворение, я каким-то краешком души всегда ощущал – мы все живем в райском саду. А страдаем, кричим и злимся потому, что не научились в нем жить. И не желаем учиться, вот что удивительно!..
Наши встречи
Иван ЕСАУЛОВ. Отсутствует государственное понимание значения русской литературы для самого существования России
– Иван Андреевич, Вы известный ученый, посвятивший себя насущной, по-хорошему амбициозной задаче – восстановлению подлинных русских смыслов в науке об отечественной литературе, очищению ее от советских плевел. К сожалению, до сих пор в широких научных, образовательных кругах, во многих «толстых» журналах исследования, подобные Вашим, вызывают раздражение, отвергаются, замалчиваются. Что сегодня мешает распространению и утверждению в нашей стране этого совершенно органичного, наиболее плодотворного – национального подхода в изучении национального же наследия?
– Я бы не формулировал это как «национальный» подход. Точнее сказать по-другому: изучение национального наследия в соответствии с его собственными фундаментальными ценностями, с уважением к этим ценностям, а не с отрицанием их.
«Мешает» же слишком многое: и инерционность советского времени, с его атавизмом ленинского отрицания единой национальной культуры, хотя при этом на самого Ленина уже и не ссылаются. Ведь если десятилетиями под флагом «интернационализма» сначала выкорчевывать самое главное в отечественной культуре – то, что делает ее русской, а затем это национальное подавать исключительно в редуцированном, усеченном виде, словно бы конвоируя при помощи «проверенных кадров», то это порождает иные формы культуры и даже иные формы жизни, для которых то, чем я занимаюсь, а также некоторые другие коллеги, прямо-таки враждебная активность: это же голос недобитой еще России, напоминание об утраченном, а также, в некоторой степени, и его восстановление. Неподконвойное восстановление.
Ну и еще необходимые уточнения: во-первых, не я один в нашей филологии от этих «плевел» стараюсь ее «очищать», во-вторых, не надо думать, что «плевела» эти самые исключительно «советские».
– Называя своих оппонентов «хозяевами дискурса», Вы подчеркиваете, что они выгодны нынешней власти в РФ, более того – плоть от плоти ее. Поясните, пожалуйста, в чем состоит эта выгода и какую функцию они выполняют.
– И опять я не вполне соглашусь с формулировками. Меня совершенно не интересует «политика» как таковая, ею не занимаюсь, ее не исследую; я, слава Богу, не «политолог» и не пропагандист насаждаемой – с какой угодно стороны – «идеологии». Речь не идёт у меня о «нынешней власти», речь идет о номенклатурном классе, который, в целом, тот же самый, подают ли его представителей в медиа в качестве «власти», либо «оппозиции». В сохранении этой несменяемости и состоит та «функция», о которой Вы спрашиваете. И, конечно же, ни в коей степени те, кто владеет медиа, не являются моими «оппонентами»: ведь, будь так, это означало бы, что я тоже был бы «оппонентом» им, а просто смешно, если бы я позиционировал себя в этой роли.
– Надо полагать, «наши», местные «хозяева дискурса», в свою очередь, реализуют волю международных, с большой буквы «Хозяев»?
– Может быть, но у меня недостаточно информации, чтобы это утверждать с уверенностью.
– Мне думается, что положение современного российского литературоведения, а также, например, исторической науки до известной степени сравнимо с ситуацией в науках естественных, точнее в их преподавании, когда в сознание молодых людей по-прежнему внедряются вульгарные, сомнительные и безальтернативные представления о «случайном самозарождении» Вселенной и жизни на Земле, межвидовой эволюции и тому подобном. Что, на Ваш взгляд, помимо «заветов советской науки» побуждает многих ученых и педагогов, над которыми давно уже не висит угроза репрессий, упрямо насаждать соответствующие (анти)ценности? Некая психологическая, духовно-нравственная инертность, банальный конформизм? Или чаще всего это именно сознательная идеологическая, мировоззренческая позиция?
– Опять-таки, здесь нужно проводить особые социологические исследования. Но те, кто их проводит, сами включены в систему, а поэтому вряд ли мы получим корректные, достоверные результаты. Наверное, возможны разные варианты ответов на Ваши вопросы – и все они так или иначе отражают общественную реальность, но каков «процент» конформистов – по отношению к «идейным» последователям, трудно сказать. Хотя жизненный опыт и подсказывает, что последние всегда в меньшинстве.
– 2015-й был у нас объявлен Годом литературы, нынешний – Годом Солженицына. Государство вроде бы не забывает вовсе о литературе, но делает ли для нее, то есть для писателей и читателей, что-то по-настоящему полезное? Или всё, что мы имеем хорошего в этой области – исключительно инициатива энтузиастов-бессребреников, как Вы выражаетесь – «кустарей-одиночек», действующих вопреки системе, по ее недосмотру?
– Такого, как в СССР, отношения к писателям со стороны государства, когда создавались целые писательские бригады, когда писатели жили в совсем уж привилегированном положении, сравнительно со своими согражданами, ожидать не приходится. По понятным причинам. Хотя бы из-за другой степени воздействия на общество прежних «инженеров человеческих душ». Может быть, до известной степени, это и хорошо. Печально другое: отсутствует по-настоящему государственное понимание значения русской литературы для самого существования России. Я имею в виду не писателей-современников, к этому же не сводится та отечественная литература, которая обрела мировую значимость. Она могла бы и для современной России стать одним из столпов, сохраняющих ее идентичность.
– Есть нехорошее ощущение, что власти РФ способны всерьез задуматься о национальном лишь в связи с общенародным бедствием, наподобие, не приведи Бог, большой войны, как во времена Сталина, в 1941-42 годах, с его запоздалым, лобовым, во многом ущербным (прежде всего в искусстве) возрождением национального патриотического духа. Говоря Вашими словами, в очередной раз может быть воспроизведена «советская матрица», по-другому ведь эти люди просто не умеют…
– Это ведь не вопрос, а Ваше суждение? Я думаю, что дело вовсе не в «этих» людях, а в более глубинной трансформации, которая затронула более или менее всех. В названное Вами время еще жива была память об исторической России, сейчас же этого нет. Так что не буду предсказывать возможное развитие событий.
– Если всё же помечтать о будущей победе русской филологии, то какой Вы ее видите применительно к школьному, вузовскому преподаванию? На каких принципах оно должно строиться, какие произведения войдут в программу, какие из нее выпадут или займут более скромное место? Можете привести несколько таких примеров?
– Русская филология существует и сегодня, а не в «будущем». Дело не в «программе», хотя я, как нетрудно догадаться, сторонник более широкого представительства именно классической литературы в школе и в университетах (не только на гуманитарных факультетах). Но и русскую классику, как мы все отлично знаем, можно так «преподавать», что к ней появится лишь отвращение. Я не люблю пустых прекраснодушных мечтаний, они только лишь отвлекают от собственного дела, от того, чем человек занимается, не очень-то беспокоясь о погоде в третьем тысячелетии. Со своей стороны, в своих книгах и публичных выступлениях (например, в цикле «Беседы о русской словесности с Иваном Есауловым» на радио «Радонеж») я стараюсь внести свой вклад в это «будущее», а когда оно наступит (если наступит) – нам знать не дано. Для меня очевидно, что литература должна преподаваться как часть русской истории и культуры. Но не «по десятилетиям», а в контексте «большого времени» общенациональной жизни, где православие – не «компонент» этой культуры, а сама ее основа – именно такому пониманию классики и посвящены мои книги. Но это слишком долгий разговор.
– Когда я учился на филфаке, у нас был совершенно замечательный преподаватель «литведа» – Олег Николаевич Щалпегин, ныне здравствующий, один из авторов нашего журнала, который очень увлекательно, с юмором и в своеобразной игровой манере вел свой предмет, благодаря чему, видимо, я до сих пор назубок помню определения многих литературоведческих терминов. А как Вы устанавливаете диалог со своими студентами? Есть ли какие-то особенные педагогические приемы, секреты?
– Я просто стараюсь, в первую очередь, учитывать характер аудитории. Не слишком придавая значение (или, скажу прямо, вообще не придавая никакого значения) тому, что называют «педагогическими приемами», «методикой», «педагогикой» или «психологией». У меня какое-то стойкое предубеждение к этим дисциплинам, к их значимости для реального преподавания литературы (да и не только литературы). Много раз убеждался, что зачастую те, у которых всё в полном «методическом» порядке, согласно «отчетным документам», совершенно беспомощны (или неинтересны) живой аудитории. Человек ли для субботы или все-таки суббота для человека? Кажется, наши предки в свое время согласились со вторым ответом, а потом ему столетиями и следовали. Нашествие же новых – и весьма влиятельных – субботников-законников на наше отечественное образование не только заводит это образование в тупик, оно противно самому духу русской школы.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

