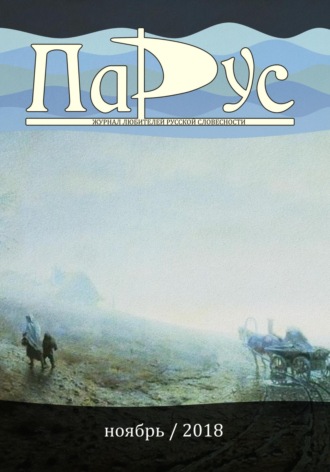
Журнал «Парус» №69, 2018 г.
Четыре тысячи процентов заработать! В один миг! Как пальцем щелкнуть!
Лёша не помнил, как очутился перед ней на корточках. Он бережно пробовал забрать ее холодные, как ледышки, руки в свои, заглядывал ей в лицо.
– С вами такая же история! Абсолютно, совершенно такая же! Уходите оттуда немедленно! Сию буквально секунду! Поднимайтесь! Поднимайтесь, говорю! И садитесь на мое место! Садитесь, садитесь! Вот так. С настоящей минуты вы принимаете и выдаете заказы. Это проще, чем поджарить яичницу. А я спокойно займусь, наконец, снабжением, отчетами и всем прочим. А они за готовым пусть сами приходят! Наберете по телефону – и пусть приходят. И зарплата ваша уже капает вам на карточку. Вот и попробуйте сказать, что та, которая делала вам плохо, не сделала хорошо!
Она мигала слипшимися, почти отмытыми от туши, белесыми ресницами. И ничего не пробовала говорить. Ей столько всего надо было бы спросить, но она знала, что спрашивать ничего не нужно. Его искренность была ответом на всё.
– У нас тут небольшой, молодежный и сугубо мужской коллектив! – сыпал, не узнавая себя, Алёша. – Был сугубо мужской. Мы вас тут замуж выдадим – оглянуться не успеете! – балагурил он, всегда безнадежно косноязыкий с девчонками, и чувствовал, как ему не хотелось бы ее замужества с кем-то другим.
Слова, исторгаемые необъяснимо счастливым настроем, текли из его рта неудержимо. И множество удивленных, веселых мыслей всплывало в нем, подобно пузырькам из газировки. Он сказал ей, а только теперь подумал, отдавая себе отчет, что ведь действительно выхватил у города свои метры за семь тысяч и тут же, не прошло и двух недель, сдвинул их за двести семьдесят пять! И эти деньги – четверть миллиона! – лежат у него нетронутыми в дедовом книжном шкафу. А ведь на них – как же это раньше не приходило ему в голову? – можно купить хорошую машину, купить и обставить квартиру. И путешествовать! И сыграть свадьбу! И оплатить ее учебу!
Он сидел в кресле для посетителей, положив локти на стол и мечтательно разглядывая неотразимо милую, веснушчатую дурнушечку.
– А ты куда хотела поступать?
– Туда не поступишь, – сказала она с давно примиренным сожалением.
– А все-таки?
– В медицинский.
– А каким доктором?
– Детским, – почти шепнула она, сконфузившись отчего-то этим своим признанием.
Судовой журнал «Паруса»
Николай СМИРНОВ. Судовой журнал «Паруса». Запись четвертая: «Светописный домик»
У брата моего Степана – он на два года младше – заболело горло, позвонил ему: застарелая ангина. Сделали анализ, успокоили: опухоль не злокачественная!.. А что же не проходит?.. Голос осип, осел.
Слово имеет зрение, видит нас. Сегодня приснился сон: Колыма, наш домик, отец и мать в возрасте той жизни, и я с братом. Никогда так, всей семьей, не снились; они укладывают его в тёмной – там у нас зимой ставень не открывали – комнате, «спальне», на свою кровать у стены, и говорят: это Степе! Я спорю: а мне где лечь? Они не уступают, даже не смотрят на меня: нет, сначала должен лечь Степан!
Мы в детстве спорились: кому первому вставать утром в школу? Меня будит мать – я: а Степка? К нему подойдет – он: а Колька?..
Я даже во сне удивился, так давно и живо не снился колымский наш дом и давно умершие родители; и эта темная комната с её постелью – в отличие от чепухи, вереницей сновидений тянущихся всякую ночь и тут же забывающихся; затревожился.
А потом узнал, что брату новый анализ сделали, и болезнь у него уже запущена, операцию делать, сказал врач, уже поздно. Уже и глотать ему стало трудно… Поставили в больничную очередь на облучение – два месяца жди!.. Очередь туда, говорят, у нас большая…
…Первая наша с братом сказка в детстве – про избушку. Была у зайца избушка лубяная, а у лисицы ледяная – начинала мать рассказывать. Я еще не знал, что такое луб, и поэтому избушка лубяная представлялась какой-то нездешней. А потом другая сказка и тоже про избушку: кто, кто в тереме живёт? Я – мышка-норушка, я – лягушка-квакушка, я – заяц в поле свертень… Всем в избушку хочется!.. И, точно живой, по-сказочному лубенел наш дом, который отец срубил с Кудинычем, дневальным из барака. И, слушая, я оглядывал с удовольствием и удивлением наши теплые, беленые стены и печку – как хорошо! и стены будто глядят на тебя и тоже радуются, что всё – так! И будто прямо в сердце грохал новый гость: я медведь всем пригнетыш! Сейчас – в теремок ему не влезть! – сядет на него и всё разгромит…
Мне так хотелось построить свою избушку. И в одно прекрасное время, говоря словами матери, когда уже мы с братом в школу пошли, в одно прекрасное время, то есть летом, в каникулы, нашелся такой человек, дядька, который взялся нам избушку построить. И не только нам, но и другим мальчишкам.
Дядька в то лето появился на нашем прииске и жил у лесника Доброжанского. Дом их на отшибе, на берегу речки Бухалая. Доброжанский – турка, с тридцать второго года на Колыме, женился на якутке, у них были две девчонки младшие, да два мальчишка. Старшему, Кольке-якуту, уже шестнадцать, в кинобудке работает, курит, как взрослый, открыто у клуба. А Юрке-якуту тринадцать, вокруг него мы и собирались: я с братом, наш друг Серега Киценко да Колька Казаков, сын начальника отдела кадров, лучший Юркин дружок. Девчонок решили не принимать в избушку.
Как с каменистой, тронутой мошком да чахлой травой плешины от дома лесника спустишься в кусты приречные, тут и место выбрали в глушняке бряда с ивняком, на чистом песочке у душистых, малорослых топольков.
Дядька в серой спецовке, в резиновых сапогах, приземистый, грибоватый: с большой головой в кепке примятой, мордастый такой! Четыре столбика тут же срубил, ошкурил, мы ямки вырыли, поставили; и всё делал быстро, шевелисто и молча; а потом как принялся командовать! Морда стала зверская, как у медведя: широкая, с приплюснутым, раздавленным, что ли, носом, рябая, как дресва, в крупных щербинах, и бугристая по щекам: видать, когда-то в лагере еще обморозился. Глазки голубенькие в этой дресвяной маске бегали под козырьком кепчонки маленькие, быстрые, как зверьки.
Ругается, психует:
– Мне сегодня же чтобы были доски с дровосклада!.. Что, тырить не умеете?! Мне вас еще учить, как тырить доски?.. Тогда я не буду строить!..
Покрикивает хрипло, машет руками. Руки у него вообще всегда, если не работали, ходили ходуном… Верно, хорошо умели тырить… Юрка-якут попятился, улыбаясь хлипко: айда!
Дровосклад огромный, обнесен колючей проволокой, но она редкая, да и порвана местами, а со стороны реки – вообще входи свободно к штабелям бревен, досок, дров, реек отбросных, горбыля – горы их тянутся по берегу прозрачной – на дне железяки накиданы – тугой быстрины Бухалая.
Мы набираем досок, горбылей, каких утащить по силам. Весь берег-галечник здесь красный от лиственничной коры. Ходят рабочие вдалеке у ворот, где верещит пила-циркулярка в сугробах свежих опилок, но на нас не обращают внимания.
Юрка выбрал длинную широкую доску, она играет, прогибается, ударяет по ребрам: он перехватывает её с боку на бок. Юрка в чёрной вельветке, и черные глаза его играют: вот дядька удивится, какую доску он приволок!
Трусцой, торцы досок с веселым грохотом прыгают по голышам-окатышам: тпру-ру-рум! Солнце с низкого над долиной неба печет жарко. Река шумит и шумит прохладно, вековечно, так, что шум приобретает какой-то загадочный, очеловеченный смысл, вбирая и наши голоса, и стройку, и унося их к дальним сопкам, в сизеющий таинственно, тающий сон тайги на краю долины.
Но дядька не удивился Юркиной доске. Встречает нас с добычей молча, снова недоволен, что ли? Ему всё мало… Через полчаса опять заорал:
– Вы мне, знаете… чтобы… у меня! – Бросив молоток, сечет воздух короткими руками, глаза выворачивает: – Если завтра не приволочете досок на крышу – прогоню вас! Сам тут поселюсь!.. Тут у меня стоит бутылка спирта! – тычет на столбик для столика. – Там – кипит уха на костерке! В окошко закидываю удочку! – рукой изображает, как выдергивает хариуса: – Кидаю его в котелок. Выпиваю – закусываю! Во, жизнь!..
Но стали мы чувствовать: вроде дядька-то – нарочно ругается? Да ему самому нравится работать и нас пугать; и самому хочется порыбачить, погужеваться тут летом, он завидует нам, что у нас такой домик хороший! Но уж где ему с такой мордой – не возьмем! Морда зверская у дядьки, обмороженная, бугристая, как дресвяная маска – лишь голубеет глазками – маленькими, как у медведя… Только медведь раздавил избушку своей тушей, а дядька – построил!
И только теперь я понял, что это была, может, последняя попытка одинокого человека (ни имени, ни фамилии которого мы не знали, просто – дядька) даже не попытка, а игрище построить дом, гнездо с детьми. Поэтому он так и изображал из себя… Построил – и сразу же ушел. Повернулся спиной в серой спецовке на наши благодарности – ничего не сказал. Ушел, как медведь…
А к нам, узнав про домик, начали приходить, проситься Витька Папахин, Васька Пупков, мать у него библиотекарша, да два брата Власовых, сыновья кузнеца, да Колька Варич, сын бурильщика, да Ринат Абдрашидов, да Женька Разбицкий с Димкой Сухаревым, и последним пришел Витька Паль, сын бухгалтера. Все что-нибудь несли в общий котел: варить еду. Пришлось и девчонок, сестер Доброжанских, по блату взять в поварихи: Любку – одиннадцати, да Надьку – семи лет.
В сентябре, когда уже холодно стало здесь собираться, да и в школу пошли, я забрел раз в избушку по шуршащей тополиной листве, посидел у столика на лавочке. Как грустно, одиноко; холоден притоптанный пол земляной с вмятыми окурками папиросок «Север». Уж мы и курить пробовали… За кустарником вода прибывает, подмывает шаткий ивняк на гребнях намытого песка, по-осеннему бурлит перекат, словно чует, что скоро зима – завалит речку снегом, выморозит до дна. Но и приютисто все же, словно здесь еще невидимо поселился кто-то и глаголет, что впереди жизни такой хорошей уж никогда не будет. Ушел ты из сказочного домика, покинул сказочный мир и теперь плутаешь неизвестно где. Как в дремучем лесу медведь… Звонил уже два раза брату – не отвечает, телефон отключен, похоже. Облучать его будут сорок пять дней.
…Не всегда удается связать внутреннее с внешним в нашей странной жизни, где одна половина предметов принадлежит к действительности, а другая половина к миру, находящемуся внутри человека; еще не закончил я этот рассказ, как (и тоже после долгого перерыва) приснился мне давно умерший друг.
Большая комната, похожая на общежитскую, уставлена железными кроватями, одеяла серые посмяты, в боринах, будто жильцы только сидели на них и куда-то ушли. Солнечно, светло, много окон, все свежо, ясно, ярко. Друг лежит на койке в своей задумчивой, обычной позе, руки закинув за голову. Я здесь написал рассказ: что-то тоже солнечное, яркое. Подробности рассказа я не держу в уме, а беру его общим родовым понятием или образом, как объем света теплого, умового. Лишь один лепесток розы в нём, как остаток крови, еще не претворившейся в свет. Дал его почитать другу, как в молодости давал читать ему свои сочинения… Прихожу – друг по-прежнему молчит, ничего не говорит, как в прежних снах перед моим несчастьем несколько лет назад – точно предупреждал! А на столе листы – и сокращен рассказ наполовину. Читаю – вроде так лучше?..
У меня был рассказ вообще – как образ всех рассказов, будто домик их сказочный, и в нём лепестком розы – как сердце, еще не претворившееся в свет. А теперь свет посмуглел на листах, и проступили на них, темнея, строки.
Если ты сократил, а стало лучше, толкую я другу, значит, рассказ мой пока – только заготовка?.. А он все молчит, не подтверждает, но и не отвергает моих слов, как-то он весь в себе: там у него, в себе, и моё – в голос, в слова не выводимое. Всё так и лежит на койке, и вся его поза и мои вопросы – как само собой разумеющееся, само о себе говорящее; дескать, какой бы ни был домик твоего рассказа, он – только половинка домика вечного. Поэтому и сократил вполовину (половину смертную, земную), вознеся в свой свет, понимающий без слов. В молодые годы он часто повторял: на том свете мы станем немыми, и восторг переполнит наши души – слова Василия Розанова… Такой сон, будто увидел меня изнутри друг; сон как зрячее слово о вечном домике светописном и о сердце, претворенном в свет.
Литературный процесс
Сергей СТЕПАНОВ. Волшебная музыка слова, Или в чем искусства едины
(о Всероссийской научно-практической конференции, посвящённой 200-летию И.С. Тургенева)
Московский государственный институт культуры внёс свою лепту в празднование 200-летнего юбилея крупнейшего русского писателя-классика Ивана Сергеевича Тургенева (1818–1883). 26-27 ноября 2018 года в МГИКе прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Синтез литературы и музыки в русской классической культуре» (к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева). Основные организаторы – кафедра специального фортепиано факультета музыкального искусства МГИК и кафедра литературы факультета медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств МГИК. В конференции приняли участие преподаватели, аспиранты и студенты кафедры журналистики МГИК, кафедры сценической речи МГИК, Московского государственного института музыки им. А.Г. Шнитке, РАМ им. Гнесиных, Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых…
Проблематика синтеза литературы и музыки стала основополагающей для конференции, посвящённой юбилею И.С. Тургенева, далеко не случайно. Знаменитый писатель был человеком очень музыкальным, его поэтические произведения впоследствии стали известными романсами, музыкальными образами насыщена и его проза. В самом тургеневском слове заключена особая мелодичность.
Вступительное слово на пленарном заседании было произнесено проректором МГИК по научной деятельности, заведующим кафедрой литературы, доктором филологических наук, профессором А.Н. Ужанковым. В программе конференции материалы, посвящённые непосредственно жизни и творчеству писателя-юбиляра, музыкальным образам и музыкальной проблематике в его произведениях, сочетались с анализом многочисленных вопросов, связанных с взаимопроникновением различных видов искусств в русской и мировой классической культуре.
С интересными и содержательными докладами выступили как известные исследователи и практики (доктор философских наук, профессор кафедры литературы МГИК Н.И. Неженец; зав. кафедрой специального фортепиано МГИК, профессор В.Ф. Щербаков; доктор искусствоведения, заведующая кафедрой философии, истории, теории культуры и искусства Московского государственного института музыки им. А.Г. Шнитке А.Г. Алябьева; доктор педагогических наук, директор Высшей школы музыки им. А. Шнитке РГСУ Н.И. Ануфриева; доктор филологических наук, профессор кафедры литературы МГИК И.В. Калус; доктор философских наук, профессор Е.М. Шабшаевич; доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики МГИК Т.Е. Сорокина; кандидат философских наук, директор Института искусств и художественного образования Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых Л.Н. Ульянова; доктор филологических наук, профессор кафедры литературы МГИК Я.О. Гудзова; доктор педагогических наук, профессор МГИК Г.А. Иванова; член Союза писателей России, доцент кафедры журналистики МГИК А.А. Бобров; кандидат искусствоведения, преподаватель РАМ им. Гнесиных А.Л. Резник), так и аспиранты, магистранты и даже студенты. В частности, студент 1-го курса кафедры журналистики МГИК А. Елесин.
При подведении итогов конференции на круглом столе все участники были едины в том, что русское и мировое классическое искусство есть явление взаимосвязанное, синкретическое, где различные виды и жанры во многом дополняют и более глубоко раскрывают друг друга.
Евгений ЧЕКАНОВ. Горящий хворост (фрагменты)
КОКОН
Как рождаются вновь? Как встают из могил?
Как обычно. По воле Творца.
Тесный кокон, которым ты так дорожил,
Вдруг рассыплется. Вмиг, до конца.
И над бедной поляной, которую ты
Всю исползал на долгом пути,
Замаячит трепещущий свет высоты…
Ты свободен. Восстань и лети!
Кажется, всё очень похоже: ты всю жизнь ползаешь, подобно гусенице, по своей земной поляне и набиваешь утробу, а затем превращаешься в этакую неподвижную куколку. И, значит, впереди у тебя новая ипостась: через некоторое время ты превратишься в роскошную бабочку и станешь порхать с цветка на цветок, пить нектар и с энтузиазмом совокупляться…
Ан нет! При ближайшем рассмотрении эта аналогия не выдерживает критики – достаточно осознать, что твоему праху, в отличие от живой куколки, суждено истлеть в земле. Ну, или испепелиться в печи крематория.
Мое поэтическое «я» возражает: мол, гусеница, окукливаясь, тоже думает, что она умирает. А она всего лишь окукливается. Гм… во-первых, неизвестно, о чем она там думает. А главное – процесс полного превращения чешуйчатокрылых происходит у нас на глазах, не скрываясь в трансцендентальные туманы. Этот метаморфоз мы можем наблюдать, он доступен опыту, – а вот человеческий метаморфоз, столь любезный моему поэтическому «я», нашему опыту недоступен. Во всяком случае, пока недоступен. А значит, и о нашем бессмертии речь пока можно вести только гадательно.
Мое поэтическое «я» опять возражает: мол, в случае человека речь идет не о бессмертии тела, а о бессмертии духа. Я опять сопротивляюсь: тогда и говорить нужно только о жизни духа. Но ты-то ведь, мое восторженное «я», отождествляешь с жизнью гусеницы – жизнь всего человека, а не жизнь одного только его духа!
Мое «я» опять возражает: а что оно такое, человек, ежели не дух?..
В этих схоластических спорах очень легко забыть о том главном, чего из моего стихотворения не выкинешь – о воле Творца. Ведь если Бог существует – а Он существует! – то Его воле всё подвластно, в том числе и наша реинкарнация. А уж как она там происходит – по типу ли «гусеница-кокон-бабочка», или как-нибудь иначе – это дело десятое…
Господи, но почему же мы так жаждем бессмертия? неужели нам мало наших ста лет на Земле?
***
Земную победу судьба стережет:
Ров крут и мосток ненадежен,
И меч окровавленный, встав у ворот,
Чуть что, она тянет из ножен.
Так что же – она всемогуща? Вранье!
Пройди, осторожно ступая, —
И вырви победу из рук у нее!
И пусть она плачет, слепая!..
В юности мне была близка романтика средневековых замков, рвов, мостов, цепей, доспехов, благородных рыцарей и прочей готической белиберды. Мне грезилось, что слепая Судьба стоит у ворот замка с мечом, мгновенно реагируя на каждый неосторожный шорох смельчака, намеревающегося умыкнуть прелестную Победу…
Эти строчки раннего стихотворения отразили мою тогдашнюю инфантильную уверенность в том, что Судьбу можно обмануть, что она не всемогуща. Наверное, многие люди и ныне так считают. Но сам я давно уже убежден в обратном.
ВАХТЕР
За окном горит прожектор, вьется снег…
Померещился вахтеру человек.
Вышел он, звеня ключами, – никого.
Только сердце вдруг застыло у него.
Показалось: из окна глядит вахтер,
На него глядит – а он стоит, как вор.
Нервы, что ли? Он к окошку подошел,
Взглядом комнату знакомую обвел:
Плитка, чайник, стул казенный у стола.
А хозяин, видно, вышел: всё дела…
И на всем пустом объекте – ни души…
Ох, чего не померещится в глуши!
Это стихотворение, написанное в годы студенчества и навеянное впечатлениями от нескольких месяцев подработки ночным сторожем на автостоянке, было моей попыткой поэтически поставить проблему раздвоения личности, взаимоотношений «я» и «не я». Не ведая, что над оным вопросом бились тысячи куда более могучих умов моей планеты, я просто припомнил свои ощущения и попытался воспроизвести их, возведя в нужную для стихотворения степень.
Какие задачи я ставил перед собой? Во-первых, мне очень хотелось поселить в читательской душе, пусть хотя бы на миг, то ощущение «странности» раздвоенного бытия, которое порой посещало и меня самого. Во-вторых, я хотел указать на метод погружения в это ощущение – нужно занять противоположную точку в системе «свой-чужой», поставить себя на место Другого. И еще я стремился показать, что человек не может и не хочет долго пребывать в расщепленном мире – он стремится поскорее вернуться к своему привычному «я», на свою человеческую «вахту».
Увы, никто из прочитавших это стихотворение никогда не сказал мне о нем ничего вразумительного. Решив, что вещь не удалась, я оставил попытки двигаться в этом направлении.
Может быть, и напрасно.
ПУТЬ НА СЕВЕР
Покидаю домашний уют.
– Ничего, – говорю, – ерунда!
Полтора этих года пройдут
И в душе не оставят следа!
Но плывет, словно шумный ковчег,
За окном ярославский перрон,
И молчит, как один человек,
До отказа набитый вагон.
И редеют леса за окном,
И всё чаще – кусты да песок.
И становится в поле темно,
И рассвет еще очень далек.
Хохочу, говорю невпопад,
В зыбкий сумрак смотрю до утра.
А колеса стучат и стучат:
– Полтора!
Полтора!
Полтора!..
В вузе, который я окончил, не было военной кафедры, и поэтому выпускники, не успевшие ранее отдать родине священный долг, должны были после учебы служить не офицерами, а рядовыми. Тут-то им (и мне в том числе) и пришлось хлебнуть горячего до слёз. Ведь тянуть солдатскую лямку «не со своим годом» всегда нелегко, а если тебя, великовозрастного молодого специалиста с высшим образованием, подчас уже отца семейства, отдают в подчинение 19-летним балбесам с двумя-тремя лычками на погонах, то и вообще получается тоскливо.
Правда, одно послабление отчизна сделала: служили мы не два года, как другие призывники, а лишь полтора. Но и этого хватило под завязку. Боже, как мы завидовали своим погодкам, которым посчастливилось окончить вуз с военной кафедрой, – все они отбарабанили свои полтора года лейтенантами!
Меня «советская армия» поначалу просто оглушила. Мужское общежитие – вообще не очень-то приятная штука, я это понял еще в свои 18 лет, когда сверстник, деревенский бугай, одолев в неравной борьбе, заломил мне за спину мою же руку и легко сломал ее в локте (а потом были месяцы хождения в гипсе). Но армия – это насилие мужчин над мужчинами, протяженное во времени. Не день и не два, а год (полтора, два, три) ты живешь в атмосфере сильнейшего давления на твое «я». А сопротивляться тебе запрещено.
Грубые души, привыкшие унижать и унижаться, принимают такой порядок на ура, гордые и тонкие – ломаются или надолго замыкаются в себе. Я умудрился проплыть между Сциллой и Харибдой. Голова на плечах у меня всегда присутствовала, да и физически я был не так уж слаб. Оставалось обрести (а точнее говоря, пробудить в себе) еще кое-что – смелость, хитрость, склонность к авантюризму и, самое главное, глубокое внутреннее презрение к нормам и установкам, навязанным извне.
Через боль, через страх, через страдание я полтора года шел к своему новому «я», навеки закладывая в свою душу пласт, на который могу, если придется, опереться и теперь…
ПО УЛИЦЕ БЕДЫ
Я шел по улице Беды —
И тьма была близка.
Никто не вынес мне воды,
Не подал ни куска,
Не внял ни стонам, ни слезам,
Своих не бросил дел…
Тогда решил я выжить сам —
И выжил, как умел.
Знать, небу было все равно,
Коль донесло с высот:
– Он должен был погибнуть… Но

