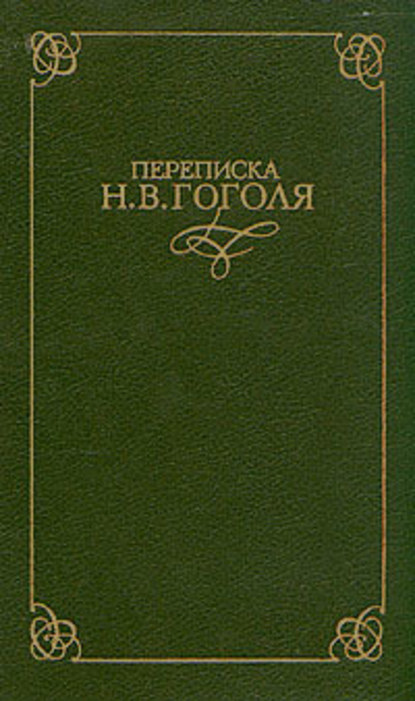По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Переписка Н. В. Гоголя. В двух томах
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Посылаю тебе отрывок под названием «Рим», который я нарочно тиснул в числе 10 экз. отдельно[[111 - Гоголь имеет в виду оттиски повести «Рим», напечатанной в № 3 «Москвитянина» за 1842 г.]]. Как он тебе покажется и в чем его грехи, обо всем этом напиши. Ты знаешь сам, что я всегда уважал твои замечания и что они мне нужны.
Письма адресуй в Рим на имя банкира барона Валентини (Piazza Apostoli nel suo proprio palazzo). Если не получишь ответа, не слушайся и пиши вслед за тем другое. Все пиши, что ни делается с тобою, потому что все это для меня интересно. Я напишу потом вдруг. Если же тебе захочется получить ответ еще до сентября месяца (европейского), то адресуй в Гастейн, что в Тироле, откуда в сентябре я выеду в Рим.
Через неделю после этого письма ты получишь отпечатанные «Мертвые души»[[112 - Печатание «Мертвых душ» закончилось 15–17 мая 1842 г.]], преддверие немного бледное той великой поэмы, которая строится во мне и разрешит наконец загадку моего существования[[113 - Гоголь имеет в виду создание второго и третьего тома «Мертвых душ».]]. Но довольно.
Крепись и стой твердо: прекрасного много впереди! Если же что в жизни смутит тебя, наведет беспокойство, сумрак на мысли, вспомни обо мне, и при одном уже твоем напоминании отделится сила в твою душу! Иначе не сильна дружба и вера, обитающая в твоей душе!
Прощай, обнимаю тебя. Будь здоров. Вместе с письмом сим несется к тебе благословенье и сила.
Твой Гоголь.
Гоголь – Данилевскому А. С., 11(23) октября 1842
11 (23) октября 1842 г. Рим [[114 - Кулиш, т. 1, с. 316–317 (с пропусками); Акад., XII, № 87.]]
Рим. Октября 23/11.
Наконец я дождался от тебя письма. Две недели, как живу уже в Риме, всякий день наведываюсь на почту и только вчера получил первое письмо из России. Это письмо было от тебя. Благодарю тебя за него. Благодарю также за твой отзыв о моей поэме[[115 - О «Мертвых душах».]]. Он был мне очень приятен, хотя в нем слишком много благосклонности, точно как будто бы ты боялся тронуть какую-нибудь чувствительную струну. Еще прежде позволительно было щадить меня, но теперь это грешно: мне нужно скорей указать все мои слабые стороны; этого я требую больше всего от друзей моих.
Но в сторону все это, и поговорим прежде всего о тебе. Твое уединение и тоска от него меня очень опечалили. Натурально – самое лучшее, что можно сделать, бежать от них обоих.
Но куда бежать? Ты хочешь в Петербург, хочешь сделаться чиновником: не есть ли это только одна временная отвага, рожденная скукой и бесплодием нынешней твоей жизни?
Тебя Петербург манит прошедшими воспоминаниями. Но разве ты не чувствуешь, что чрез это самое он станет теперь еще печальнее в глазах твоих? Прежний круг довольно рассеялся; остальные отделились друг от друга и уже предались скучному уединению. Новый нынешний петербургский люд слишком отзывается эгоизмом, пустым стремлением. Тебе холодно, черство покажется в Петербурге. После пятилетнего своего скитания по миру и невольно чрез то приобретенной независимой жизни тебе будет труднее привыкнуть к Петербургу, чем к другому месту. Притом ядовитый климат его – не будет ли он теперь чувствительней для тебя, чем прежде, когда ты и в Малороссии болеешь? Я думал обо всем этом, и мне приходило на мысль, не лучше ли тебе будет в Москве, чем в Петербурге? Там более теплоты и в климате и в людях. Там живут большею частью такие друзья мои, которые примут тебя радушно и с открытыми объятиями. Там меньше расчетов и денежных вычислений. Посредством Шевырева можно будет как-нибудь доставить тебе место при генерал-губернаторе Голицыне. Подумай обо всем этом и уведоми меня скорее, чтобы я мог тебя вовремя снабдить надлежащими письмами, к кому следует.
Если ж ты решился служить в Петербурге и думаешь, что в силах начать серьезную службу, то совет мой – обратиться к Норову; он же был прежде твоим начальником. Теперь он обер-прокурор в Сенате. Из всех служб, по моему мнению, нет службы, которая могла бы быть более полезна и более интересна сама по себе, как служба в Сенате. Теперь же, как нарочно, все обер-прокуроры хорошие люди. К Норову я напишу письмо, в котором изъясню, как и почему следует тебе оказать всякую помощь. Я с ним виделся теперь в Гастейне. Итак, подумай обо всем этом и уведоми меня.
Но ради бога, будь светлей душой. В минуты грустные припоминай себе всегда, что я живу еще на свете, что бог бережет жизнь мою, стало быть, она, верно, нужна друзьям души и сердца моего, и потому гони прочь уныние и не думай никогда, чтобы без руля и ветрила неслася жизнь твоя. Все, что ни дается нам, дается в благо: и самые бесплодные роздыхи в нашей жизни, может быть, уже суть семена плодородного в будущем.
Уведоми меня сколько-нибудь о толках, которые тебе случится слышать о «Мертвых душах», как бы они пусты и незначительны ни были, с означением, из каких уст истекли они. Ты не можешь вообразить себе, как все это полезно мне и нужно и как для меня важны все мнения, начиная от самых необразованных до самых образованных.
Прощай, будь здоров и не замедли ответом.
Твой Г.
Адрес мой: Via Felice, № 126, 3 piano.
Данилевский А. С. – Гоголю, ноябрь 1842
Ноябрь 1842 г. Миргород (?) [[116 - ВЕ, 1890, № 2, с. 585–587. Печатается по этому изданию.]]
Недели две тому назад я получил письмо твое[[117 - От 11 (23) октября 1842 г.]]. Оно, как почти все письма твои, освежило и отвело мне душу. Как я благодарен тебе за твое участие и сколько оно мне, если бы ты знал, драгоценно и нужно!
Я совершенно согласен с тобой во всем, что говоришь ты насчет Петербурга. Все взвесил и обдумал со всей досужностью, свойственной моей деревенской жизни! Ради бога, найди средства избавить меня от Петербурга! Посели меня в Москве, и я ни за что не буду так благодарен тебе. Но дело в том, где и как служить в Москве? При Голицыне, говоришь ты: прекрасно! и мне совершенно по душе; но ты забываешь, мой добрый Николай, что служить при Голицыне значит служить без жалованья, чего я теперь никак не в силах. Три-четыре года такой службы в Москве сведут меня глаз на глаз с нищетою. Да, это истина, и такая, которая не требует никакого пояснения. В Петербурге, мне кажется, легче найти службу с жалованьем, да и жить в Петербурге дешевле. Где найти в Москве таких благодетельных кухмистров, которые в Северной Пальмире за один рубль, а иногда и того меньше, снабжают всю нашу бедную чиновную братью подлейшим обедом?
Видишь ли: мысль моя была вступить в департамент внешней торговли: там хорошее жалованье и начальник знакомый твой кн. Вяземский. Другая мысль, которая, признаюсь, ласкала меня гораздо более, – это служить по министерству иностранных дел. Там бы только, кажется, я попал на свою дорогу и ничто другое не отвлекало бы меня. В два-три года я мог бы уразуметь итальянский и испанский языки и, может быть, со временем получил бы где-нибудь место при миссии – единственная цель моих желаний и честолюбия. Но у тебя там нет никого, кто бы взялся похлопотать за меня и помочь мне, и как ты один составляешь мои надежды, то я прихожу в отчаяние осуществить когда-нибудь мою любимую идею.
В Сенате служить нет никакого у меня желания и цели. Хорошо бы начать там службу, как только вышли из Нежина, а теперь чем и как я буду служить в Сенате без охоты и без жалованья, ибо жалованье в Сенате равняется, как ты знаешь, такому же в наших уездных судах: столоначальники получают не более 800 руб. ассигнациями.
При таких обстоятельствах устрой меня, как хочешь; согласи их, если это возможно, не забывая совсем моих желаний и выгод материальных. Москва мне очень улыбается; в ней, кажется, я был бы счастливее, нежели в Петербурге, если уж нет надежд попасть при какой-нибудь иностранной миссии.
А вот еще: не имеешь ли ты каких-нибудь проводников, чтобы доставить мне место, которое занимал Строев при Демидове[[118 - По воспоминаниям Данилевского, речь шла о Владимире Михайловиче Строеве (Письма, т. 2, с. 258), занимавшем место секретаря при А. Н. Демидове – богатом коллекционере и меценате, организаторе научных экспедиций.]]. Это было бы едва ли не лучше всего. Впрочем, отдаюсь совершенно на произвол твоей дружбы; пускай она, сообразив все, укажет тебе дорогу, по которой поплетусь в последний раз с крайне облегченной ношей когда-то грузных надежд моих.
Зачем не пишешь ничего о себе: как живешь? здоров ли? где нагружаешься макаронами, фриттрами[[119 - Жареное кушанье (от и т. frittura).]] и пастами? Где пьешь свою аврору? Что задумал? чем занят? При всей моей радости получить письмо твое, мне было грустно читать его: куда девались эти бесценные подробности, которые, играя со мной и закружив меня невольно, переносили к тебе, в твой третий этаж, на счастливую Via Felice. Или я сделался чужим для тебя? или думаешь, что это не даст мне прежних удовольствий?
Недавно получил письмо от Прокоповича. Он, спасибо ему, хоть изредка пишет ко мне и не лишает меня, как ты, известий о себе, городе и наших общих знакомых. С маменькой твоей я не видался давно за проклятою болезнью, которая около году меня не оставляет; да у нас теперь и погода такова, что, хоть бы желал, нет возможности сделать ни шагу из дому. Зима нам изменила. Дороги никакой – ни в санях, ни на колесах. Можешь себе представить: январь месяц, а хоть борщ вари с молодой крапивой. Ты спрашиваешь меня, что здесь говорят о твоей поэме. Я не вижу почти никого и никуда не выезжаю. Те немногие, с которыми имею сношение, не нахвалятся ею. Патриоты нашего уезда, питая к тебе непримиримую вражду, теперь благодарны уже за то, что ты пощадил Миргород. Я слышал между прочими мнение одного, который может служить оракулом этого класса господ, осыпавшего такими похвалами твои «Мертвые души», что я сначала усомнился было в его искренности; но жестокая хула и негодование на твой «Миргород» помирили меня с нею. «Как! – говорил он, – миргородский уезд произвел до тридцати генералов, адмиралов, министров, путешественников вокруг света (черт знает где он их взял!), проповедников (не шутка!), водевилиста, который начал писать водевили, когда их не писали и в Париже». Это относилось к Нарежному[[120 - Вероятно, собеседник Данилевского имел в виду комедию В. Т. Нарежного «Заморский принц, или Невеста под замком», на сюжет которой позже было написано несколько водевилей; сам Нарежный водевилей не писал.]], как после объяснил он, и проч., и проч.; всех припомнить не могу! Да ты лучше поймешь, когда я скажу, что твой ласкатель и противник не кто таковский, как Василий Яковлевич Ламиковский. Всего более тешило меня, что мошенник Малинка (эпитет, без которого никто не может произнести его имени), но которого черт не взял, как говорил мой зять Иван Осипович, хохотал до упаду, читая «Мертвые души» (вероятно, от меня косвенными путями дошедшие) в кругу всей сорочинской bourgeoisie[[121 - мещанства (фр.).]] и поповщины. «Ревизор» ему очень известен и нередко, говорят, перечитывается в том же кругу и надрывает бока смешливым молодым попам и попадьям.
Что сказать тебе еще? Я вечно приберусь писать, когда надобно спешить как можно, чтобы не опоздать на почту. Прокопович обещал мне прислать твои сочинения, печатаемые под его надзором[[122 - В конце мая 1842 г. Гоголь поручил Н. Я. Прокоповичу наблюдать за четырехтомным изданием своих сочинений (вышло в свет в январе 1843 г.).]], и до сих пор не имею их. С Пащенком не видался очень давно; у него по-прежнему вечный флюс, что, впрочем, не мешает ему ухаживать за Старицкой, племянницей Арендта, на которой он, говорят, уже и засватан. Баранов женился, но убил бобра[[123 - То есть женился неудачно.]]! Трахимовский на днях поехал в Житомир, куда назначен директором училищ. Все прочее обстоит благополучно.
Гоголь – Данилевскому А. С., 14(26) февраля 1843
14 (26) февраля 1843 г. Рим [[124 - Сочинения и письма, т. 5, с. 429–435 (с пропуском и ошибкой в датировке); Акад., XII, № 107.]]
Рим. 26/14 февраля.
Я получил вчера письмо твое[[125 - См. предыдущее письмо.]]. Ты не аккуратен – не выставил ни дня, ни числа, я не знаю даже, откуда оно писано. На пакете почта выставила штемпель какого-то неведомого мне места. Адресую наудалую по-прежнему в Миргород. Поговорим о предположениях твоих насчет тебя и службы, которые находятся у тебя в письме. Служить в Петербурге и получить место во внешн<ей> торг<овле> или иност<ранных> дел не так легко. Иногда эти места вовсе зависят не от тех именно начальников, как нам кажется издали, и с ними сопряжены такие издалека не видные нам отношения!..
В иностр<анной> коллегии покамест доберешься <до> какого-либо заграничн<ого> места, бог знает сколько придется тащить лямку. Вооружиться терпением можно иногда, но меня страшит и самый петербург<ский> климат. Ты же и теперь, и в деревне, находишься, как видно, в болезненном состоянии, и едва ли может удовлетворить тебя эта отдаленная цель, которую ты видишь, – ехать за границу. Вряд ли твои впечатления будут те же или подобны тем, которые чувствовал прежде. Свежести первой юности уже нет, прелесть новости уже пропала. И притом, разве ты не чувствуешь, что вовсе к тебе уже примешалась та болезнь, которою одержимо все наше поколение: неудовлетворенье и тоска. Против них нужно, чтобы слишком твердый и сильный отпор заключился в нашей собственной груди, сила стремления к чему-нибудь избранному всей душой и всей глубиной ее, одним словом – внутренняя цель, сильный предмет к чему бы то ни было, но все же какая бы то ни была страсть. Стало быть, ты чувствуешь, что тут нужны радикальные лекарства, и дай бог, чтобы ты нашел их в собственной душе своей. Ибо все находится в собственной душе нашей, хотя мы не подозреваем и не стремимся даже к тому, чтобы проникнуть и найти их. Но об этом придет время поговорить после. Ни ты не готов еще слушать, ни я не готов еще говорить.
Покамест я думаю и могу советовать вот что: если тебе будет уже невмочь жить более в деревне, тогда выезжай из нее. Выезд все будет хорош, и нельзя, чтобы не был в каком-нибудь отношении благодетелен. Поезжай прежде в Москву, отведай прежде Москвы, а потом, если не слюбится, поезжай в Петербург. Советуя тебе в Москву, я, натурально, имел в виду твое состояние и служить при Голицыне, предполагал устроить так, чтоб ты мог получать жалованье. Шевырев прекрасная душа, и я на него более мог положиться, чем на кого-либо иного, зная вместе с тем его большую аккуратность. Что касается до жизни, то не думай, чтоб это было дороже петербургской. Ты увидишь, что тебе совершенно не нужно будет дома обедать и побуждения не будет для этого. Кроме того, что это очень скучно, тебя примут радушно и совершенно по-домашнему все те, которые меня любят. Само собою разумеется, что ты должен съежиться относительно разных издержек, и слава богу, я этому рад. Значение этого слишком важно в психологическом отношении, хотя ты еще не знаешь, в каком именно. Впрочем, съежиться тебе вовсе в Москве не будет так обидно и трудно, как может быть в Петербурге. Одеваться ты должен скромно. Одеваться дурно ты не можешь, ибо одевается дурно не тот, кто беден, а тот, кто не имеет вкуса или кто слишком хлопочет об этом. Ты должен пренебречь многими теми мелочами, которыми, кажется, трудно пренебречь и которыми, кажется, как будто уронишь себя. Это обман, совершенно оптический обман, и ты увидишь, что свет потом обратится к тебе и почтит в тебе и назовет именно достоинством то самое, что ему казалось в тебе недостатком. Ты не должен ни чуждаться света, ни входить в него, сильно связываясь с ним интересами своей жизни. Ты должен сохранить всегда и везде независимость лица своего. Будь везде, как дома, свободен и ровен; это будет тебе и не трудно, потому что со всеми теми людьми, с которыми я знаком особенно, можно совершенно быть просту. Да и везде совершенно можно быть просту. Будь снисходителен вообще к людям и не останавливайся резкостью тона, иногда странной замашкой. Умей мимо всего этого найти прекрасные стороны человека, умей за два-три истинные достоинства простить десять, двадцать недостатков, умей указать ему эти достоинства, и ты будешь ему другом и можешь действовать на него благодетельно, не льстя ему, но указывая ему на его прекрасную сторону, может быть, им пренебреженную. В минуту, когда чем-нибудь будет уколото самолюбие душевное или даже просто чувство и движенье душевное, какая-нибудь чувствительная струна (такие минуты могут случиться часто в свете), помни всегда, что ты пришел как зритель и любопытный, а вовсе не так, как актер и участвующий, что тебе следует всему извинить и что ты в таком же отношении посторонний свету, как путешественник, высадившийся на пароходе из Петербурга в Гамбург, есть посторонний гамбургской жизни внутри домов и имеющимся, может быть, там сплетням. Конечно, трудно сохранить такую независимость характера, не заключив внутри себя какого-нибудь постоянного труда, который бы хоть на два часа в день занял в урочное время душу. Но нет человека, который бы не был создан и определен к чему-нибудь, и горе тому, кто не даст труда узнать себя, кто не испытает и не пробует себя и не просит помощи у высших сил обрести и попасть на свою дорогу. Круг велик вокруг нас, и дорог множество. Как не быть им в Москве? Там издается, например, журнал[[126 - Вероятно, Гоголь имеет в виду «Москвитянин», издававшийся с 1841 г. М. П. Погодиным при активном участии С. П. Шевырева.]]. Если взглянуть пристально даже на это, то много представится совершенно новых сторон, и сторон таких, на одну из которых, может быть, даже и легко… Но довольно об этом! Может быть, тебе даже странными покажутся слова мои и в них послышится какое-нибудь ветхое нравоучение. Если так, то отложи письмо мое до другой минуты и в минуту более душевную перечти опять и вновь его. Есть те ветхие истины, которые в иную минуту бывает сладко услышать и которые бывают уже святы самой ветхостью своею. Во всяком случае, помни чаще всего одну истину. Везде, во всяком месте и угле мира, в Париже ли, в Миргороде ли, в Италии ли, в Москве ли, везде может настигнуть тебя тяжелая, может быть, даже жестокая тоска, и никаких нет спасений от нее. И это есть глубокое доказательство того, что в душу твою вложены тайные стремления к чему-нибудь, что беспокойно мечутся силы, не слышащие и не узнающие назначения своего, без сомнения, не пустого и ничтожного. Иначе тебя бы удовлетворила или бы по крайней мере усыпила праздная и однообразная жизнь, бредущая шаг за шагом. Но удовлетворенья нет тебе! И ничем, никакими обеспеченьями и видимыми выгодами жизни не получишь ты его, и не приобретет торжественного, светлого покоя душа твоя. Один только тот труд, одна только та жизнь, для которой стихии заключены в нашей природе, та только жизнь в силах нас наполнить. Но как указать эту жизнь? Как мы можем указать другому то, что есть внутри? Какой доктор, хотя бы он знал донага всю натуру человека, может нам определить нашу внутреннюю болезнь? Бедный больной иногда имеет над ним по крайней мере то преимущество, что может чувствовать, где, в каком месте у него болит, и по инстинкту выбирает сам для себя лекарство.
Во всяком случае, поедешь ли ты в Москву или в Петербург, примись душевно за труд, какой бы ни было, не изнуряя себя, а в урочный час и время, хоть и не долго, и сделай его постоянным и ежедневным, не считай остальное и свободное и, может быть, даже лучшее время за главное, за цель, для которой предпринят труд как необходимое средство. А считай просто это свободное и лучшее время наградой за предпринятый труд. Не ищи этого труда вдали, оглянись на всяком месте пристальнее вокруг себя: то, что ближе, то можно лучше осмотреть глазом. И если в предстоящем труде есть хотя сколько-нибудь, к чему бы хотя часть участия лежала, берись за него добросовестно и покойно совершай его. Если даже он и не тот именно, для чего вызвана твоя жизнь, все равно, и обман может доставить хоть временное спокойствие душе, а после труда все-таки остался опыт и все-таки стал чрез то ближе к тому труду, который определен быть нашим назначением. Во всяком случае, куда ни поедешь или только задумаешь ехать, и вообще, если тебе случится думать и представлять себе то, что ожидает тебя впереди, даю тебе одно из ветхих, старых моих правил, даю тебе его не как подарок, а просто как хозяин дает гостю свой старый, поношенный халат надеть на время, пока тот сидит у него, и потом, натурально, его сбросит. Представляй всегда, что тебя ждет черствая встреча, жесткая погода, холод и людей и душ их, тернистая, трудная жизнь и что для тоски будет там полное раздолье и развал, и вооружись заранее идти твердо на все это, ты всегда выиграешь и будешь в барышах. Ты все-таки ни слова не написал о том, как решился ты именно и когда. Впрочем, если тебе придется, вследствие тоски или чего бы то ни было, выехать из деревни, то Москва все-таки стоит на дороге, и все-таки проживи в Москве, хотя для того, чтобы иметь время хорошенько обдумать, потому что дел в Петербурге нельзя обстроить вдруг и нужно иметь в виду уже слишком верное, чтобы ехать. Ты пишешь, не имею ли каких путей пристроить к Демидову. Решительно никаких. Слышно о нем, что он что-то вроде скотины, и больше ничего. А впрочем, я об этом не могу судить, не видав и не зная его. Знаю только, что казенной должностью все-таки лучше быть заняту. Тут по крайней мере слуга правительства, а там что-то вроде лакея у капризного барина. Ты представь сам, сколько могут тут произойти таких щекотливых отношений, каких ни в какой службе не может быть. И притом место Строева, кажется, упразднено вовсе, тем более, что Демидов живет уже в России и не совершает ученых экспедиций. Если ты примешь твердое желание остаться в Москве, тогда я тебе напишу то, что я думаю о тебе, о твоих средствах и о способности, заключенных в твоей природе, натурально таким образом, как может знать об этом человек посторонний, единственно основываясь на небольшом познании природы человеческой, познании, которое мудростью небес вложено мне в душу и которое, разумеется, еще слишком далеко от того, чтобы не ошибаться, но, во всяком случае, оно может быть уже полезно потому, что наведет на размышление и заставит обсмотреть глубже то, по чему столько скользил доселе взор. Я уже писал о тебе в Москву, так что ты можешь прямо явиться к Шевыреву, также к Погодину. Вот еще тебе маленькие лоскуточки. Благодарю тебя за все твои известия и уездные толки; это все для меня очень интересно. Тебе покажется странно, что для меня все, до последних мелочей, что ни делается на Руси, теперь стало необыкновенно дорого и близко, Малинка и попы интересней всяких колизеев, и все, что ни говорят у вас, хвалят или бранят меня или просто пустяки говорят, я готов принять с полным радушьем и отверстыми объятьями. Ты спрашиваешь, зачем я не говорю и не пишу к тебе о моей жизни, о всех мелочах, об обедах и проч. и проч. Но жизнь моя давно уже происходит вся внутри меня, а внутреннюю жизнь (ты сам можешь чувствовать) нелегко передавать. Тут нужны томы. Да притом результат ее явится потом весь в печатном виде. Увы! разве ты не слышишь, что мы уже давно разошлись, что я уже весь ушел в себя, тогда как ты остался еще вне? Но отовсюду, где бы я ни был, я буду посылать к тебе слово, все проникнутое участием, и буду помогать, сколько вразумит меня бог, как обрести твою, тебе назначенную дорогу, дорогу стать ближе к себе самому; а ставши ближе к себе, взошедши глубже в себя, ты меня встретишь там непременно, и встреча эта будет в несколько раз радостней встречи двух товарищей-школьников, столкнувшихся внезапно в стране скуки и заточенья, после долгих лет разлуки.
Прощай, уведомляй меня обо всем. Не ожидай расположенья писать, но пиши сейчас после полученья письма. Не гляди на то, что перо скупо сегодня, все равно, хотя три строки, не больше, выдут, посылай их. Больше, чем когда-либо, ты должен быть теперь нараспашку в письмах со мною и не думать вовсе о том, чтоб быть интересней, занимательней, а просто со всей скукой, ленью, с заспанной наружностью, карандашом, на лоскутках, за обедом, по три, по четыре слова, можешь записывать и посылать их тот же час на почту. Ты увидишь, что тебе будет гораздо легче самому после этого. Прощай.
Твой Гоголь.
На всякий случай вот тебе адреса: Шевырев – близ Тверской, в Дегтярном переулке, в собст<венном> доме. Погодин – на Девичьем поле. Прочих даст адрес Константин Сергеевич Аксаков.
О каких деньгах ты пишешь, которые лежат у тебя в депо? Если это остаток долга, который за тобой, то рассмотри прежде, точно ли не нуждаешься. Если же в тебе не настоит надобности, то узнай от маменьки, получила ли она из Москвы какие-нибудь деньги вследствие стесненных своих обстоятельств. Если получила, то замолчи, если же нет, то скажи, что тебе присланы от Прокоповича деньги по моему поручению для передачи ей, но не говори, что это долг твой мне.
Гоголь – Данилевскому А. С., 1(13) апреля 1844
1 (13) апреля 1844 г. Франкфурт [[127 - БдЧ, 1855, май, с. 105–108; Акад., XII, № 180.]]
Франкфурт.
Благодарю тебя очень за письмо от 3 марта (прежнего я не получал). Из письма твоего[[128 - Это письмо неизвестно.]] узнал несколько любопытных для меня подробностей о твоей жизни. Что ж? должность твоя[[129 - В конце 1843 г. А. С. Данилевский получил место инспектора второго Благородного пансиона при Киевской первой гимназии.]] недурна. Она может быть скучна, как может быть скучна всякая должность, если за нее мы возьмемся не так, как следует. Вопрос в том: для чего взята нами должность; если взята для себя, она будет скучна, если взята для других, вследствие загоревшегося в душе желания служить другому, а не себе, она не будет скучна. Все наслажденья наши заключены в пожертвованиях. Счастие на земли начинается только тогда для человека, когда он, позабыв о себе, начинает жить для других, хотя мы вначале думаем совершенно тому противоположно вследствие какого-то оптического обмана, который опрокидывает пред нами вверх ногами настоящий смысл. Только тоска да душевная пустота заставляет нас наконец ухватиться за ум и догадаться, что мы были в дураках. Почему, например, взявшись за должность, какова у тебя, не положить себе сделать на этом поприще, как бы оно мало ни было, сделать на нем сколько возможно более пользы? Дети – будущие люди. Если на людей, уже утвердившихся в предрассудках и заблуждениях, можно подействовать и произвести часто благодетельное потрясение, то как не подействовать на детей, которые перед нами что воск перед мрамором! Некоторые пути к тому уже в руках твоих: мы сами, лет пятнадцать тому назад, были школьниками и, верно, не позабудем долго этого времени. Припомнивши все детские свои впечатления и все обстоятельства и случаи, которые заставляли нас развиваться, можно легко найти ключ к душе другого и подействовать на устремление вперед способностей, хотя бы эти способности были заглушены или закрыты такой толстой корой, что способны даже навести недоумение насчет действительного существования их. Многое нам кажется невозможным, но потому, что наш ум не привык обращать на все стороны предмет и открывать возможностей всякого дела. Мы так устроены, что все должны приобретать насильно и ничего не дается нам даром. Даже истинной веселости духа не приобретешь до тех пор, пока не заставишь себя насильно быть веселым. Веселость я почувствовал только тогда, когда печали и томительные душевные расположения заставили меня устремиться к этой веселости. Минуты спокойствия душевного я приобретал, как противоядия беспокойствам; сильные беспокойства заставили меня стремиться к спокойствию и часто находить его. Вот тебе отрывок из моей душевной истории. Воспользуйся, если что найдешь тут полезного и для себя, а нет – отложи его в сторону. Я говорю это, впрочем, так, как говорил в Нежине грек, продававший чубуки: «Вот чубук, цена 2 рубли; такой точно у Стефанеева 8 гривен; хочешь, купи, хочешь, не купи!» Никто, кроме нас самих, не может так верно узнать, что нам нужно, если мы захотим только об этом сурьезно подумать.
Ты спрашиваешь: зачем я в Ницце, и выводишь догадки насчет сердечных моих слабостей[[130 - Намек на слух об увлечении Гоголя А. О. Смирновой.]]. Это, верно, сказано тобою в шутку, потому что ты знаешь меня довольно с этой стороны. А если бы даже и не знал, то, сложивши все данные, ты вывел бы сам итог. Да и трудно, впрочем, тому, который нашел уже то, что получше, погнаться за тем, что похуже. Переезды мои большей частию зависят от состояния здоровья, иногда для освежения души после какой-нибудь трудной внутренней работы (климатические красоты не участвуют; мне решительно все равно, что ни есть вокруг меня), чаще для того, чтобы увидеться с людьми, нужными душе моей. Ибо с недавнего времени узнал я одну большую истину, именно, что знакомства и сближенья наши с людьми вовсе не даны нам для веселого препровождения, но для того, чтобы мы позаимствовались от них чем-нибудь в наше собственное воспитанье, а мне нужно еще слишком много воспитаться. Посему о самых трудах моих и сочинениях могу тебе сказать только то, что строение их соединено тесно с моим собственным строением. Мне нужно слишком поумнеть для того, чтобы из меня вышло точно что-нибудь умное и дельное. Прочитавши это письмо мое, ты скажешь опять: «И все-таки я ничего не знаю о нем самом». Что ж делать? Подобные упреки я не от одного тебя слышу. Мне всегда приписывали какую-то скрытность. Отчасти она есть во мне. Но чаще это происходит оттого, что не знаешь, откуда и с которого конца начать. Весьма натурально, что хотелось бы прежде всего сказать о том, что поближе в настоящую минуту к душе, но в то же время чувствуешь, что еще не нашел даже и слов, которыми бы мог дать почувствовать другому то, что почувствовал сам. Напиши мне о гимназии. Как идет ученье, какие учителя, кто главный начальник, есть ли дети с способностями? Есть ли также в университете студенты, подающие надежды?
Передай мой душевный поклон Алексею Васильевичу Капнисту, которого я и прежде уважал искренно, а теперь еще более за его дружбу к тебе. Напиши: в чем состоит его должность. Прощай, целую тебя. Христос воскрес!
Во Франкфурте я проживу, может быть, все лето и осень, вместе с Жуковским, в его загородном домике. Впрочем, если я уеду куда, ты все адресуй по-прежнему во Франкфурт, оттуда письма найдут меня.
Данилевский А. С. – Гоголю, 22 июня 1844
22 июня 1844 г. Киев [[131 - ВЕ, 1890, № 2, с. 590–591. Печатается по этому изданию.]]
Письма адресуй в Рим на имя банкира барона Валентини (Piazza Apostoli nel suo proprio palazzo). Если не получишь ответа, не слушайся и пиши вслед за тем другое. Все пиши, что ни делается с тобою, потому что все это для меня интересно. Я напишу потом вдруг. Если же тебе захочется получить ответ еще до сентября месяца (европейского), то адресуй в Гастейн, что в Тироле, откуда в сентябре я выеду в Рим.
Через неделю после этого письма ты получишь отпечатанные «Мертвые души»[[112 - Печатание «Мертвых душ» закончилось 15–17 мая 1842 г.]], преддверие немного бледное той великой поэмы, которая строится во мне и разрешит наконец загадку моего существования[[113 - Гоголь имеет в виду создание второго и третьего тома «Мертвых душ».]]. Но довольно.
Крепись и стой твердо: прекрасного много впереди! Если же что в жизни смутит тебя, наведет беспокойство, сумрак на мысли, вспомни обо мне, и при одном уже твоем напоминании отделится сила в твою душу! Иначе не сильна дружба и вера, обитающая в твоей душе!
Прощай, обнимаю тебя. Будь здоров. Вместе с письмом сим несется к тебе благословенье и сила.
Твой Гоголь.
Гоголь – Данилевскому А. С., 11(23) октября 1842
11 (23) октября 1842 г. Рим [[114 - Кулиш, т. 1, с. 316–317 (с пропусками); Акад., XII, № 87.]]
Рим. Октября 23/11.
Наконец я дождался от тебя письма. Две недели, как живу уже в Риме, всякий день наведываюсь на почту и только вчера получил первое письмо из России. Это письмо было от тебя. Благодарю тебя за него. Благодарю также за твой отзыв о моей поэме[[115 - О «Мертвых душах».]]. Он был мне очень приятен, хотя в нем слишком много благосклонности, точно как будто бы ты боялся тронуть какую-нибудь чувствительную струну. Еще прежде позволительно было щадить меня, но теперь это грешно: мне нужно скорей указать все мои слабые стороны; этого я требую больше всего от друзей моих.
Но в сторону все это, и поговорим прежде всего о тебе. Твое уединение и тоска от него меня очень опечалили. Натурально – самое лучшее, что можно сделать, бежать от них обоих.
Но куда бежать? Ты хочешь в Петербург, хочешь сделаться чиновником: не есть ли это только одна временная отвага, рожденная скукой и бесплодием нынешней твоей жизни?
Тебя Петербург манит прошедшими воспоминаниями. Но разве ты не чувствуешь, что чрез это самое он станет теперь еще печальнее в глазах твоих? Прежний круг довольно рассеялся; остальные отделились друг от друга и уже предались скучному уединению. Новый нынешний петербургский люд слишком отзывается эгоизмом, пустым стремлением. Тебе холодно, черство покажется в Петербурге. После пятилетнего своего скитания по миру и невольно чрез то приобретенной независимой жизни тебе будет труднее привыкнуть к Петербургу, чем к другому месту. Притом ядовитый климат его – не будет ли он теперь чувствительней для тебя, чем прежде, когда ты и в Малороссии болеешь? Я думал обо всем этом, и мне приходило на мысль, не лучше ли тебе будет в Москве, чем в Петербурге? Там более теплоты и в климате и в людях. Там живут большею частью такие друзья мои, которые примут тебя радушно и с открытыми объятиями. Там меньше расчетов и денежных вычислений. Посредством Шевырева можно будет как-нибудь доставить тебе место при генерал-губернаторе Голицыне. Подумай обо всем этом и уведоми меня скорее, чтобы я мог тебя вовремя снабдить надлежащими письмами, к кому следует.
Если ж ты решился служить в Петербурге и думаешь, что в силах начать серьезную службу, то совет мой – обратиться к Норову; он же был прежде твоим начальником. Теперь он обер-прокурор в Сенате. Из всех служб, по моему мнению, нет службы, которая могла бы быть более полезна и более интересна сама по себе, как служба в Сенате. Теперь же, как нарочно, все обер-прокуроры хорошие люди. К Норову я напишу письмо, в котором изъясню, как и почему следует тебе оказать всякую помощь. Я с ним виделся теперь в Гастейне. Итак, подумай обо всем этом и уведоми меня.
Но ради бога, будь светлей душой. В минуты грустные припоминай себе всегда, что я живу еще на свете, что бог бережет жизнь мою, стало быть, она, верно, нужна друзьям души и сердца моего, и потому гони прочь уныние и не думай никогда, чтобы без руля и ветрила неслася жизнь твоя. Все, что ни дается нам, дается в благо: и самые бесплодные роздыхи в нашей жизни, может быть, уже суть семена плодородного в будущем.
Уведоми меня сколько-нибудь о толках, которые тебе случится слышать о «Мертвых душах», как бы они пусты и незначительны ни были, с означением, из каких уст истекли они. Ты не можешь вообразить себе, как все это полезно мне и нужно и как для меня важны все мнения, начиная от самых необразованных до самых образованных.
Прощай, будь здоров и не замедли ответом.
Твой Г.
Адрес мой: Via Felice, № 126, 3 piano.
Данилевский А. С. – Гоголю, ноябрь 1842
Ноябрь 1842 г. Миргород (?) [[116 - ВЕ, 1890, № 2, с. 585–587. Печатается по этому изданию.]]
Недели две тому назад я получил письмо твое[[117 - От 11 (23) октября 1842 г.]]. Оно, как почти все письма твои, освежило и отвело мне душу. Как я благодарен тебе за твое участие и сколько оно мне, если бы ты знал, драгоценно и нужно!
Я совершенно согласен с тобой во всем, что говоришь ты насчет Петербурга. Все взвесил и обдумал со всей досужностью, свойственной моей деревенской жизни! Ради бога, найди средства избавить меня от Петербурга! Посели меня в Москве, и я ни за что не буду так благодарен тебе. Но дело в том, где и как служить в Москве? При Голицыне, говоришь ты: прекрасно! и мне совершенно по душе; но ты забываешь, мой добрый Николай, что служить при Голицыне значит служить без жалованья, чего я теперь никак не в силах. Три-четыре года такой службы в Москве сведут меня глаз на глаз с нищетою. Да, это истина, и такая, которая не требует никакого пояснения. В Петербурге, мне кажется, легче найти службу с жалованьем, да и жить в Петербурге дешевле. Где найти в Москве таких благодетельных кухмистров, которые в Северной Пальмире за один рубль, а иногда и того меньше, снабжают всю нашу бедную чиновную братью подлейшим обедом?
Видишь ли: мысль моя была вступить в департамент внешней торговли: там хорошее жалованье и начальник знакомый твой кн. Вяземский. Другая мысль, которая, признаюсь, ласкала меня гораздо более, – это служить по министерству иностранных дел. Там бы только, кажется, я попал на свою дорогу и ничто другое не отвлекало бы меня. В два-три года я мог бы уразуметь итальянский и испанский языки и, может быть, со временем получил бы где-нибудь место при миссии – единственная цель моих желаний и честолюбия. Но у тебя там нет никого, кто бы взялся похлопотать за меня и помочь мне, и как ты один составляешь мои надежды, то я прихожу в отчаяние осуществить когда-нибудь мою любимую идею.
В Сенате служить нет никакого у меня желания и цели. Хорошо бы начать там службу, как только вышли из Нежина, а теперь чем и как я буду служить в Сенате без охоты и без жалованья, ибо жалованье в Сенате равняется, как ты знаешь, такому же в наших уездных судах: столоначальники получают не более 800 руб. ассигнациями.
При таких обстоятельствах устрой меня, как хочешь; согласи их, если это возможно, не забывая совсем моих желаний и выгод материальных. Москва мне очень улыбается; в ней, кажется, я был бы счастливее, нежели в Петербурге, если уж нет надежд попасть при какой-нибудь иностранной миссии.
А вот еще: не имеешь ли ты каких-нибудь проводников, чтобы доставить мне место, которое занимал Строев при Демидове[[118 - По воспоминаниям Данилевского, речь шла о Владимире Михайловиче Строеве (Письма, т. 2, с. 258), занимавшем место секретаря при А. Н. Демидове – богатом коллекционере и меценате, организаторе научных экспедиций.]]. Это было бы едва ли не лучше всего. Впрочем, отдаюсь совершенно на произвол твоей дружбы; пускай она, сообразив все, укажет тебе дорогу, по которой поплетусь в последний раз с крайне облегченной ношей когда-то грузных надежд моих.
Зачем не пишешь ничего о себе: как живешь? здоров ли? где нагружаешься макаронами, фриттрами[[119 - Жареное кушанье (от и т. frittura).]] и пастами? Где пьешь свою аврору? Что задумал? чем занят? При всей моей радости получить письмо твое, мне было грустно читать его: куда девались эти бесценные подробности, которые, играя со мной и закружив меня невольно, переносили к тебе, в твой третий этаж, на счастливую Via Felice. Или я сделался чужим для тебя? или думаешь, что это не даст мне прежних удовольствий?
Недавно получил письмо от Прокоповича. Он, спасибо ему, хоть изредка пишет ко мне и не лишает меня, как ты, известий о себе, городе и наших общих знакомых. С маменькой твоей я не видался давно за проклятою болезнью, которая около году меня не оставляет; да у нас теперь и погода такова, что, хоть бы желал, нет возможности сделать ни шагу из дому. Зима нам изменила. Дороги никакой – ни в санях, ни на колесах. Можешь себе представить: январь месяц, а хоть борщ вари с молодой крапивой. Ты спрашиваешь меня, что здесь говорят о твоей поэме. Я не вижу почти никого и никуда не выезжаю. Те немногие, с которыми имею сношение, не нахвалятся ею. Патриоты нашего уезда, питая к тебе непримиримую вражду, теперь благодарны уже за то, что ты пощадил Миргород. Я слышал между прочими мнение одного, который может служить оракулом этого класса господ, осыпавшего такими похвалами твои «Мертвые души», что я сначала усомнился было в его искренности; но жестокая хула и негодование на твой «Миргород» помирили меня с нею. «Как! – говорил он, – миргородский уезд произвел до тридцати генералов, адмиралов, министров, путешественников вокруг света (черт знает где он их взял!), проповедников (не шутка!), водевилиста, который начал писать водевили, когда их не писали и в Париже». Это относилось к Нарежному[[120 - Вероятно, собеседник Данилевского имел в виду комедию В. Т. Нарежного «Заморский принц, или Невеста под замком», на сюжет которой позже было написано несколько водевилей; сам Нарежный водевилей не писал.]], как после объяснил он, и проч., и проч.; всех припомнить не могу! Да ты лучше поймешь, когда я скажу, что твой ласкатель и противник не кто таковский, как Василий Яковлевич Ламиковский. Всего более тешило меня, что мошенник Малинка (эпитет, без которого никто не может произнести его имени), но которого черт не взял, как говорил мой зять Иван Осипович, хохотал до упаду, читая «Мертвые души» (вероятно, от меня косвенными путями дошедшие) в кругу всей сорочинской bourgeoisie[[121 - мещанства (фр.).]] и поповщины. «Ревизор» ему очень известен и нередко, говорят, перечитывается в том же кругу и надрывает бока смешливым молодым попам и попадьям.
Что сказать тебе еще? Я вечно приберусь писать, когда надобно спешить как можно, чтобы не опоздать на почту. Прокопович обещал мне прислать твои сочинения, печатаемые под его надзором[[122 - В конце мая 1842 г. Гоголь поручил Н. Я. Прокоповичу наблюдать за четырехтомным изданием своих сочинений (вышло в свет в январе 1843 г.).]], и до сих пор не имею их. С Пащенком не видался очень давно; у него по-прежнему вечный флюс, что, впрочем, не мешает ему ухаживать за Старицкой, племянницей Арендта, на которой он, говорят, уже и засватан. Баранов женился, но убил бобра[[123 - То есть женился неудачно.]]! Трахимовский на днях поехал в Житомир, куда назначен директором училищ. Все прочее обстоит благополучно.
Гоголь – Данилевскому А. С., 14(26) февраля 1843
14 (26) февраля 1843 г. Рим [[124 - Сочинения и письма, т. 5, с. 429–435 (с пропуском и ошибкой в датировке); Акад., XII, № 107.]]
Рим. 26/14 февраля.
Я получил вчера письмо твое[[125 - См. предыдущее письмо.]]. Ты не аккуратен – не выставил ни дня, ни числа, я не знаю даже, откуда оно писано. На пакете почта выставила штемпель какого-то неведомого мне места. Адресую наудалую по-прежнему в Миргород. Поговорим о предположениях твоих насчет тебя и службы, которые находятся у тебя в письме. Служить в Петербурге и получить место во внешн<ей> торг<овле> или иност<ранных> дел не так легко. Иногда эти места вовсе зависят не от тех именно начальников, как нам кажется издали, и с ними сопряжены такие издалека не видные нам отношения!..
В иностр<анной> коллегии покамест доберешься <до> какого-либо заграничн<ого> места, бог знает сколько придется тащить лямку. Вооружиться терпением можно иногда, но меня страшит и самый петербург<ский> климат. Ты же и теперь, и в деревне, находишься, как видно, в болезненном состоянии, и едва ли может удовлетворить тебя эта отдаленная цель, которую ты видишь, – ехать за границу. Вряд ли твои впечатления будут те же или подобны тем, которые чувствовал прежде. Свежести первой юности уже нет, прелесть новости уже пропала. И притом, разве ты не чувствуешь, что вовсе к тебе уже примешалась та болезнь, которою одержимо все наше поколение: неудовлетворенье и тоска. Против них нужно, чтобы слишком твердый и сильный отпор заключился в нашей собственной груди, сила стремления к чему-нибудь избранному всей душой и всей глубиной ее, одним словом – внутренняя цель, сильный предмет к чему бы то ни было, но все же какая бы то ни была страсть. Стало быть, ты чувствуешь, что тут нужны радикальные лекарства, и дай бог, чтобы ты нашел их в собственной душе своей. Ибо все находится в собственной душе нашей, хотя мы не подозреваем и не стремимся даже к тому, чтобы проникнуть и найти их. Но об этом придет время поговорить после. Ни ты не готов еще слушать, ни я не готов еще говорить.
Покамест я думаю и могу советовать вот что: если тебе будет уже невмочь жить более в деревне, тогда выезжай из нее. Выезд все будет хорош, и нельзя, чтобы не был в каком-нибудь отношении благодетелен. Поезжай прежде в Москву, отведай прежде Москвы, а потом, если не слюбится, поезжай в Петербург. Советуя тебе в Москву, я, натурально, имел в виду твое состояние и служить при Голицыне, предполагал устроить так, чтоб ты мог получать жалованье. Шевырев прекрасная душа, и я на него более мог положиться, чем на кого-либо иного, зная вместе с тем его большую аккуратность. Что касается до жизни, то не думай, чтоб это было дороже петербургской. Ты увидишь, что тебе совершенно не нужно будет дома обедать и побуждения не будет для этого. Кроме того, что это очень скучно, тебя примут радушно и совершенно по-домашнему все те, которые меня любят. Само собою разумеется, что ты должен съежиться относительно разных издержек, и слава богу, я этому рад. Значение этого слишком важно в психологическом отношении, хотя ты еще не знаешь, в каком именно. Впрочем, съежиться тебе вовсе в Москве не будет так обидно и трудно, как может быть в Петербурге. Одеваться ты должен скромно. Одеваться дурно ты не можешь, ибо одевается дурно не тот, кто беден, а тот, кто не имеет вкуса или кто слишком хлопочет об этом. Ты должен пренебречь многими теми мелочами, которыми, кажется, трудно пренебречь и которыми, кажется, как будто уронишь себя. Это обман, совершенно оптический обман, и ты увидишь, что свет потом обратится к тебе и почтит в тебе и назовет именно достоинством то самое, что ему казалось в тебе недостатком. Ты не должен ни чуждаться света, ни входить в него, сильно связываясь с ним интересами своей жизни. Ты должен сохранить всегда и везде независимость лица своего. Будь везде, как дома, свободен и ровен; это будет тебе и не трудно, потому что со всеми теми людьми, с которыми я знаком особенно, можно совершенно быть просту. Да и везде совершенно можно быть просту. Будь снисходителен вообще к людям и не останавливайся резкостью тона, иногда странной замашкой. Умей мимо всего этого найти прекрасные стороны человека, умей за два-три истинные достоинства простить десять, двадцать недостатков, умей указать ему эти достоинства, и ты будешь ему другом и можешь действовать на него благодетельно, не льстя ему, но указывая ему на его прекрасную сторону, может быть, им пренебреженную. В минуту, когда чем-нибудь будет уколото самолюбие душевное или даже просто чувство и движенье душевное, какая-нибудь чувствительная струна (такие минуты могут случиться часто в свете), помни всегда, что ты пришел как зритель и любопытный, а вовсе не так, как актер и участвующий, что тебе следует всему извинить и что ты в таком же отношении посторонний свету, как путешественник, высадившийся на пароходе из Петербурга в Гамбург, есть посторонний гамбургской жизни внутри домов и имеющимся, может быть, там сплетням. Конечно, трудно сохранить такую независимость характера, не заключив внутри себя какого-нибудь постоянного труда, который бы хоть на два часа в день занял в урочное время душу. Но нет человека, который бы не был создан и определен к чему-нибудь, и горе тому, кто не даст труда узнать себя, кто не испытает и не пробует себя и не просит помощи у высших сил обрести и попасть на свою дорогу. Круг велик вокруг нас, и дорог множество. Как не быть им в Москве? Там издается, например, журнал[[126 - Вероятно, Гоголь имеет в виду «Москвитянин», издававшийся с 1841 г. М. П. Погодиным при активном участии С. П. Шевырева.]]. Если взглянуть пристально даже на это, то много представится совершенно новых сторон, и сторон таких, на одну из которых, может быть, даже и легко… Но довольно об этом! Может быть, тебе даже странными покажутся слова мои и в них послышится какое-нибудь ветхое нравоучение. Если так, то отложи письмо мое до другой минуты и в минуту более душевную перечти опять и вновь его. Есть те ветхие истины, которые в иную минуту бывает сладко услышать и которые бывают уже святы самой ветхостью своею. Во всяком случае, помни чаще всего одну истину. Везде, во всяком месте и угле мира, в Париже ли, в Миргороде ли, в Италии ли, в Москве ли, везде может настигнуть тебя тяжелая, может быть, даже жестокая тоска, и никаких нет спасений от нее. И это есть глубокое доказательство того, что в душу твою вложены тайные стремления к чему-нибудь, что беспокойно мечутся силы, не слышащие и не узнающие назначения своего, без сомнения, не пустого и ничтожного. Иначе тебя бы удовлетворила или бы по крайней мере усыпила праздная и однообразная жизнь, бредущая шаг за шагом. Но удовлетворенья нет тебе! И ничем, никакими обеспеченьями и видимыми выгодами жизни не получишь ты его, и не приобретет торжественного, светлого покоя душа твоя. Один только тот труд, одна только та жизнь, для которой стихии заключены в нашей природе, та только жизнь в силах нас наполнить. Но как указать эту жизнь? Как мы можем указать другому то, что есть внутри? Какой доктор, хотя бы он знал донага всю натуру человека, может нам определить нашу внутреннюю болезнь? Бедный больной иногда имеет над ним по крайней мере то преимущество, что может чувствовать, где, в каком месте у него болит, и по инстинкту выбирает сам для себя лекарство.
Во всяком случае, поедешь ли ты в Москву или в Петербург, примись душевно за труд, какой бы ни было, не изнуряя себя, а в урочный час и время, хоть и не долго, и сделай его постоянным и ежедневным, не считай остальное и свободное и, может быть, даже лучшее время за главное, за цель, для которой предпринят труд как необходимое средство. А считай просто это свободное и лучшее время наградой за предпринятый труд. Не ищи этого труда вдали, оглянись на всяком месте пристальнее вокруг себя: то, что ближе, то можно лучше осмотреть глазом. И если в предстоящем труде есть хотя сколько-нибудь, к чему бы хотя часть участия лежала, берись за него добросовестно и покойно совершай его. Если даже он и не тот именно, для чего вызвана твоя жизнь, все равно, и обман может доставить хоть временное спокойствие душе, а после труда все-таки остался опыт и все-таки стал чрез то ближе к тому труду, который определен быть нашим назначением. Во всяком случае, куда ни поедешь или только задумаешь ехать, и вообще, если тебе случится думать и представлять себе то, что ожидает тебя впереди, даю тебе одно из ветхих, старых моих правил, даю тебе его не как подарок, а просто как хозяин дает гостю свой старый, поношенный халат надеть на время, пока тот сидит у него, и потом, натурально, его сбросит. Представляй всегда, что тебя ждет черствая встреча, жесткая погода, холод и людей и душ их, тернистая, трудная жизнь и что для тоски будет там полное раздолье и развал, и вооружись заранее идти твердо на все это, ты всегда выиграешь и будешь в барышах. Ты все-таки ни слова не написал о том, как решился ты именно и когда. Впрочем, если тебе придется, вследствие тоски или чего бы то ни было, выехать из деревни, то Москва все-таки стоит на дороге, и все-таки проживи в Москве, хотя для того, чтобы иметь время хорошенько обдумать, потому что дел в Петербурге нельзя обстроить вдруг и нужно иметь в виду уже слишком верное, чтобы ехать. Ты пишешь, не имею ли каких путей пристроить к Демидову. Решительно никаких. Слышно о нем, что он что-то вроде скотины, и больше ничего. А впрочем, я об этом не могу судить, не видав и не зная его. Знаю только, что казенной должностью все-таки лучше быть заняту. Тут по крайней мере слуга правительства, а там что-то вроде лакея у капризного барина. Ты представь сам, сколько могут тут произойти таких щекотливых отношений, каких ни в какой службе не может быть. И притом место Строева, кажется, упразднено вовсе, тем более, что Демидов живет уже в России и не совершает ученых экспедиций. Если ты примешь твердое желание остаться в Москве, тогда я тебе напишу то, что я думаю о тебе, о твоих средствах и о способности, заключенных в твоей природе, натурально таким образом, как может знать об этом человек посторонний, единственно основываясь на небольшом познании природы человеческой, познании, которое мудростью небес вложено мне в душу и которое, разумеется, еще слишком далеко от того, чтобы не ошибаться, но, во всяком случае, оно может быть уже полезно потому, что наведет на размышление и заставит обсмотреть глубже то, по чему столько скользил доселе взор. Я уже писал о тебе в Москву, так что ты можешь прямо явиться к Шевыреву, также к Погодину. Вот еще тебе маленькие лоскуточки. Благодарю тебя за все твои известия и уездные толки; это все для меня очень интересно. Тебе покажется странно, что для меня все, до последних мелочей, что ни делается на Руси, теперь стало необыкновенно дорого и близко, Малинка и попы интересней всяких колизеев, и все, что ни говорят у вас, хвалят или бранят меня или просто пустяки говорят, я готов принять с полным радушьем и отверстыми объятьями. Ты спрашиваешь, зачем я не говорю и не пишу к тебе о моей жизни, о всех мелочах, об обедах и проч. и проч. Но жизнь моя давно уже происходит вся внутри меня, а внутреннюю жизнь (ты сам можешь чувствовать) нелегко передавать. Тут нужны томы. Да притом результат ее явится потом весь в печатном виде. Увы! разве ты не слышишь, что мы уже давно разошлись, что я уже весь ушел в себя, тогда как ты остался еще вне? Но отовсюду, где бы я ни был, я буду посылать к тебе слово, все проникнутое участием, и буду помогать, сколько вразумит меня бог, как обрести твою, тебе назначенную дорогу, дорогу стать ближе к себе самому; а ставши ближе к себе, взошедши глубже в себя, ты меня встретишь там непременно, и встреча эта будет в несколько раз радостней встречи двух товарищей-школьников, столкнувшихся внезапно в стране скуки и заточенья, после долгих лет разлуки.
Прощай, уведомляй меня обо всем. Не ожидай расположенья писать, но пиши сейчас после полученья письма. Не гляди на то, что перо скупо сегодня, все равно, хотя три строки, не больше, выдут, посылай их. Больше, чем когда-либо, ты должен быть теперь нараспашку в письмах со мною и не думать вовсе о том, чтоб быть интересней, занимательней, а просто со всей скукой, ленью, с заспанной наружностью, карандашом, на лоскутках, за обедом, по три, по четыре слова, можешь записывать и посылать их тот же час на почту. Ты увидишь, что тебе будет гораздо легче самому после этого. Прощай.
Твой Гоголь.
На всякий случай вот тебе адреса: Шевырев – близ Тверской, в Дегтярном переулке, в собст<венном> доме. Погодин – на Девичьем поле. Прочих даст адрес Константин Сергеевич Аксаков.
О каких деньгах ты пишешь, которые лежат у тебя в депо? Если это остаток долга, который за тобой, то рассмотри прежде, точно ли не нуждаешься. Если же в тебе не настоит надобности, то узнай от маменьки, получила ли она из Москвы какие-нибудь деньги вследствие стесненных своих обстоятельств. Если получила, то замолчи, если же нет, то скажи, что тебе присланы от Прокоповича деньги по моему поручению для передачи ей, но не говори, что это долг твой мне.
Гоголь – Данилевскому А. С., 1(13) апреля 1844
1 (13) апреля 1844 г. Франкфурт [[127 - БдЧ, 1855, май, с. 105–108; Акад., XII, № 180.]]
Франкфурт.
Благодарю тебя очень за письмо от 3 марта (прежнего я не получал). Из письма твоего[[128 - Это письмо неизвестно.]] узнал несколько любопытных для меня подробностей о твоей жизни. Что ж? должность твоя[[129 - В конце 1843 г. А. С. Данилевский получил место инспектора второго Благородного пансиона при Киевской первой гимназии.]] недурна. Она может быть скучна, как может быть скучна всякая должность, если за нее мы возьмемся не так, как следует. Вопрос в том: для чего взята нами должность; если взята для себя, она будет скучна, если взята для других, вследствие загоревшегося в душе желания служить другому, а не себе, она не будет скучна. Все наслажденья наши заключены в пожертвованиях. Счастие на земли начинается только тогда для человека, когда он, позабыв о себе, начинает жить для других, хотя мы вначале думаем совершенно тому противоположно вследствие какого-то оптического обмана, который опрокидывает пред нами вверх ногами настоящий смысл. Только тоска да душевная пустота заставляет нас наконец ухватиться за ум и догадаться, что мы были в дураках. Почему, например, взявшись за должность, какова у тебя, не положить себе сделать на этом поприще, как бы оно мало ни было, сделать на нем сколько возможно более пользы? Дети – будущие люди. Если на людей, уже утвердившихся в предрассудках и заблуждениях, можно подействовать и произвести часто благодетельное потрясение, то как не подействовать на детей, которые перед нами что воск перед мрамором! Некоторые пути к тому уже в руках твоих: мы сами, лет пятнадцать тому назад, были школьниками и, верно, не позабудем долго этого времени. Припомнивши все детские свои впечатления и все обстоятельства и случаи, которые заставляли нас развиваться, можно легко найти ключ к душе другого и подействовать на устремление вперед способностей, хотя бы эти способности были заглушены или закрыты такой толстой корой, что способны даже навести недоумение насчет действительного существования их. Многое нам кажется невозможным, но потому, что наш ум не привык обращать на все стороны предмет и открывать возможностей всякого дела. Мы так устроены, что все должны приобретать насильно и ничего не дается нам даром. Даже истинной веселости духа не приобретешь до тех пор, пока не заставишь себя насильно быть веселым. Веселость я почувствовал только тогда, когда печали и томительные душевные расположения заставили меня устремиться к этой веселости. Минуты спокойствия душевного я приобретал, как противоядия беспокойствам; сильные беспокойства заставили меня стремиться к спокойствию и часто находить его. Вот тебе отрывок из моей душевной истории. Воспользуйся, если что найдешь тут полезного и для себя, а нет – отложи его в сторону. Я говорю это, впрочем, так, как говорил в Нежине грек, продававший чубуки: «Вот чубук, цена 2 рубли; такой точно у Стефанеева 8 гривен; хочешь, купи, хочешь, не купи!» Никто, кроме нас самих, не может так верно узнать, что нам нужно, если мы захотим только об этом сурьезно подумать.
Ты спрашиваешь: зачем я в Ницце, и выводишь догадки насчет сердечных моих слабостей[[130 - Намек на слух об увлечении Гоголя А. О. Смирновой.]]. Это, верно, сказано тобою в шутку, потому что ты знаешь меня довольно с этой стороны. А если бы даже и не знал, то, сложивши все данные, ты вывел бы сам итог. Да и трудно, впрочем, тому, который нашел уже то, что получше, погнаться за тем, что похуже. Переезды мои большей частию зависят от состояния здоровья, иногда для освежения души после какой-нибудь трудной внутренней работы (климатические красоты не участвуют; мне решительно все равно, что ни есть вокруг меня), чаще для того, чтобы увидеться с людьми, нужными душе моей. Ибо с недавнего времени узнал я одну большую истину, именно, что знакомства и сближенья наши с людьми вовсе не даны нам для веселого препровождения, но для того, чтобы мы позаимствовались от них чем-нибудь в наше собственное воспитанье, а мне нужно еще слишком много воспитаться. Посему о самых трудах моих и сочинениях могу тебе сказать только то, что строение их соединено тесно с моим собственным строением. Мне нужно слишком поумнеть для того, чтобы из меня вышло точно что-нибудь умное и дельное. Прочитавши это письмо мое, ты скажешь опять: «И все-таки я ничего не знаю о нем самом». Что ж делать? Подобные упреки я не от одного тебя слышу. Мне всегда приписывали какую-то скрытность. Отчасти она есть во мне. Но чаще это происходит оттого, что не знаешь, откуда и с которого конца начать. Весьма натурально, что хотелось бы прежде всего сказать о том, что поближе в настоящую минуту к душе, но в то же время чувствуешь, что еще не нашел даже и слов, которыми бы мог дать почувствовать другому то, что почувствовал сам. Напиши мне о гимназии. Как идет ученье, какие учителя, кто главный начальник, есть ли дети с способностями? Есть ли также в университете студенты, подающие надежды?
Передай мой душевный поклон Алексею Васильевичу Капнисту, которого я и прежде уважал искренно, а теперь еще более за его дружбу к тебе. Напиши: в чем состоит его должность. Прощай, целую тебя. Христос воскрес!
Во Франкфурте я проживу, может быть, все лето и осень, вместе с Жуковским, в его загородном домике. Впрочем, если я уеду куда, ты все адресуй по-прежнему во Франкфурт, оттуда письма найдут меня.
Данилевский А. С. – Гоголю, 22 июня 1844
22 июня 1844 г. Киев [[131 - ВЕ, 1890, № 2, с. 590–591. Печатается по этому изданию.]]