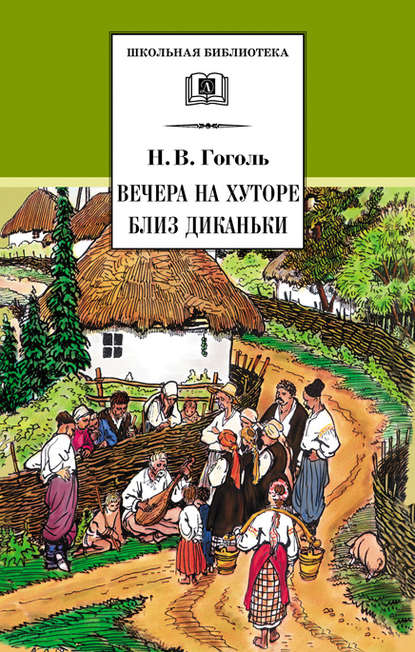По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Вечера на хуторе близ Диканьки
Год написания книги
2017
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Майская ночь, или Утопленница
Реальные черты быта родной Васильевки отразились у Гоголя и в повести «Майская ночь». Наиболее явственно эти бытовые реалии сказались здесь в размышлениях героев об одном из новейших изобретений цивилизации – применении паровой силы. «Ну, сват, вспомнил время! – говорит в повести один из героев, сельский винокур. – Тогда от Кременчуга до самых Ромен не насчитывали и двух винниц. А теперь… Слышал ли ты, что повыдумали проклятые немцы? Скоро, говорят, будут курить не дровами, как все честные христиане, а как-то чертовским паром».
Хотя «критика» здесь винокуром «прогрессивного» немецкого винокурения конечно же лукава (сам он говорит о пьянице Каленике: «Это полезный человек; побольше такого народу – и винница наша славно бы пошла…»), однако в ней достаточно очевидно проглядывает отношение самого Гоголя к использованию этого изобретения – «курению паром». В 1824-м или в начале 1825 года отцу Гоголя, Василию Афанасьевичу, было сделано предложение об устройстве паровой винокурни – подобная имелась уже по соседству, в имении его богатого родственника Д. П. Трощинского (эта винокурня представляла собой, по сути, один из первых в Малороссии винокуренных заводов). Еще ранее, в 1819 году, сам Василий Афанасьевич писал Трощинскому, что на «производство винокурения парами» он и другие («мы с простыми умами») смотрят «как на некое чудо». Вероятно, отношение Василия Афанасьевича к этому проекту было отрицательным. Ибо по сравнению с соседскими имениями васильевская винокурня всегда была чрезвычайно малопроизводительна, так что горелку даже докупали у соседей. Винокурение на Украине составляло одну из существенных статей дохода. Уже после смерти мужа мать Гоголя, стесненная в материальных средствах, приобретает оборудование для парового винокурения, позднее, в 1833 году, она пытается завести в своем имении – под началом какого-то «шарлатана, австрийского подданного» – кожевенную и сапожную фабрики, не довольствуясь той кустарной выделкой кожи, которая была при Василии Афанасьевиче. Примечателен в этом свете стихотворный «девиз» отца Гоголя:
Одной природой наслаждаюсь,
Ничьим богатством не прельщаюсь,
Доволен я моей судьбой,
И вот девиз любимый мой.
Вероятно, Мария Ивановна имела основания незадолго до смерти мужа жаловаться ему в письме на недостаток средств: «…Все говорят и думают, что мы богаты, а от скупости не хотим ничего иметь, и не знают нашей, иногда крайней нужды…»
Воспоминанием родных мест отзывается в повести и описание майского гулянья парубков и их ряженья. Вообще говоря, тема ряженья – одна из «сквозных» для повестей «Вечеров…». Помимо «Майской ночи», эта тема затрагивается в «Сорочинской ярмарке» («сатана в костюме ужасной свиньи»), в «Вечере накануне Ивана Купала» (свадебное ряженье). Поэтому необходимо хотя бы отчасти затронуть вопрос об отношении Гоголя к «карнавальному» народному веселью в целом.
В публикации «Московского вестника» за 1827 год говорится: «Масленица напоминает мне итальянский карнавал, который в то же время и таким же образом отправляется… Карнавал тем только отличается от Масленицы, что в Италии день и ночь в это время ходит дозором конная и пешая городская стража и не позволяет излишнего буйства».
Позднее в своих письмах из Италии Гоголь не раз сравнивал римский карнавал с русской Масленицей, однако ни римскую карнавальную жизнь, ни русское масленичное или святочное гулянье Гоголь ни в ранних, ни в поздних своих произведениях отнюдь не идеализировал.
Такое именно отношение и характеризует изображение святочной гульбы парубков в «Майской ночи». Действие этой повести происходит, судя по времени года (май), в так называемые Троицкие святки – на «зеленой», или «русальной», неделе, начинающейся с праздника Святой Троицы.
Все события «Майской ночи» – прежде всего гульба веселящихся парубков – разворачиваются, как указывает автор, определенно в недозволенное, с точки зрения благочестивых обычаев, время, а именно ночью, «когда благочестивые люди уже спят» (так сообщает об этом рассказчик). «Нет, хлопцы… не хочу! – увещевает разгулявшихся парубков Левко. – Что за разгулье такое! Как вам не надоест повесничать? И без того уже прослыли мы бог знает какими буянами. Ложитесь лучше спать!»
Еще несколькими репликами героев Гоголь подсказывает и какого рода «вдохновение» охватывает гуляющих ночью «вволю» парубков. «Плечистый и дородный парубок, считавшийся первым гулякой и повесой на селе», восклицает: «„Что за роскошь! Что за воля! Как начнешь беситься – чудится, будто поминаешь давние годы“. <…>…Толпа шумно понеслась по улицам. И благочестивые старушки, пробужденные криком, подымали окошки и крестились сонными руками…» «Бесник, ночной повеса», – отметил позднее Гоголь в своем «объяснительном словаре» русского языка. «Хлопцы бесятся! бесчинствуют целыми кучами по улицам!» – сообщают в «Майской ночи» голове Евтуху Макогоненку сельские десятские.
Обратившись к другим повестям «Вечеров…», можно обозначить и «крайние точки» в гоголевской оценке «гулянья» – от невольного увлечения юношеским весельем (при сохранении, однако же, трезвой дистанции) до очевидного осуждения гульбы-беснования.
«Трудно рассказать, – замечает рассказчик «Ночи перед Рождеством», – как хорошо потолкаться в такую ночь между кучею хохочущих и поющих девушек и между парубками, готовыми на все шутки и выдумки, какие может только внушить весело смеющаяся ночь. Под плотным кожухом тепло; от мороза еще живее горят щеки; а на шалости сам лукавый подталкивает сзади. <…> Парубки шалили и бесились вволю». «И стал черт такой гуляка, – как бы продолжает рассказчик «Сорочинской ярмарки», – какого не сыщешь между парубками. С утра до вечера то и дело, что сидит в шинке!..»
Отсюда недалеко уже и до гульбы «дьявола в человеческом образе» Басаврюка, описанной в журнальной редакции 1830 года «Вечера накануне Ивана Купала»: «…днем он был почти невидимка… Ночью же только и дела, что пьяная шайка Бисаврюка… ни в чем не уступавшая своему предводителю, с адским визгом и криком рыскала по оврагам или по улицам соседнего села…»
Гулянье парубков «Майской ночи» занимает как бы срединное положение в этой широкой градации. Но, согласно размышлениям Гоголя, даже и самое невинное карнавальное веселье представляет собой в конечном счете если не прямо греховное, то, во всяком случае, пустое, бездумное времяпрепровожденье. В 1840 году, в черновой редакции восьмой главы первого тома «Мертвых душ», Гоголь замечал по поводу такого праздничного гулянья, что молодежь, скрывшаяся под масками, «раз в год хочет безотчетно завеселиться, закружиться и потеряться в беспричинном веселье, избегая и страшась всякого вопроса, а… маски на их лицах… как будто смотрят каким-то восклицательным знаком и вопрошают: к чему это, на что это?».
Другая важная тема, поднимаемая в «Майской ночи», – тщеславие обыкновенного, «маленького» человека. Сюжет повести во многом строится на борьбе неудовлетворенных честолюбий героев: с одной стороны – тщеславного сельского головы, с другой – не менее честолюбивых парубков. «Кто бы из парубков не захотел быть головою!» – восклицает о них рассказчик.
«…Они, дурни, забрали себе в голову, что я им ровня, – рассуждает в повести голова Евтух Макогоненко, удостоенный однажды «высокой чести» сидеть во время проезда Екатерины II в Крым на козлах с царицыным кучером. – Они думают, что я какой-нибудь их брат, простой козак!»
В свою очередь, сын сельского головы Левко, решившийся «побесить хорошенько» вместе с парубками голову, который приходится ему родным отцом, восклицает: «Что ж мы, ребята, за холопья? Разве мы не такого роду, как и он? Мы, слава богу, вольные козаки!» «Я сам себе голова», – вторит парубкам шатающийся по улицам села пьяный гуляка Каленик.
Честолюбие парубка Левко еще более обнаруживается в его рассказе о панночке-утопленнице – в частности, в том, как он объясняет причины ее самоубийства: «Сотникова жена… умерла; задумал сотник жениться на другой. „Будешь ли ты меня нежить по-старому, батьку, когда возьмешь другую жену?“ – <…> „Буду, моя дочка; еще ярче стану дарить серьги и монисты!“ <…> На четвертый день приказал сотник своей дочке носить воду, мести хату, как простой мужичке, и не показываться в панские покои». «Парубок, найди мне мою мачеху! – жалуется Левко сама утопленница-панночка. – …Мне не было от нее покою на белом свете. Она мучала меня, заставляла работать, как простую мужичку». Это как бы само собой разумеющееся для гордой панночки признание себя недостойной презренной участи «простой мужички» отражается в повести и в тех дорогих украшениях, которыми тешат себя девы-утопленницы: «…Золотые ожерелья, монисты, дукаты блистали на их шеях…» Напомним, что и «гарантией» сохранения «панского», «господского» положения дочери при новой жене было именно обещание сотника продолжать дарить дочери яркие серьги и монисты – как бы знаки и свидетельства этого достоинства. Примечательно в этом свете и упоминание рассказчика при описании невесты парубка Левко, «гордой дивчины» Ганны (испытывающей какие-то особые чувства при рассказе о судьбе панночки-утопленницы), о ее украшениях – на шее ее «блистало красное коралловое монисто».
Пропавшая грамота
Мотив бесшабашной гульбы, воплощенный в «Майской ночи», Гоголь развивает далее в «Пропавшей грамоте». Действие этой повести начинается с описания уже знакомого нам разгульного веселья сельской ярмарки. «…Так как было рано, то все еще дремало, протянувшись на земле. Возле коровы лежал гуляка-парубок с покрасневшим, как снегирь, носом…»
Объяснение, почему нос парубка напоминал свеклу или снегиря, можно найти у Гоголя в черновом наброске к повести «Нос»: «…Нос был полноват, с едва заметными тонкими и самыми нежными жилками, потому что коллежский асессор любил после обеда выпить рюмку хорошего вина». И в реплике Плюшкина из шестой главы первого тома «Мертвых душ»: «Вот возле меня живет капитан… С лица весь красный: пеннику, чай, насмерть придерживается». Есть такая подсказка и в самих «Вечерах…» – в упоминании о пьянице-бабе с «фиолетовым носом» в «Ночи перед Рождеством».
Не успел дед пройти далее «двадцати шагов, – продолжает рассказчик «Пропавшей грамоты», – навстречу запорожец. Гуляка, и по лицу видно!» «Слово за слово, и завелась меж ними дружба, гульня и попойка (с утра до вечера)…» (черновая редакция). «Попойка завелась, как на свадьбе перед постом Великим» (окончательная редакция). Несмотря на это недвусмысленное замечание, не оставляющее будто бы сомнения в том, что действие повести происходит не во время поста, – разгульная попойка героев все-таки совершается в пост, как это явствует из самого содержания «Пропавшей грамоты». По словам рассказчика, герой отправляется в «пекло» (именно сюда приводит деда его пьяная «гульня») в ту ночь, «в какую одни ведьмы ездят на кочергах своих», то есть, согласно еще одной выписке Гоголя в «Книге всякой всячины…», опять-таки в ночь на Ивана Купалу, приходящуюся, как уже отмечалось, на Петров пост: «Ивановская ночь есть та, в которую сеймы ведьм собираются на Лысой горе в Киеве; туда улетают они через комiн... либо на помеле, либо на вилках (ухвате)…» (выписка «Малороссия. Отдельные замечания»).
«…Видно, дьявольская сволочь не держит постов», – замечает позднее в «Пропавшей грамоте» сам герой, оказавшись в эту ночь за адским застольем и легко разрешая себе скоромное. Здесь автор показывает и то, кому на пользу это легкомысленное пренебрежение постом. «Ну, это еще не совсем худо, – подумал дед, завидевши на столе свинину, колбасы… <…>…Придвинул к себе миску с нарезанным салом и окорок ветчины, взял вилку… захватил ею самый увесистый кусок… и – глядь, и отправил в чужой рот…Слышно даже, как чья-то морда жует и щелкает зубами на весь стол». Нечто подобное совершает и Петрусь в «Вечере накануне Ивана Купала», выполняя волю Басаврюка и как бы своими руками выкармливая окружающую его нечисть: «Как безумный, ухватился он за нож, и безвинная кровь брызнула ему в очи… <…> Ведьма, вцепившись руками в обезглавленный труп, как волк, пила из него кровь…» «…А как клады не даются нечистым рукам, – простодушно поясняет кладоискательские намерения нечистого рассказчик, – так вот он и приманивает к себе молодцов».
Ночь перед Рождеством
Праздничная атмосфера «Ночи перед Рождеством» тоже имеет под собой вполне реальную жизненную основу; она, в свою очередь, воссоздана Гоголем по воспоминаниям родных мест. Именно здесь, под кровом родительского дома будущего писателя, праздник Рождества Христова встречался с такой теплотой, что навсегда оставил в его душе светлое чувство. Одна из сестер Гоголя вспоминала: «Вообще нас не баловали, и одним из самых больших удовольствий бывала очень скромная елка накануне Рождества, но мы бывали в восторге от всего…» Из других рассказов сестер писателя известно, что в молодости, в период обучения в Нежинской гимназии, Гоголь принимал участие и в святочном ряженье. Вероятно, на Святки, в святые дни от Рождества до Крещенья, ходил Гоголь и с колядовщиками – во всяком случае, хорошо знал рождественские колядки и в конце жизни записал по памяти несколько таких стихов (опубликованных впоследствии известным собирателем народной поэзии Петром Бессоновым).
Как и в других повестях «Вечеров…», в «Ночи перед Рождеством» Гоголь также изображает «невидимую брань» диавола за душу человека. Напомнить о незримом присутствии рядом с беспечными героями невидимого мира призвана самая первая «фантастическая» сцена повести – описание полетов ведьмы Солохи и «проворного франта с хвостом» в ясном ночном небе Диканьки. «…Наша брань не против крови и плоти, – говорит апостол Павел в Послании к Ефесянам, – но… против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» – против «князя, господствующего в воздухе» (гл. 6, ст. 12; гл. 2, ст. 2). Целые сонмища этих «поднебесных» духов видит далее кузнец Вакула во время полета на бесе в Петербург.
И в этой повести «брань» беса с главным героем отнюдь не заключается в тех мелких пакостях, на которых сосредоточивает внимание рассказчик, когда заводит об этом речь. В свою очередь, содержанием повести также не является одно лишь праздничное веселье, как это может показаться на первый взгляд. Подобно тому как в «Вечере накануне Ивана Купала», где герой, охваченный любовной страстью, готов на убийство и совершает его, герой «Ночи перед Рождеством», влюбленный кузнец Вакула, доведенный до отчаяния капризами красавицы Оксаны, тоже недалек от совершения смертного греха – он решается на самоубийство и бежит топиться «в пролубе»: «…Пропадай, душа!..» По дороге ему, однако, приходит мысль: «…пойду к запорожцу Пузатому Пацюку. Он, говорят, знает всех чертей и все сделает, что захочет. Пойду, ведь душе все же придется пропадать!»
Герой, таким образом, дважды проявляет пагубное малодушие: сначала помышляет о самоубийстве, затем сознательно обращается к помощи нечистого. При этом Гоголь прямо указывает на «автора» тех мыслей, которые приходят отчаявшемуся Вакуле. Бес у Солохи тоже заявляет ей, что если она отвергнет его страсть, «то он готов на все: кинется в воду, а душу отправит прямо в пекло». Он-то, очевидно (сидя у Вакулы в мешке за плечами), и доводит героя до отчаянного состояния. «Нет, по?лно, – говорит себе Вакула, – пора перестать дурачиться». «Но в самое то время, – прибавляет рассказчик, – когда кузнец готовился быть решительным, какой-то злой дух проносил пред ним смеющийся образ Оксаны, говорившей насмешливо: „Достань, кузнец, царицыны черевики, выйду за тебя замуж!“»
Но можно ли считать виной героя то, что неведомо для себя он становится предметом воздействия нечистой силы? Гоголь отвечает в повести и на этот вопрос.
Тут кстати вспомнить, что действие «Ночи перед Рождеством» – в том числе посещение Солохи ее «именитыми» ухажерами – тоже происходит в пост, причем в самый строгий, в Рождественский сочельник, когда православные, по обычаю, «до звезды» не едят. Греховным является, конечно, и намерение этих ухажеров отправиться ранее в гости к дьяку «на кутью», где кроме кутьи была и водка двух сортов, «и много всякого съестного». Подобные угощения также несовместимы со строгими установлениями Рождественского сочельника, носящего среди малороссиян название «голодной кутьи». («Вы, может быть, не знаете, что последний день перед Рождеством у нас называют голодной кутьей», – пояснял Гоголь в черновой редакции повести.) «Там теперь будет добрая попойка!» – восклицает, в предвкушении обильного угощения, казак Чуб, выходя из своей хаты.
О посте вспоминает и кузнец Вакула, оказавшись в рождественский вечер, в поисках нечистой силы, в хате Пузатого Пацюка: «…Ведь сегодня голодная кутья, а он ест вареники, вареники скоромные! Что я, в самом деле… стою тут и греха набираюсь!»
Можно, однако, заметить, что таких же благочестивых размышлений следовало придерживаться герою и ранее – не только перед тем, как он решился прибегнуть к помощи нечистого, но еще лучше – пред самым отправлением его в гости на «мед» к красавице Оксане.
Изображая похождения своих героев – «бесящихся» парубков, веселящихся девчат, попадающих в мешки ухажеров Солохи, «подъезжающего» к красавице кузнеца Вакулы, пьяниц кума Панаса и ткача Шапуваленка[9 - Шапуваленко. – Фамилия образована от слова «шаповал» – валяльщик, шерстобит.], – рассказчик «Ночи перед Рождеством», конечно, не без намерения замечает (в очевидном согласии с автором), что «все» другие «дворяне оставались дома и, как честные христиане, ели кутью посреди своих домашних» («имели столько благочестия, что решились остаться дома», – замечал рассказчик в черновой редакции). Правда, добавлял в то же время Гоголь в другом месте, одни только старухи «с степенными отцами оставались в избах».
В традиционном украинском деревянном трехчастном храме, который изображается в повести, женщины становились в дальней от алтаря части, которая называлась «бабинец». (По толкованию И. Войцеховича – одного из первых собирателей слов «малороссийского наречия» в XIX веке – «бабинец – притвор в церкви; место для женщин».) Слово это есть в гоголевском «Лексиконе малороссийском»: «Бабинец, паперть».
Вот как описывает Гоголь в «Ночи перед Рождеством» расположение поселян в церкви: «Впереди всех стояли дворяне и простые мужики», за ними «дворянки», а «пожилые женщины… крестились у самого входа». Девчата же, «у которых на головах намотана была целая лавка лент, а на шее монист, крестов и дукатов», старались, как подчеркивает Гоголь, вопреки этому порядку, «пробраться… ближе к иконостасу». Очевидно, это стремление наряженных девчат объясняется их желанием покрасоваться перед парубками. В соответствии с этим поведением девушек в церкви Гоголь и создает образ «хорошенькой кокетки» Оксаны: «…Парубки… поглядите на меня… у меня сорочка шита красным шелком. А какие ленты на голове! <…> Все это накупил мне отец мой… чтобы на мне женился самый лучший молодец на свете!»
То, что в «Ночи перед Рождеством» происходит в храме между молодежью, Гоголь показывает и среди взрослых. Вот, например, Солоха, которой следовало бы стоять в храме «у самого входа», «надевши яркую плахту» и «синюю юбку, на которой сзади нашиты были золотые усы», становится впереди всех – «прямо близ правого крылоса», так что дьяк «закашливался и прищуривал невольно в ту сторону глаза».
Любопытное соответствие образу прельщенного гоголевского дьяка можно найти в поэме А. С. Пушкина «Домик в Коломне» (1830), с которой Гоголь познакомился в рукописи летом 1831 года (дав ей при этом высокую оценку). В пушкинской поэме в роли гоголевских Солох и Оксан оказывается гордая петербургская дама (по предположению исследователей, эта дама – графиня Екатерина Александровна Стройновская – явилась также одним из прототипов Татьяны Лариной в «Евгении Онегине»):
…Люблю летать, заснувши наяву,
В Коломну, к Покрову – и в воскресенье
Там слушать русское богослуженье.
Туда, я помню, ездила всегда
Графиня… (звали как, не помню, право)
Она была богата, молода;
Входила в церковь с шумом, величаво;
Молилась гордо (где была горда!).
Бывало, грешен! все гляжу направо,
Все на нее.
Одной из важнейших тем зрелого, «позднего» Гоголя является тема «просвещенного», «цивилизованного» Петербурга. Начало же обращения к этой теме восходит ко времени создания «Вечеров на хуторе близ Диканьки». В «Ночи перед Рождеством» соблазнам «местным», диканьским, вполне соответствуют у Гоголя соблазны столичные, петербургские. «Царицыны черевики» являются при этом как бы объединяющим звеном сюжета повести. В Петербурге во времена Екатерины II ставилась даже опера с названием «Черевики». С другой стороны, в основу сюжета повести Гоголем была положена украинская народная песня «На рiченьчi та на дощечцi», сохранившаяся в гоголевском собрании русских и малороссийских песен:
Дивiтеся, чоловiченьки,
Якi в мене черевиченьки.
Се ж менi пан-отець покупив,
Щоб хороший молодець полюбив…
Само желание своенравной красавицы Оксаны иметь «те самые черевики, которые носит царица», обличает, по замыслу автора, ее изрядное тщеславие. Этим прямо объясняется ее пренебрежительное отношение к сельскому кузнецу Вакуле. «Ты? – сказала, скоро и надменно поглядев на него, Оксана. – Посмотрю я, где ты достанешь черевики, которые могла бы я надеть на свою ногу». «Если бы она ходила не в плахте и запаске, а в каком-нибудь капоте, – замечает чуть ранее о ней рассказчик, – то разогнала бы всех своих девок». (В черновой редакции эта мысль была выражена Гоголем с еще большей определенностью: «Если бы она ходила не в плахте и запаске, а в атласном с длинным хвостом платье, то… переколотила бы и выгнала десятка три горнишных».) Следствием «аристократических» замашек Оксаны и становится поездка Вакулы на бесе в Петербург. Петербург (где Вакула видит множество «дам в атласных платьях с длинными хвостами») – подспудно чаемая (хотя, вероятно, не последняя) «инстанция» честолюбивых вожделений героини.