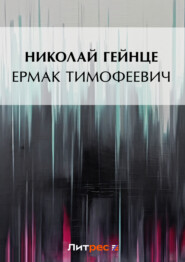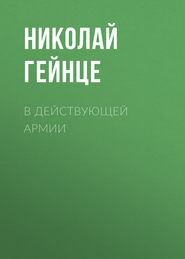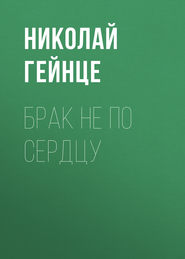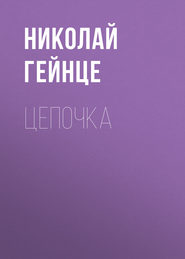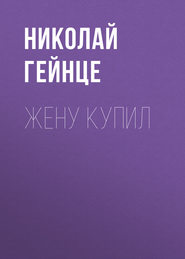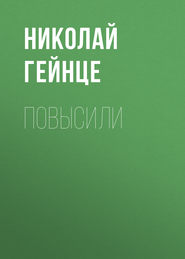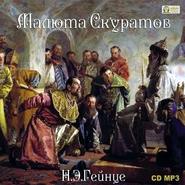По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Генералиссимус Суворов
Год написания книги
1896
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– О, как я страдаю… Поскорее бы конец… – шептал он.
– Что вы говорите… Помилуй бог!.. Сейчас уже и умирать…
– Да, да, я умираю… Не забудьте… мой отец… Саша… вы знаете… Саша… я ее люблю… я ее… обожаю…
Раненый захрипел. Голова его упала на грудь, между тем как правая рука сжимала висящий на груди золотой медальон.
– Умер, умер! – с отчаянием в голосе воскликнул Суворов. Он приложил руку к сердцу раненого. – Нет, нет… оно бьется… Это обморок, положите его на землю…
Солдат, поддерживавший Лопухина, бережно опустил его на траву. Александр Васильевич расстегнул рубашку на его груди. Она вся была залита кровью. Он вынул свой носовой платок, осторожно вытер кровь и обнаружил рану в правом боку. Пуля остановилась между двух ребер. Из растревоженной раны появилось сильное кровотечение. При каждом движении, даже дыхании несчастного, кровь текла ручьем. Суворов сильно прижал рану двумя пальцами.
– Берите-ка его, братцы, двое за руки, а двое за ноги! – скомандовал он окружавшим солдатам. – Поднимайте, но осторожнее, помилуй бог, осторожнее…
Солдаты бережно исполнили приказание любимого начальника. Ровным шагом шли они, унося бесчувственного Лопухина. Суворов шел с ними рядом, по-прежнему двумя пальцами правой руки закрывая рану молодого офицера. Он не отводил глаз с бледного лица несчастного раненого. Кровавая пена покрывала губы последнего.
Сзади их еще раздавались последние выстрелы – это уже стреляли по обратившимся в бегство полякам чересчур рьяные их преследователи.
Солдаты, несшие раненого, и Суворов достигли перевязочного пункта. Искусный старый фельдшер Иван Афанасьевич быстро и умело принялся за дело. Он положил раненого на кожаный матрац и исследовал рану зондом, покачал сомнительно седой головой.
– Что, старина, плохо? – с тревогой в голосе спросил его Александр Васильевич.
– Плоховато, Александр Васильевич, плоховато, ваше превосходительство, да ничего, Бог даст, выживет, молод, натура лучше врача.
– Помилуй бог, как хорошо ты молвил, старина… Натура лучше врача, помилуй бог, как хорошо.
Иван Афанасьевич приступил тотчас к извлечению пули. Операция под его искусными руками удалась отлично. Перевязка уже была окончена, когда страдалец пришел в себя и удивленно оглядывался кругом.
– Что, братец, дурной сон приснился? – обратился к нему Александр Васильевич, подавая окровавленную пулю. – Ничего, все хорошо, что хорошо кончится… Помилуй бог, хорошо…
Раненый не мог говорить и только перевел полный благодарности взгляд с генерала на фельдшера.
– Через две недели опять на ногах, опять молодцом! Чудо-богатырь!.. – сказал Суворов и удалился к своему уже собравшемуся после отражения неприятеля отряду.
Выстрелы уже давно прекратились. Затих как бы и ветер, бушевавший в эту ночь, и только Висла по-прежнему с ровным шумом катила свои валы. Наступило раннее утро.
– Спасибо, чудо-богатырь, славно намылили голову бунтовщикам, другой раз не сунутся будить русских людей, спросонок русский человек бьет еще сильнее… Спасибо, чудо-богатыри!
– Рады стараться, ваше превосходительство! – гулко разнесся по всему лесу ответ тысячи голосов на приветствие любимого начальника.
В отряде уже знали, как отнесся генерал к раненому молодому офицеру, любимому солдатами за мягкость характера, за тихую грусть, которая была написана на юном лице и в которой чуткий русский человек угадывал душевное горе и отзывался на него душою. Такая сердечность начальника еще более прибавляла в глазах солдат блеска и к без того светлому ореолу Суворова.
Оставим его на дороге к Кракову, где и произошло несколько стычек с думавшими напасть на него врасплох поляками, и попытаемся передать картину раннего детства и юности этого выдающегося екатерининского орла, имя которого было синонимом победы и который силою одного военного гения стал истинным народным героем.
Слабо перо, но сильно желание.
VII. Детство Суворова
При московском великом князе Семене Ивановиче Гордом выехали из Швеции в Московскую землю «мужи честны» Павлин с сыном Андреем и тут поселились.
Потомство их росло, местилось и расселялось. Один из этих потомков назывался Юда Сувор. От него пошел род Суворовых.
Прадеда Александра Васильевича Суворова звали Григорием Ивановичем, он был сыном Ивана Парфентьевича и дедом Ивана Григорьевича.
Иван Григорьевич Суворов служил при Петре Великом в Преображенском полку генеральным писарем, был дважды женат и умер в 1715 году. От первой жены он имел сына Ивана, от второй (Марьи Ивановны) – Василия и Александра.
Все три сына Ивана Григорьевича были женаты и оставили по себе потомство; Василий Иванович имел сына Александра и дочерей Анну и Марию.
Василий Иванович Суворов родился в 1705 году. Крестным отцом его был Петр Великий. Это обстоятельство легко объясняется местом служения Ивана Григорьевича в Преображенском полку и в Преображенском приказе.
В 1722 году Василий Иванович Суворов поступил денщиком к государю, при Екатерине выпущен в Преображенский полк сержантом, два года спустя пожалован в прапорщики, а в 1730 году произведен в подпоручики. В конце тридцатых годов был он Берг-коллегии прокурором в чине полковника и в сороковых годах получил генеральский чин.
Василий Иванович Суворов был вообще хороший, с образованием, ретивый, исполнительный служака, недурной администратор, особенно по части хозяйственной, но из ряда современников не выступал и никакими военными качествами не отличался. С сыном он имел очень мало общего; главною точкою соприкосновения их характера была бережливость, даже скупость, но и то совершенно различного свойства.
В Василии Ивановиче не было ничего похожего на ту поражающую энергию и необыкновенное развитие воли, которые оказались потом отличительными чертами его сына. Не перешли ли эти и другие особенности к А. В. Суворову от матери, в каком смысле влияла она на развитие их в своем сыне, сознательно или бессознательно, отрицательным образом или положительным?
Ответа на подобные вопросы, замечает биограф А. В. Суворова А. Петрушевский, нет, а между тем знакомство с характером матери, ее темпераментом, воспитательными приемами, быть может, разъяснило бы многое в смелой и загадочной натуре ее сына.
О матери Александра Васильевича Суворова известно только то, что ее звали Авдотьей Федосьевной и что вышла она замуж за Василия Ивановича в конце 20-х годов. Отец ее Федосий Мануков был дьяк и по указу Петра Великого описывал Ингерманландию по урочищам. В 1718 году, во время празднования свадьбы князя-папы, он участвовал в потешной процессии, одетый по-польски, со скрипкою в руках; в 1737 году был петербургским воеводою и в конце года судился за злоупотребления по службе.
Год рождения Александра Васильевича Суворова точно неизвестен. Большая часть его историографов называют 1729 год, который обозначен и на его гробнице, но это едва ли верно.
В одной из официальных бумаг он сам говорит, что вступил на службу в 1742 году, имея от роду 15 лет; по другим его показаниям, рождение его можно отнести и к 1729, и к 1730 году.
Но в одной его собственноручной записке на итальянском языке сказано: Io son nato 1730 il 13 Novembre. В письме его вдовы к племяннику Хвостову и на надгробном памятнике значится, что муж ее родился в 1730 году. Этот же год получается и из формуляра, составленного в 1763 году, когда Александр Васильевич был полковым командиром. Эти и довольно многочисленные другие данные приводят к заключению, что 1730 год следует считать годом его рождения скорее, чем всякий другой.
Где именно он родился, тоже неизвестно. По словам одних его историографов утверждают, что в Москве, другие называют его родиной Финляндию. Но и то и другое одинаково бездоказательно.
Принадлежа к дворянскому роду, хотя не знатному, но старому и почтенному, Суворов появился на свет при материальной обстановке не блестящей, но безбедной. Предки его за добрую службу в разных походах получали от правительства поместья; дед владел несколькими имениями и, судя по некоторым данным, не был расточителен. Отец и того больше.
Мать его тоже нельзя назвать бесприданницей, как это видимо по раздельной записи 1740 года на движимое и недвижимое именья в Москве и Орловском уезде между ею, поручицей Авдотьей Суворовою, и ее сестрой полковницей Прасковьей Скарятиной. При всем том состояние Василия Ивановича Суворова, впоследствии довольно значительное, было в детские годы сына невелико.
Из разных документов, как-то: вотчинных отчетов, записей, послужных списков отца и сына, можно заключить, что Василий Иванович владел в то время приблизительно тремя сотнями душ и был человеком обеспеченным, но небогатым.
В 1741 году, когда по малолетству императора Иоанна Антоновича Россией управляла его родительница принцесса Анна Леопольдовна, в глуши Новгородской губернии, в своем имении, мы застаем отставного бригадира Василия Ивановича Суворова живущим на покое со своей женой Авдотьей Федосьевной и сыном Александром.
Сам Василий Иванович был военным человеком только по званию и мундиру, не имел к настоящей военной службе никакого призвания, а потому и сына своего предназначал к гражданской деятельности. Хотя военная карьера была в то время наиболее почтенная, но решение отца оправдывалось тем, что сын казался созданным вовсе не для нее: был мал ростом, тощ, хил, дурно сложен и некрасив. К тому же для кандидатства на военное поприще было уже много упущено времени.
С Петра Великого каждый дворянин обязан был вступать в военную службу, начиная ее с нижних чинов. Даже знать не могла отделываться от этого общего закона. Нашли, однако, средство исполнять постановление по букве, обходя по духу.
Дворяне, особенно знатные и богатые, записывали своих сыновей в гвардию при самом их рождении или в годах младенческих, иногда капралами и сержантами, а у кого не было случая или связей – просто недорослями и оставляли их у себя на воспитании до возраста. Подобные унтер-офицеры младенцы производились нередко в офицеры, а затем повышались в чинах, в весьма юном возрасте переходили с повышением в армейские полки и таким образом, особенно при сильных покровителях, достигали высших степеней в военной или гражданской службе, если первую меняли на вторую.
В семидесятых годах восемнадцатого столетия в одном Преображенском полку считалось более тысячи подобных сержантов, а недорослям не было почти и счета[4 - Записки Энгельгардта, 1876.].
Василий Иванович сам служил или числился во время рождения сына, да и после, в Преображенском полку. Ему не стоило бы никакого труда записать новорожденного сына капралом и сержантом для счета служебного старшинства.
Почему он этого не сделал, Бог знает; только едва ли вследствие незнания несправедливости и беззаконности подобных кривых путей: обычай очень уже укоренился, и добровольно от него отказаться было бы слишком невыгодною щепетильностью.
Как бы то ни было, но сын его Александр не был записан в военную службу, а между тем в нем мало-помалу обнаружилась сильнейшая склонность к военной специальности, и занятия его приняли соответствующее склонности направление.