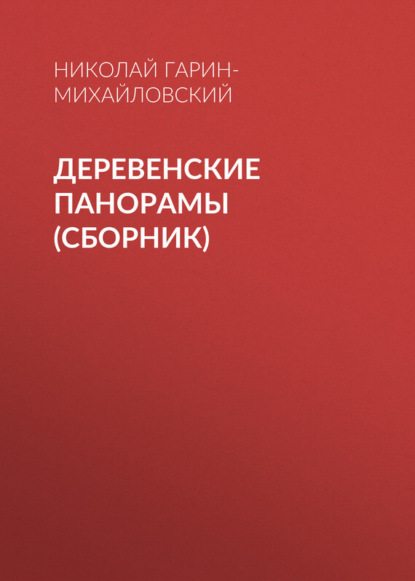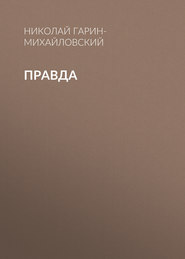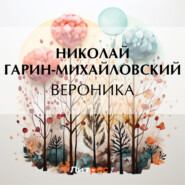По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Деревенские панорамы (сборник)
Год написания книги
1894
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пробовала было Акулина мужиков своих образумить, но отстала: убьют и ее.
Ад сущий пошел в маленькой семиаршинной избе с девятью обитателями и десятым теленком. Лучше всех было последнему. Его никто не бил, и вопли жертвы не смущали его душевного покоя.
«Чтой-то, господи, хоть бы сбежала, что ль? – думала Акулина, – дома не житье – каторга, на улицу стыдно показаться… Ох ты, господи!.. Вот где грехи!..»
Однажды молодая, не вытерпев, бросилась на барский двор и, ворвавшись к управителю, так и кинулась ему прямо на шею.
Это было в кабинете, как раз в то время, когда его величественная половина, Марья Ивановна, сидела на диване.
– Прочь, дрянь, прочь! – взвизгнула Марья Ивановна.
Ивану Михайловичу и лестно и смешно было.
– Что ты, белены объелась? – проговорил он, пятясь и оттопыривая толстые свои губы.
В помощи ей наотрез отказали.
– Э… твой Алешка… э… такой разбойник… нельзя нам… он тут и всю усадьбу, и все сожгет… подлец! Ты сама видишь, что он за человек, – что ж, хочешь, чтобы и мы узнали? Знаем!..
Убежала опять молодая. Подождали до вечера и поехали к ее родным, но там ее не оказалось.
Родные молодой уж кое-что слышали и попрекнули Ивана. Иван их попрекнул: разругались и разъехались.
Все-таки струсили Иван и Алешка: пропала баба, как бы чего не сделала над собой.
У Алешки на душе тоска какая-то: тут она – бить ее, щипать, мять охота, а нет ее – тоска, охота увидеть. Меняться стал Алешка. И крови меньше в лице стало и к парням не идет.
Прошло две недели, – слух дошел, – объявилась беглянка где-то на хуторах – в кухарки нанялась.
Как только Иван услышал, сам поехал, навел все справки и по совету добрых людей нанял «авоката», чтобы вытребовать жену обратно. Через неделю Иван, Алешка и полицейский с бумагой из полиции уже ехали в указанный хутор. Молодая не ждала, не чаяла беды, когда кухня распахнулась и непрошенные гости вошли. За три недели она успела уже было отдышаться, и ее своеобразная злая красота сильнее уколола в сердце Алешку.
Получив жену обратно, уплатив за труд полицейскому, с сыном и снохой поехали домой.
Как только хутор скрылся из виду, Иван остановил лошадь, а молодая рванулась было с телеги.
– Куда, – равнодушно злорадно ухватил ее Алешка, – опять думаешь?
Иван молча, не спеша слез, достал из-под сиденья железные путы и молча подошел к снохе. Та беспрекословно протянула руки. Такие же цепи надеты были и на ноги.
Тогда спокойные, что уйти уж нельзя ей, отец и сын, предварительно заткнув жертве рот тряпкой, принялись стегать ее, разложив на земле, в два кнута. Алешка сам изготовил себе кнут: здоровый, плетеный. Били до крови, до исступления, до потери сознания. Били по телу, по ногам, по голове, топтали сапогами лицо.
Вздутую, посиневшую, с изуродованным отвратительно лицом, молодую усадили в телегу и поехали дальше. Легкий морозец сковал грязь, и телега жестко прыгала по кочкам.
Иван сидел и упорно смотрел в хвост Бурка. Бурко лениво, тупо бежал.
Алешка с любопытством вскидывал по временам глаза на жену. Избитая сидела молча и ничего нельзя было разобрать: больно ли ей, обидно; из ее рта платок был вынут, и она сидела с таким лицом, точно или били не ее, или сделана она из гуттаперчи или чего другого, но не из мяса и тела. Это еще больше раздражало. Побитое лицо ее было отвратительно, и Алешку теперь не тянуло к ней так, как тогда, когда увидел он ее в кухне. От этого точно веселее как-то делалось у него на душе и хотелось еще бить.
Иногда он, размахнувшись, бил ее прямо в лицо. Утомленный Иван сидел, но злоба все клокотала в нем. Верст за пять до своей деревни Иван опять остановил лошадь и слез с телеги. Сын молча, по безмолвной команде, быстро спрыгнул в надежде пособить отцу бить опять жену, но на этот раз ее не били, а раздели до рубахи и, сняв цепи, за косу привязали ее к хомуту Бурка.
На рысях, привязанная за косу, в одной рубахе, взмахивая руками каждый раз, когда ее вытягивали кнутом, вбежала молодая жена в деревню мужа. Даже самые закоренелые сторонники старых порядков осудили Ивана.
– Не гоже… – лаконически переходило от одного к другому.
– Это что ж? Без пути… – с пренебрежением махали рукой.
Только старик Асимов отнесся с одобрением да отец старосты.
Потолковали на селе и бросили: свое дело – разберутся, свои собаки грызутся, чужая не приставай. Привезли молодую и посадили на цепь. Продержав несколько дней, еще несколько раз избив, по придуманному, наконец, Акулиной выходу, обоих повезли к знахарю. Приехали от знахаря, и на глазах изумленной деревни чудо произошло: выпользовал знахарь, и молодые стали, как молодые, по крайней мере с виду веселые и довольные. Иван повеселел, и жизнь, наконец, пошла своим обычным, на этот раз действительно, обычным чередом.
Прежде всего надо было думать о средствах и не оставалось ничего другого, как сына с женой отдать куда-нибудь в работу.
Отдали куда-то верст за пятьдесят к доктору.
Для Алешки, впрочем, все кончилось плохо. Жена надула его. Видя, что прямо не возьмешь ничего, из разговоров семьи сообразив, что дело идет к тому, чтобы их с мужем отдать в работники, она переменила: прием: стала ласкова, жалостлива и успокоила больное самолюбие Алешки.
Но у доктора, разузнав порядки, она в одно прекрасное утро явилась к барыне и рассказала ей все, что с ней случилось. Дело обставили на этот раз так, что закон оказался на стороне жены.
Алешку освидетельствовали и рассчитали, объяснив ему, что развод он получит через полгода, а жену его барыня оставила при себе.
С этим и пришел Алешка домой.
Объявили ему, между прочим, что чуть что против него и отца поднимут уголовное преследование за истязание, и дело это для них кончится арестантскими ротами.
Отец и сын сконфуженно молчали. Акулина вздыхала, и все пошло, как шло.
Алешка, по-своему любивший несомненно жену, был огорчен и оскорблен. От конфузу он сам пожелал оставить отчий дом и нанялся где-то на винокуренном заводе в работники. Слухи доходили, что гулял он шибко на заводе.
В чем ли попался, или так провинился пред приятелями Алешка: как-то ночью избили его и бросили без памяти на улице.
Очнулся Алешка только уж на другой день – в больнице.
Вспомнил все, лежит и пытливо посматривает: знают ли, за что били его? И страшно ему, что ласковы с ним, – как бы хуже еще, чем ночью, не случилось чего. Тоска, какая-то чужая, без причины жмет сердце: хочет шевельнуться Алешка и не может: страшно. А доктор все возится там в голове и из глубокой раны все вытаскивает осколки битого черепа. Фельдшер бледный смотрит в глаза. Ах, худо!
– Да что ты, бог с тобой: чего пугаешься?
– Домой хочу! – взвыл, зарыдал и метнулся тоскливо Алешка.
Дошел слух, что Алешку так избили где-то в ночной переделке, что лежит он в больнице.
Отец пришел навестить сына, но уж застал только его в часовне.
Алешка лежал длинный, худой и ничего общего не имел с прежним круглым беспечным увальнем.
Потрясенный Иван стоял перед своим любимым детищем и рыдал, как ребенок. Слезы текли по его тонкому носу с короткими ноздрями, стекали на розовый хрящ, текли по усам в рот, а оттуда, изо рта, как в детстве, судорожно неудержимо вылетали брызги и пузыри.
Ненадолго и отец пережил сына. Вскоре во возвращении у него совсем завалило грудь. Тут и ноги стали пухнуть. Пил он настойку из тараканов, пил дорогую траву, советовался со всеми знахарками, но ничего не помогало. По настоянию Акулины, кончил Иван тем, что отправился-таки в больницу.
Месяц пролежал там Иван, и не мила ему стала и больница, и господская еда, и эта тишина в светлой и тихой, как гроб, комнате. Домой потянуло: в свой уголок, гнилую избу, жесткий угол, потянуло всем сердцем; там, в том углу весь мир его и вся радость земли. Только бы дал господь еще раз увидеть его, а там пусть и смерть идет.