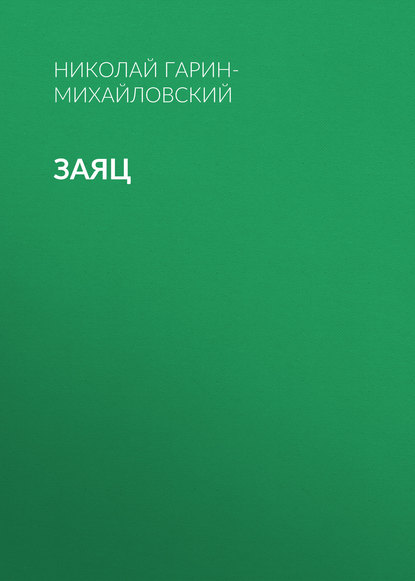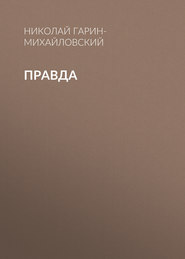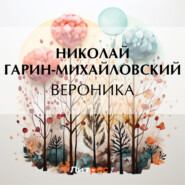По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Заяц
Год написания книги
1910
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Что-то легкое, радостное, отчего он было сразу воспрял духом, оставляло его по мере того, как он слагал свою речь, и совершенно оставило. Не кончив, он безнадежно махнул рукой и стал медленно ходить по мосту.
Совсем стемнело.
«Вот сейчас: тра-ах! и я лечу вместе с осколками моста в воду».
Там, внизу, едва сверкала серая, вздувшаяся от дождей, масса воды.
Он так реально почувствовал, как уже погружается в воду, что вздрогнул и отошел от перил.
«Упадешь, пожалуй, еще».
И мучительно подумал:
«Неужели же я, действительно, трус?!»
Воздух был душный, мокрый, он снял шапку, вытер рукавом потный лоб и подумал: «Во всяком случае, и теперь это ясно, что я не военный».
Мчался поезд, и однообразный гул от него разносился далеко кругом. Вот сверкнули на горизонте огненные глаза, ближе, ближе – и с грохотом, треском, шипя и извиваясь, как громадная змея, промчался поезд, опахнувши и часового и Чернышева.
«Так упал уже один часовой под вагоны, – надо бы их дальше ставить… Но ведь по уставу надо так ставить как стоит часовой. Нарушишь устав, а потом что-нибудь, – и иди под суд, да еще в военное время…
И начальство к тому же какое-то несуразное попалось, – такой же, в сущности, как и я, воин, но при том канцелярист до мозга костей, только и интересуется что хозяйственною частью: по целым дням, запершись сидит с артельщиком.
– Я, говорит, вынужден экономию нагонять, иначе останемся без запасного капитала…
Вор он, конечно. В месяц рублей тысячу ворует. И ни с кем не делится из низших. Все воруют. Говорит мне:
– Без ваших остатков просто совсем пропал. Не могу по справочным ценам кормить солдат, не понимаю, как вы умудряетесь. Только и покрою перерасход вашими сбережениями.
Вот тебе и запасный капитал. Прийти к солдатам и сказать разве:
– Так и так, братцы, вот вам отпускаемые суммы – кормитесь, как знаете.
Что, в самом деле? Субалтерн я офицер, был таким, и останусь. Кампания к концу, а у меня никакой награды нет и не будет. Из-за чего же стараться да неприятности от солдат наживать? Ей-богу, так и следует сделать».
Чернышев отлично сознавал, что ничего подобного он, конечно, не решится никогда сделать, и тем не менее, возвращаясь домой, он шел и думал о том, как завтра он соберет солдат и объявит им, что довольство передает им на руки.
Солдаты выслушают и облегченно вздохнут, и кто-нибудь из них скажет:
– Конечно, ваше благородие, что вам грех на душу брать…
«Какой грех? Грех, конечно: скотина стоит сто рублей, а платишь за нее китайцу двадцать пять и через тех же солдатиков… Все на виду… И, главное, хоть бы польза какая-нибудь была тебе. Обещает из остатков, а остатки… Э… Нет, непременно, непременно так и сделаю. Пускай начальство на дыбы лезет, что оно мне может сделать? В поручики не представят? Я все равно в военной службе не останусь. Как только война кончится, сейчас же уйду сперва в запас, подыщу какое-нибудь место, может быть, в земские начальники…»
Войдя в свое отделение, Чернышев повелительным голосом крикнул за перегородку денщику:
– Семен, чайник, чайник!
– Семен, слышишь? Зовут.
Спавший Семен вскочил и спросонья набросился на будившего:
– Чего тебе?
– Чаю завари, – раздался голос Чернышева.
И так как никакого ответа не последовало, то Чернышев хотел крикнуть:
«Ты в знак того, что слышал распоряжение мое, должен отвечать всегда: слушаю-с».
Он и рот уже открыл, но ничего не сказал и только рукой махнул.
И только после долгой паузы спросил:
– Семен, ты слышал? – налей чаю.
На что заспанный голос ответил:
– Так что слышал.
А Чернышев вздохнул и с горечью подумал: «Это солдат? Совершенно отвыкли в своих деревнях от всякой выправки…»