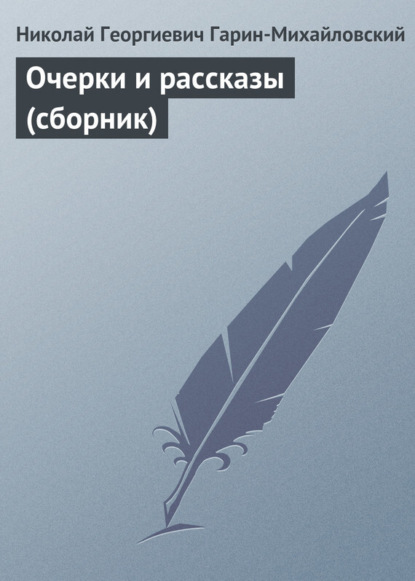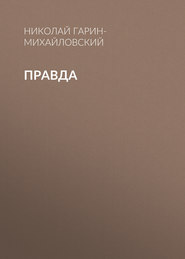По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Очерки и рассказы (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Когда, приехав в бухту, я вышел и вещи были вынесены, боцман спросил:
– Прикажете отчаливать?
– Ваше благородие, пусть они хоть помогут нам палатку поставить, чего же мы с вами одни тут сделаем?
– У вас время есть? – обратился я к матросам.
– Так точно, – отвечал боцман и приказал своим матросам помочь Никите.
– Ну, где же будем ставить палатку? – спросил Никита.
– Где? – Это вопрос теперь первой важности, и, отогнав все мысли, я стал осматриваться.
Что за чудное место! Золотистый залив, глубокий там, вдали, слева, город виднеется, справа, на мысе, монастырь, здесь, ближе, надвигаются горы, покрытые лесом, в них теряется наша глубокая долина с пологим берегом, с этой теперь золотистой водой, с этим воздухом, тихим, прозрачным, с бирюзовым небом, высоким и привольно и далеко охватившим всю эту прекрасную, как сказка, панораму южного вида.
Кажется, отсюда видна гостиница «Франция», где живет Клотильда, или я обманываюсь? Но бинокль со мной. Конечно, видна…
– Где же, ваше благородие?
Да, где? Но где же, как не здесь, откуда видно…
– Здесь.
Никита стоял в недоумении.
– Да тут, на самом берегу, нас кит-рыба съест, а то щикалки… Туда же лучше…
И Никита показал в ущелье долины.
– Нет, нет, тут.
– Ну, хоть тут вот под бугорком, а то как раз на дороге.
Там в стороне был пригорок, и, пожалуй, там в уголке было еще уютнее и виднее. Между берегом и пригорком образовался род открытой, в несколько сажен в ширину, террасы. С той стороны терраса кончалась горой и лесом. Лучше нельзя было ничего и придумать.
Матросы уехали.
– Ну, вот и готова палатка, – говорил Никита, деловито обходя со всех сторон мою палатку.
– Може, чаю, ваше благородие, хотите? – спросил вдруг Никита.
– Хочу, конечно, и очень хочу.
Никита принялся за самовар, а я на разостланной бурке, на своей террасе, в тени каштанов, лежу и любуюсь тихим вечером.
Что за чудный уголок!
Через месяц-два здесь закипит жизнь, а пока, кроме меня и Никиты, никого, никакого жилья, никаких признаков жилья. Днем будут работать солдаты, рабочие, но на ночь с последним баркасом будут уезжать все в город.
Как будто утомленный работой, день тихо и мирно уходит на покой. Последними лучами золотится морская гладь, а справа, там, где бухта гористым мысом граничит с открытым морем, на самом краю мыса, на небольшом обрыве из-за зелени выглядывает белый монастырь. Вечерний звон несется оттуда, и он, как песня о детстве, о всем, что было таким близким когда-то, говорит мне родным языком, ласкает душу. Налево Бургас и, как огни, горят стекла его окон.
За моей же террасой косогор, затем опять терраса и спуск в долину. Это сзади, а сбоку косогор поднимается все выше и круче, и оттуда, сверху, глядят вниз обрывы скал, тенистые ущелья. В ущельях по скалам лес, а в лесу множество серн, фазанов, диких кабанов, но еще больше шакалов. Они уже начинают свой ночной концерт, – их крик тоскливый, жалобный, как плач больного ребенка. А скоро в темноте их глаза загорятся по всем этим скалам, как звезды, и там внизу, в своей белой палатке, я увижу уже два ряда звезд, даже три, потому что третий и самый лучший опрокинулся и смотрит на меня из глубины неподвижного моря. Он такой яркий и чистый, как будто вымыт фосфоричной водой моря.
От каких цветов этот аромат, непередаваемо нежный, который несет с собой прохлада ночи? А что за тени там движутся и проходят по воде? Тени каких-то гигантов, которые там вверху шагают с утеса на утес.
Вот одна тень приостановилась и точно слушает и всматривается в нас. А в обманчивом просвете звездной ночи все гуще мрак, словно движется что-то и шепчет беззвучно. Что шепчет? Слова ласки, любви, просьбы?.. Чьи-то руки, нежные, прекрасные, вдруг обнимут и вырвут из сердца тайну. Нет этих рук. Жизнь пройдет так в работе, труде, в скитаниях, в этих палатках. Удовлетворение – сознание исполненного долга.
Сознание, которое только в тебе. Для других ты всегда так же темен, как темна эта ночь.
Сегодня полковник, командир того резервного батальона, который будет у меня работать, когда я пожимал ему руку, извиняясь за испачканные руки, так как считал казенное серебро, с улыбочкой, потирая руки, сказал:
– Да, деньги пачкают…
Фу, какая гадость и как обидно, что нельзя устроить так, чтобы все знали, что ты честный человек.
Интересно, Бортов считает меня честным человеком? В нем много, очень много симпатичного – простота, скромность, но в то же время и что-то такое, что дает чувствовать, что верит он только себе.
Особенно неприятен его смех.
Какой-то сарказм в этом смехе, ирония и горечь. В эти мгновения он, всегда сильный, мужественный, умный, делается сразу каким-то жалким, и что-то старческое в нем тогда.
Никакой начальственности в нем, никакого хвастовства, самодовольствия. А человек, несмотря на свои двадцать девять лет, весь в орденах, занимает такое место. Хотел бы я видеть его в деле, – вероятно, скобелевское спокойствие. Недаром Скобелев и любит так его.
О себе, о своих делах никогда ни слова. Все, что слышал я о нем, я слышал от других. Но вот странно: все отдают ему должное и все в то же время говорят о нем таким странным тоном, как будто он уже покойник или кончил свою карьеру. Я считаю, что единственное, что опасно для него, это его любовь рассуждать, бранить свое начальство. Это может серьезно повредить его карьере, а иначе перед ним прямо блестящая дорога.
Когда он стоит в ряду других, довольно посмотреть на его благородную осанку, спокойное, одухотворенное, полное благородства лицо, чтобы почувствовать, что этот человек выше толпы, это сила. Может быть, это тем хуже, потому что толпа – всегда толпа и всегда инстинктивно, бессознательно стремится к нивелировке. Какой-то меч проходит, и высокие головы падают. Надо уметь вовремя склонять их.
Откуда во мне эта философия? Пора спать.
– Ваше благородие, а хотите, я вам голову обрею? В нашей роте подпоручик Нахимов був, и редкие, редкие у него волосики були, как шматочки, а як я обрив его, то таки космы потом стали…
– Но у меня, кажется, не редкие, – возразил я.
– А все ж гуще будут, – ответил Никита с такой беспредельной уверенностью, что поколебал меня.
Хорошая сторона бритья головы была в том, что это окончательно прикует меня к работе, к этому месту.
А чего другого я желаю? Не ездить же с бритой головой по кафешантанам…
И решение мое тут же созрело.
– Хорошо: брей.
– Ну, так завтра я вас обрею.
– А сегодня?
Даже Никита смутился.
– Прикажете отчаливать?
– Ваше благородие, пусть они хоть помогут нам палатку поставить, чего же мы с вами одни тут сделаем?
– У вас время есть? – обратился я к матросам.
– Так точно, – отвечал боцман и приказал своим матросам помочь Никите.
– Ну, где же будем ставить палатку? – спросил Никита.
– Где? – Это вопрос теперь первой важности, и, отогнав все мысли, я стал осматриваться.
Что за чудное место! Золотистый залив, глубокий там, вдали, слева, город виднеется, справа, на мысе, монастырь, здесь, ближе, надвигаются горы, покрытые лесом, в них теряется наша глубокая долина с пологим берегом, с этой теперь золотистой водой, с этим воздухом, тихим, прозрачным, с бирюзовым небом, высоким и привольно и далеко охватившим всю эту прекрасную, как сказка, панораму южного вида.
Кажется, отсюда видна гостиница «Франция», где живет Клотильда, или я обманываюсь? Но бинокль со мной. Конечно, видна…
– Где же, ваше благородие?
Да, где? Но где же, как не здесь, откуда видно…
– Здесь.
Никита стоял в недоумении.
– Да тут, на самом берегу, нас кит-рыба съест, а то щикалки… Туда же лучше…
И Никита показал в ущелье долины.
– Нет, нет, тут.
– Ну, хоть тут вот под бугорком, а то как раз на дороге.
Там в стороне был пригорок, и, пожалуй, там в уголке было еще уютнее и виднее. Между берегом и пригорком образовался род открытой, в несколько сажен в ширину, террасы. С той стороны терраса кончалась горой и лесом. Лучше нельзя было ничего и придумать.
Матросы уехали.
– Ну, вот и готова палатка, – говорил Никита, деловито обходя со всех сторон мою палатку.
– Може, чаю, ваше благородие, хотите? – спросил вдруг Никита.
– Хочу, конечно, и очень хочу.
Никита принялся за самовар, а я на разостланной бурке, на своей террасе, в тени каштанов, лежу и любуюсь тихим вечером.
Что за чудный уголок!
Через месяц-два здесь закипит жизнь, а пока, кроме меня и Никиты, никого, никакого жилья, никаких признаков жилья. Днем будут работать солдаты, рабочие, но на ночь с последним баркасом будут уезжать все в город.
Как будто утомленный работой, день тихо и мирно уходит на покой. Последними лучами золотится морская гладь, а справа, там, где бухта гористым мысом граничит с открытым морем, на самом краю мыса, на небольшом обрыве из-за зелени выглядывает белый монастырь. Вечерний звон несется оттуда, и он, как песня о детстве, о всем, что было таким близким когда-то, говорит мне родным языком, ласкает душу. Налево Бургас и, как огни, горят стекла его окон.
За моей же террасой косогор, затем опять терраса и спуск в долину. Это сзади, а сбоку косогор поднимается все выше и круче, и оттуда, сверху, глядят вниз обрывы скал, тенистые ущелья. В ущельях по скалам лес, а в лесу множество серн, фазанов, диких кабанов, но еще больше шакалов. Они уже начинают свой ночной концерт, – их крик тоскливый, жалобный, как плач больного ребенка. А скоро в темноте их глаза загорятся по всем этим скалам, как звезды, и там внизу, в своей белой палатке, я увижу уже два ряда звезд, даже три, потому что третий и самый лучший опрокинулся и смотрит на меня из глубины неподвижного моря. Он такой яркий и чистый, как будто вымыт фосфоричной водой моря.
От каких цветов этот аромат, непередаваемо нежный, который несет с собой прохлада ночи? А что за тени там движутся и проходят по воде? Тени каких-то гигантов, которые там вверху шагают с утеса на утес.
Вот одна тень приостановилась и точно слушает и всматривается в нас. А в обманчивом просвете звездной ночи все гуще мрак, словно движется что-то и шепчет беззвучно. Что шепчет? Слова ласки, любви, просьбы?.. Чьи-то руки, нежные, прекрасные, вдруг обнимут и вырвут из сердца тайну. Нет этих рук. Жизнь пройдет так в работе, труде, в скитаниях, в этих палатках. Удовлетворение – сознание исполненного долга.
Сознание, которое только в тебе. Для других ты всегда так же темен, как темна эта ночь.
Сегодня полковник, командир того резервного батальона, который будет у меня работать, когда я пожимал ему руку, извиняясь за испачканные руки, так как считал казенное серебро, с улыбочкой, потирая руки, сказал:
– Да, деньги пачкают…
Фу, какая гадость и как обидно, что нельзя устроить так, чтобы все знали, что ты честный человек.
Интересно, Бортов считает меня честным человеком? В нем много, очень много симпатичного – простота, скромность, но в то же время и что-то такое, что дает чувствовать, что верит он только себе.
Особенно неприятен его смех.
Какой-то сарказм в этом смехе, ирония и горечь. В эти мгновения он, всегда сильный, мужественный, умный, делается сразу каким-то жалким, и что-то старческое в нем тогда.
Никакой начальственности в нем, никакого хвастовства, самодовольствия. А человек, несмотря на свои двадцать девять лет, весь в орденах, занимает такое место. Хотел бы я видеть его в деле, – вероятно, скобелевское спокойствие. Недаром Скобелев и любит так его.
О себе, о своих делах никогда ни слова. Все, что слышал я о нем, я слышал от других. Но вот странно: все отдают ему должное и все в то же время говорят о нем таким странным тоном, как будто он уже покойник или кончил свою карьеру. Я считаю, что единственное, что опасно для него, это его любовь рассуждать, бранить свое начальство. Это может серьезно повредить его карьере, а иначе перед ним прямо блестящая дорога.
Когда он стоит в ряду других, довольно посмотреть на его благородную осанку, спокойное, одухотворенное, полное благородства лицо, чтобы почувствовать, что этот человек выше толпы, это сила. Может быть, это тем хуже, потому что толпа – всегда толпа и всегда инстинктивно, бессознательно стремится к нивелировке. Какой-то меч проходит, и высокие головы падают. Надо уметь вовремя склонять их.
Откуда во мне эта философия? Пора спать.
– Ваше благородие, а хотите, я вам голову обрею? В нашей роте подпоручик Нахимов був, и редкие, редкие у него волосики були, как шматочки, а як я обрив его, то таки космы потом стали…
– Но у меня, кажется, не редкие, – возразил я.
– А все ж гуще будут, – ответил Никита с такой беспредельной уверенностью, что поколебал меня.
Хорошая сторона бритья головы была в том, что это окончательно прикует меня к работе, к этому месту.
А чего другого я желаю? Не ездить же с бритой головой по кафешантанам…
И решение мое тут же созрело.
– Хорошо: брей.
– Ну, так завтра я вас обрею.
– А сегодня?
Даже Никита смутился.