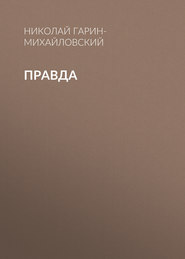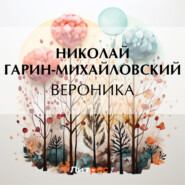По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
В усадьбе помещицы Ярыщевой
Год написания книги
1908
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В каком труде? Там, в той хижине, или в борьбе за общую правду? А где правда и где в жизни сознательное место борца? И без этого определённого места все помыслы о добре и правде разве не тот же рычаг Архимеда, без точки опоры, о котором говорил он: «Дайте мне точку опоры и я подыму вам землю». Дайте… Но кто даст?
Кто-то едет по дороге: крестьянин подъехал, соскочил с лошади, снял шапку и подошёл к господам. Записку подал из Красных Зорек: зовут барышню кататься на речку.
Прочла барышня. И хочется ехать ей и не хочется, а бабушка уговаривает. Ещё подумала и согласилась ехать.
– Я с Кириллой домой доеду, поезжай, – говорила, провожая её, бабушка.
– Надо ещё домой заехать переодеться. Стоит ли ехать?
– Поезжай, поезжай, – твердила бабушка. – Там и ночевать оставайся.
* * *
Огорчился Никанор, когда по окончании работы пришёл с другими к старой барыне допивать водку и не нашёл возле неё внучки с серыми глазами.
– А она-то куда девалась? – спросил он сам себя, разведя руками.
– Что? улетела? – спросил его кто-то.
– Эх, улетела! Напьюсь с горя.
Все смеялись и Никанор смеялся, и кто не мог допить, подавал ему и говорил:
– Ну что ж, допивай?
– А что? Выпью!
И Никанор пил. Его добрые, красивые глаза в это мгновение широко-широко раскрывались. И больнее в сердце щемил недосягаемый для него образ барышни. Потом туманнее стало в голове, отшибло память, и забыл Никанор, о чём болело сердце, но всё пил и пил, потому что всё подносили.
– А вы, будет… Что в самом деле? Опоите человека.
Парни смеялись.
– Ну вот ещё? Опоишь его, быка этакого.
Уже стемнело, когда потянулись пьяные жнецы домой.
Там далеко потухал запад, темнело, и при самой земле только разливался красноватый отблеск, а пьяные песни долго ещё неслись и замирали в пустевшем поле.
Никанора, без чувств, уложили в телегу, и ехал он, заваленный одеждой пьяных помочан, забытый всеми. Привезли в деревню только труп его: платьем ли завалили, опился ли – так и не знали.
Наталья Ивановна ничего не знала о том, что на её помочи опился человек, и довольная поехала с своим приказчиком домой в его тряской плетушке.
– Ох, батюшка, растряс совсем, – говорила она, вылезая из экипажа, когда приехали домой. – Маша, чай готов?
– Ну, а я пойду обедать, – заявил приказчик.
– Как обедать?
И узнав, что Кирилл Архипович так и не обедал, барыня совсем умилилась:
– Ну уж, батюшка, прости Христа ради: досталось тебе сегодня.
В голосе ли барыни что было, чувствительный ли уж такой от природы был Кирилл Архипович, но он быстро, горячо произнёс:
– Что вы, что вы, матушка Наталья Ивановна, я для вас не то что не обедать, я для вас… тоись так хочу послужить… так… одним словом, как отцы наши вам служили.
Старушка расстроилась, и слёзы сверкнули на её усталых глазах.
– Спасибо, батюшка мой, спасибо тебе… Вижу я твою службу и усердие… Дай Бог и тебе, батюшка, всего.
Напилась Наталья Ивановна чаю, – внучек давно уже напился, – убрала чайницу, сахар и хлеб, заглянула к внуку и, увидев его на кроватке, а няню возле, сказала: «ну спи, спи, батюшка. Господь с тобой», притворила дверь и пошла в свою комнату, всю уставленную образами.
Горят лампадки и переливаются в них лучи, играют в ярких золотых ризах образов и дальше заглядывают в тот тёмный угол, где на широкой двуспальной кровати лежит старая барыня, теперь раздетая и готовая ко сну, лежит и смотрит своими усталыми глазами в потолок. Старушечьи мысли о смерти бродят в голове и мешаются с разными мелочами текущей жизни: хозяйством, посевом, внучатами…
Скоро, скоро так же будет она лежать уже без мыслей и слов: будет загадочно и строго смотреть её тёмное лицо, а душа улетит к Тому, пред Кем все равны, пред Кем одни души человеческие!.. И век вечный всё-то все вместе там, пред Его престолом.
«А здесь, – думает старушка, – вот как миг один и жизнь-то, а врозь – иная всякому доля… Век вечный вместе, – сладко засыпают её мысли, – а жизнь-то врозь». И вздыхает и спит уже старушка. Устало повернулось её лицо к лампадкам, и бегают тени по этому бледному, неподвижному, в чепчике, расширенному книзу лицу.
Уложила няня спать Петю. Тихо в комнатке. Пузатый комод с медными ручками в одном углу, кресло и рабочий стол в другом, две кровати.
На стене, рядом с образами в серых искристых рамках две картинки. На одной на коленях стоит молодая монахиня, и перед ней Господь раскрыл Своё сердце. Горит сердце в огне и страшно тянет к нему сложенные руки монахиня. А на другой картинке в гробу уж монахиня, и ангел на крыльях уносит в звёздное небо её спелёнутую душу.
Лежит Петя, обняв свою куклу, безобразного Ваньку, и ждёт, когда сон закроет ему глазки. Маша заглянула. Закрыл было и опять открыл Петя глазки.
Тихо мурлычет няня:
У-у-летел орёл домой,
Село солнце за горой.
– Няня, расскажи про монашку.
Няня нехотя прерывает песню.
– Ну, видишь монашка… Вот Господь перед ней. Видишь, от грехов сердце горит Его: кажет монашке, а ей жаль. А вот тут уж умерла монашка… Ничего уж ей не надо… Душу вот, видишь, ангел несёт.
– Куда?
– В небо… К Господу Богу своему.
Смотрит Петя внимательно, и смущает его контраст размеров большой монахини в гробу и её маленькой спелёнутой души в руках ангела.
– Она на небе уже маленькая будет?
– Видишь вот.
– А ходить она умеет?