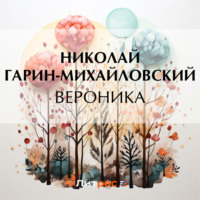Несколько лет в деревне
Мужик исподлобья посматривал на меня, но, видя мою благодушную физиономию, решился признаться до конца.
– Грешен. Покормил с вечера маленько солью, а как гнать к тебе, напоил болтушкой.
– То-то болтушкой, – волновался Сидор Фомин. – Поленом бы вас за такие дела.
Заплатил я мужику, утешая себя тем, что за всякую науку платят.
* * *Крестьянин страшный рутинёр. Много надо с ним соли съесть, пока вы убедите его в чём-нибудь. Пусть будут ваши доводы ясны, как день, пусть он с вами совершенно согласится и пусть даже сделает тут же какой-нибудь сознательный вывод из сказанного вами, не верьте ничему. Пройдёт некоторое время и ваши внушения, как намокшее дерево, бесследно потонули в его голове. И наоборот: всё то, от чего он с виду так легко, кажется, отказывается, очень быстро снова выплывет на поверхность, как пузырь, который до тех пор будет под водой, пока ваша рука тянет его вниз, – пустили, и он снова наверху. Я не хочу сказать, что нельзя убедить, в конце концов, крестьян в истине, – можно; но это надо доказать ему не одними только словами, а и делом, многолетним опытом.
Пристал я весной к одному мужику, Петру Белякову, пахавшему свой загон:
– Почему с осени не вспахал?
– По нашим местам, сударь, осенняя пашня не годится.
– Почему не годится?
– Сырости мало.
– По-твоему, на моей пашне сырости меньше, чем у тебя?
– Как можно, много меньше.
Рассердился я, взял его лошадь за повод, завёл в свой начинавший всходить посев и приказал ему пахать.
– Да что же посев-то гадить?
– Ничего, – отвечал я, – не посев дорог, а правда дорога.
Запустил Пётр соху в мой посев и достал не сырую землю, какой была его, а чистую грязь.
Пётр ничего не сказал, только тряхнул головой и повёл свою лошадь с моего загона. Чрез некоторое время зашёл с крестьянами разговор об осенней пашне.
– Не годится, – заявил Пётр, тряхнув головой и угрюмо уставившись в землю.
– Почему не годится?
– Сырости мало.
– А ты забыл, как грязь достал в моей пашне.
– Ну, так что ж? Год на год не приходится.
– Ну, так я теперь каждый год буду заставлять тебя пробовать мою осеннюю пашню, – рассердился я.
И действительно, на другой год после этого спора загнал я его на свою пашню и заставил пробовать.
– Ну, что, и в этом году сырое?
– И в этом сырое, – отвечал, улыбаясь, Пётр.
– Вот как лет десять подряд заставлю я тебя пробовать сырость моей пашни, так, небось, и детям закажешь. что осенняя пашня сырее.
Соседи
Белов, Синицын, Леруа и Чеботаев. – Заглазное хозяйство купцов и дворян. – Соседние деревни – Успенка и Садки.
Для полноты очерка считаю необходимым коснуться окружающих меня землевладельцев. Одним из ближайших моих соседей был Белов. В момент моего знакомства с ним ему было 53 года. Около пятнадцати лет тому назад он приехал в своё имение и начал энергично хозяйничать: осушил большое болото, превратил его в пахотное поле, засеял льном, потом коноплёй, завёл систему и порядок в вырубке леса, выделывал из него столярный материал – доски, фанерки и пр., устроил очень остроумную мельницу.
Но все эти улучшения, в конце концов, расстроили его дела. В одном недостаток опыта и знания, в другом отсутствие сбыта, в третьем отсутствие поддержки, кредита, привели его почти к безвыходному положению. Для того, чтобы существовать, необходимо было отрешиться от всех занятий и нововведений. Каждая копейка была на счету и требовалась крайняя осмотрительность в расходовании её, под страхом очутиться на улице без всяких средств. Выбора не было – и Белов решил побороть себя. В своё время, говорят, это был живой, энергичный человек. Всё это давно прошло. Теперь он производит подавляющее впечатление – заживо погребённого. Он почти не выходит из своего кабинета. Временами он точно просыпается, на мгновение увлекается, но сейчас же спохватывается и испуганно спешит замкнуться в себе. Отношение его к окружающему миру мрачное и безотрадное. На мужика он смотрит, как на страшного, непонятного зверя, от которого можно всего ждать. Будущее рисуется ему так безотрадно, что он об одном только просить Бога, чтобы ему не пришлось дожить до того, что будет. Он холостяк и, говорят, пьёт.
Другой наш сосед, Синицын, был тоже старый холостяк. Этот, не смотря на свои 75 лет, не потерял веры ни в себя, ни в жизнь. Он до сих пор продолжал красить усы и волосы, продолжал изысканно любезничать с дамами, хотя очень часто уже не замечал беспорядка в своём костюме. Он гордился своим происхождением, воспитанием и университетским образованием. В молодости он служил в Петербурге, но в сороковых годах, после смерти отца, приехал в своё имение и с тех пор почти безвыездно жил в деревне. Человек он вздорный, несимпатичный, немножко тронутый, но вызывает невольное сочувствие своим полным одиночеством и беззащитностью. В своё время, говорят, это была страшная сила и злой крепостник. С освобождением, вся его деревня разбежалась, и живёт он теперь совершенно один на подобие щедринского дикого помещика. Бывать у него – пытка. Он весь пропитан всевозможными приметами и предрассудками. Как вошли, как сели, залаяли собаки при вашем появлении, – всё это имеет то или другое значение, как для определения вашей личности, так и того, насколько вы полезный или вредный человек.
За лакея у него собственный побочный сын, о чём он, не стесняясь, говорит. Подают грязно, неопрятно, дотронуться противно. Облизать ложку с вареньем и сунуть её назад в банку – это цветочки в сравнении с остальным.
Трудно верится, что в своё время это был изысканный франт. С первых же слов он начинаете бесконечный рассказ о своих врагах, о тайных подпольных кознях, которые ему строят все и вся. Оказывается, что все его знакомые, все, хоть раз его видевшие, все, имевшие какое-нибудь когда-либо к нему отношение, – все составляют одну сплочённую банду, имеющую целью отнять у него не только его имение, но и самую жизнь.
– Сына моего, вот этого, что подавал обед, и то совратили. Три месяца тому назад прогнал мать его, – отравить меня хотела. Она кухаркой служила. Подлая женщина чего-то такого подсыпала в суп, что я три дня лежал при смерти. Зову сына, говорю: «Твоя мать отравила меня». Негодяй отвечает: «Вы с ума сошли». – «А! неблагодарный щенок! Вон с твоею подлою матерью, чтобы духу вашего мерзкого не было!» Ушли. Оставили меня одного – больного, умирающего. Посылаю за доктором, становым, заявляю об отравлении, показываю суп, требую протокола. Пошли в другую комнату, просидели часа два, выходят назад; осмотрел меня доктор и объявляет, что в супе нет отравы и болезнь будто бы произошла от объедения. Какая наглость! Я не вытерпел, я прямо сказал им: «А, голубчики, и вы то же? Хорошо, господа подпольные герои, я найду на вас расправу, а теперь вон!»
Синицын сделал театральный жест рукой, указывая на дверь.
Внимательно взглянув на меня и, видимо, удовлетворившись произведённым впечатлением, он хлебнул чаю и упавшим голосом продолжал:
– Пишу губернатору. Недели две – никакого ответа. Что делать? Решаюсь писать министру и уже всё, всё изложил, никого не пожалел, но и без пристрастия, сущую правду, как перед Господом моим Богом. Закончил прошение так: «хотел бы я надеяться, ваше высокопревосходительство, что хоть теперь будет услышан мой справедливый вопль, но боюсь русской пословицы; „жалует царь, да не милует псарь“». Сильно сказано? – обратился он ко мне.
– Очень сильно, – ответил я.
Синицын помолчал и продолжал гробовым голосом:
– Две недели тому назад получаю своё прошение через пристава, распечатанное, с предложением дать подписку, что впредь не буду писать таких прошений. Вся кровь прилила мне в голову от этого нового оскорбления. «Вон!» – закричал я не своим голосом. Этот нахал отвечает: «Я уйду, но извольте подписаться, так как иначе вам предстоит удаление из губернии». Что оставалось делать? Я взял перо и написал: «Покоряюсь силе и даю подписку».
Он замолчал. У меня тоже не было охоты говорить с этим сумасшедшим, но жалким стариком.
– Хотите посмотреть мой сад?
Я нехотя согласился. Я слышал уже об этом саде; слышал, каких нечеловеческих усилий стоило бывшим его крепостным натаскать на почти неприступный скалистый косогор годной земли и устроить этот Семирамидин сад. Слышал о гротах, где купались некогда нимфы – его бывшие крепостные девушки, – он тут же сидел и любовался. От времени сад опустел и мало-помалу косогор стал принимать свой прежний неприступный вид. Облезшие Венеры уныло торчали здесь и там вдоль дорожек, круто спускающихся к реке; полуразрушенные гроты нагоняли тоску и отвращение.
Мы возвращались назад. Синицын с страшным трудом взбирался на гору, задыхаясь, хватаясь за грудь и останавливаясь на каждом шагу.
– Я никогда не хожу в этот проклятый сад и только для вас…
Я смотрел на него с сожалением и думал:
«Что, если бы в тот момент, когда он устраивал свой сад, отодвинулась бы завеса будущего, и он увидел бы себя теперешнего, проклинающего то, что устраивал для своего наслаждения?»
Да, если справедливы те рассказы, которые сохранились о Синицыне, то надо сознаться, что жизнь умеет мстить некоторым, обратив против них их же оружие.
Такого ада, такого ежеминутного унижения, какое испытывал он от всех тех, которые когда-то трепетали перед ним, трудно себе и представить.
Бегавший мальчишкой в его дворне Гришка, – теперь писарь волостного правления, – считает своим долгом все получаемые Синицыным газеты разворачивать, потом снова складывать, только потому, что Синицын этого терпеть не может и, получив такую газету, будет рвать и метать.
Старшина, зная, что Синицыну это нож в сердце, умышленно игнорирует его титулы.
Староста, на вызов составить протокол о помятии травы, является на третий день, когда следов помятия никаких не остаётся, да и не сам ещё, а присылает кандидата.
Встречный обоз на грозный окрик Синицына своротить в сторону хохочет только, без церемонии берёт его лошадь под уздцы и затискивает как можно глубже в снег. Если Синицын протестует и ругается, – а он всегда протестует и ругается, – они отхлещут его кнутом, оставив несчастного, бессильного старика одного выбиваться, как знает, из глубокого снега.
И, не смотря на всё это, Синицын не падает духом и ни на йоту не отступает от своих требований. Время идёт и потихоньку делает своё дело: его враги умирают, выходят в отставку, переводятся. Старик приписывает всё это себе. По поводу каждого такого перемещения он многозначительно говорит:
– Да, в конце концов, правда всегда восторжествует. Сильна русская земля своею правдой, своим царём и своим Богом.
Если настоящее его невыносимо, зато будущее рисуется ему безоблачным. Он знает, что Господь его бережёт для чего-то чудного и высокого. Пережить всё то, что пережил он в свою долгую безотрадную жизнь, давно уже полную невыносимых нравственных и физических лишений, обыкновенный человек не может, и только ему, избраннику своему, даёт Господь силу для этого.
У него давно никто не берёт ни земли, ни лесу, потому что с ним нельзя иметь дела, и как он перебивается при заложенном имении, одному Богу известно.
Когда мы возвратились в комнаты, он стал жаловаться на свои материальные затруднения, на предстоящий платёж в банк.
Я попрекнул его тем, что он не извлекает доходов с имения и, шутя, назвал его божьим сторожем.
Он пытливо заглянул мне в глаза и спросил:
– Вы хотите сказать, что я, как собака на сене?
И, помолчав мгновение, он грустно докончил:
– Зло, но справедливо.
На прощанье я предложил ему денег для взноса в банк.
– Благодарю, – отвечал он. – Я не могу взять у вас деньги, потому что мне нечем вам отдать.
Предприимчивый и изворотливый Леруа жил от нас в 12-ти верстах. Имение было детское, а винокуренный завод его. Леруа или де Леруа «дит Бурбон», как называл он себя в торжественных случаях, был человек лет пятидесяти пяти. В молодости, когда он был блестящим гусаром, адъютантом своего отца, который занимал в армии видный пост, он женился на богатой помещице здешних мест. Прокутив своё состояние, часть состояния жены, похоронив первую жену, оставившую ему четверых детей, он сошёлся с одной актрисой, с которою прижил ещё четверых детей, жил некоторое время в городе и, наконец, лет пят тому назад окончательно с двумя своими семьями переехал в деревню.
Дела его, из года в год, шли всё хуже. Он давно был в руках известного ростовщика Семёнова, а, по сложившемуся мнению, попасть в руки Семёнова было равносильно гибели.
Сам Леруа и семья его вели невозможный образ жизни. Когда вы к ним ни приезжайте, вы непременно застанете одних членов семьи спящими, других только проснувшимися, пьющими свой утренний чай, третьих обедающими и всех бодрствующих обязательно за книгами, преимущественно за самыми забористыми романами. Разговаривают с вами – книга в руках, садятся обедать – развёрнутая книга, опёршаяся о графин, стоит перед глазами, руки работают, подносят ко рту ложку и хлеб, рот жуёт, а глаза жадно пробегают страницы. Оторвать от чтения – это значит сделать большую неприятность читающему. Если отрывает кто-нибудь свой, читающий без церемонии крикнет:
– Дурак (или дура), не мешай!
Если чужой помешает, на губах появится на мгновение улыбка, вежливый, но лаконический ответ и снова чтение.
Семья от первой жены состояла из трёх сыновей и барышни-дочери. Старшему было лет двадцать пять, среднему – двадцать и младшему – лет шестнадцать. Все они, в своё время, были в гимназиях, все по разным непредвиденным обстоятельствам должны были, не кончив, выйти из заведения и возвратиться к отцу, у которого и проживали, ничего не делая. Каждую осень с весны и весной с осени они собирались ехать в гвардию, где, вследствие протекции, какую они имели, их ожидала блестящая будущность. Так говорил, по крайней мере, сам Леруа. Относительно себя, Леруа, запинаясь, рассказал мне в первый же визит, что дела его пошатнулись было, но что в этом году он будет иметь…
Леруа, собираясь произнести цифру, слегка запнулся, поднял глаза кверху, подумал несколько мгновений и, наконец, торжественно объявил: сорок тысяч рублей чистого дохода.
– Вы не верите? – любезно предупредил он меня. – Я сейчас вам это докажу, как дважды два…
– Стеариновая свечка, – объявил неожиданно углублённый в чтение один из сыновей.
– Дурак! – парировал его старый Леруа.
– Ха, ха, ха!.. – залился в ответ весёлый юноша и исчез из комнаты.
Леруа некоторое время стоял озадаченный, но потом с улыбкой объяснил мне, что свобода и независимость входят в программу его воспитания.
Возвращаясь к прерванному разговору, Леруа обязательно просил меня взять карандаш; отыскал чистый, не исписанный ещё цифрами, кусок бумаги, подложил его мне под руку и попросил меня записывать следующие цифры:
– 200 десятин картофеля по 2.000 пудов…
Я знал хорошо, что картофеля посеяно не 200, а 20 дес., что десятина даст, дай Бог, 1.000 пуд., но спорить было бесполезно. В конце концов, когда подсчитали итоги, до 40 тыс. было очень далеко.
Леруа лукаво посмотрел на меня.
– Вы думаете, что до 40 тыс. ещё далеко? Вы думаете, откуда он получит остальные 18 тыс. рублей?
Леруа дал себе время насладиться моим смущением и после, торжественно тыкая себя пальцем в лоб, сказал:
– Вот откуда, милостивый государь, де Леруа «дит Бурбон» получит остальные 18 тыс. рублей.
Ещё несколько томительных мгновений молчания и, наконец, объяснение загадки.
Ларчик просто открывался…
Действительно, просто. Де Леруа «дит Бурбод» просто-напросто придумал ловкий способ надувать акцизных и гнать неоплаченный спирт.
Он кончил и ждёт одобрения. Я смущён и не знаю, что сказать.
Леруа спешит ко мне на выручку.
– Ловко? Гениально придумано?
Говорить ему, что это мошенничество, было, по меньшей мере, бесполезно.
– Ну, а если вас поймают?
– Никогда!
Прощаясь, Леруа просил меня сделать ему маленькое одолжение, поставить бланк на двух векселях, по 300 р. каждый.
Я смутился, поставил, за что впоследствии и заплатил 600 руб., которые никогда, конечно, не получил обратно.
Провожая меня к экипажу, он объявил мне свою милость.
– Всю вашу рожь прямо ко мне на завод везите – гривенник дороже против базарной цены и argent comptant.
Поистине царская милость!
Я, конечно, поблагодарил, но ни одного фунта, ржи не доставил.
Приехав ко мне, он всё раскритиковал.
– Разве это ваше дело хлеб сеять? Таким делом может всякий дурак заниматься. С вашими знаниями, с вашею энергией завод нужно открывать: сахарный, винокуренный, бумажный, картофельный, наконец.
Моё отношение к крестьянам он подверг строгому осуждению.
– Не наше, батюшка, дворянское это дело якшаться с хамами.
Я, конечно, не стал оправдываться.
– Надежда Валериевна, уговорите хоть вы вашего мужа бросить это якшанье.
– Я сама всею душой сочувствую ему в этом, – улыбнулась жена.
Леруа только руками развёл.
– Я вам скажу только одно: я знал и вашего, и мужа вашего отцов; если бы они увидели, что делают их детки, они в гробу бы перевернулись.
Мы рассмеялись и выпроводили кое-как этого бестолкового, погубившего себя и семью свою, человека.
Вот и все наши соседи, жившие в имениях. Остальные или не показывались вовсе в свои поместья, или появлялись на день, на два, с тем, чтобы снова исчезнуть на год. В таких имениях сидел управляющий и занимался раздачей земель.
То же было на купеческих землях. Разница между купеческими и дворянскими хозяйствами состояла в том, что в дворянских деревнях постройки, сады, лес сохранялись, а у купцов вырубались наголо. В дворянских имениях велась раздача земли по известной установленной системе, а у купцов земля раздавалась как попало и где попало.
Купец, приобретавший дворянское имение, был желанный гость для крестьян на первых порах, но когда, вследствие хищнической системы, лес исчезал, а земля истощалась, крестьянам, если поблизости не было свободной земли, приходилось очень жутко: истощённая земля не окупала расходов, а цена на землю, раз установленная, держалась твёрдо.
Плохо им было и с другой стороны на купеческих землях. Пала лошадь, корова, сгорели, свадьбу затеяли – негде денег достать, кроме как у своего же брата мужика, а этот даром не даст. Как посчитать всё, что придётся отдать за занятые деньги, так и выйдут все 100 %.
Из дальних соседей я попрошу позволения у читателя остановиться, как на представляющем из себя нечто выдающееся, на помещике Чеботаеве. Это был человек лет тридцати пяти, женатый, имевший уже шесть человек детей. Имение у него было большое, хорошо устроенное, старинное и хозяйство велось по издавна заведённому порядку. Нововведений почти никаких не допускалось. Под пашню поступала отдыхавшая не менее пятнадцати лет земля. Часть земли засевалась Чеботаевым, часть отдавалась окрестным крестьянам. Земля его, как новая и сильная, высоко ценилась и бралась нарасхват мужиками. Всё остальное имение находилось под сенокосом. В виду обилия сенокосов, луга продавались крестьянам соседних деревень сравнительно по весьма умеренной цене. Для них это было очень удобно и давало возможность держать много скота.
Обладая семью тысячами десятин земли, Чеботаев получал не более 10 тыс. руб. дохода. Это сравнительно весьма небольшой доход, но Чеботаев большего не желал, говоря, что с него и этого довольно. Терпение, осторожность, выдержка, нелюбовь к риску были отличительными качествами Чеботаева.
– К имению нужно относиться, как к банку. В частном вы можете получить на свой капитал 10 %, но с риском потерять этот капитал, в государственном же вам дадут 3 – 4 %, но без риска.
– Но тогда какой же интерес жить в имении?
– Больше негде жить. В городе для меня дела нет. Служить? – я к этому не был подготовлен; жить же в городе без дела слишком скучно, поневоле и живёшь в деревне.
Он был против моих, как он называл, «заигрываний» с мужиками.
– Между мной и мужиком общего ничего нет. Интересы наши диаметрально противоположны; какое же здесь возможно сближение? И нечего и их, и себя обманывать, нечего лезть к ним с неосуществимыми иллюзиями, потому что из этого не может выйти ничего путного. Отношения должны быть чисто-деловые: вам нужна работа, ему земля; дали вы ему землю и не обманули, – вот и всем отношениям конец. Хотите помогать им – помогайте, но так, чтобы правая рука не знала, что творит левая, в том смысле, чтобы ваша помощь не была бы поводом для него в будущем установить уже обязательную, с вашей стороны, помощь. Рассчитывать на их признательность, на искренность отношений – крупная ошибка. В силу вещей, между нами ничего нет общего; с молоком матери всасывают они убеждение, что вы – враг его, что земля его, что вы дармоед и паразит. Вашими заигрываниями вы ещё более его в том убедите. Влияния на него никакого вы иметь не можете. Проживёте с ним сто лет – и весь ваш столетний авторитет подорвёт любой пришлый солдат самою нелепою сказкой. Так-то, батюшка мой! Вот школу, больницу, хорошего священника им дайте, – это им нужно, – но не стройте здания на песце, да не обрушится оно и не погубит строителей.
По поводу моего хозяйства мнение Чеботаева было такое:
– «Могий вместити да вместит». Но, грешный человек, я сильно сомневаюсь в успехе. Я рад вам, как милому соседу, с которым можно отвести душу, но если б вы спросили моего искреннего совета, я сказал бы вам: «бросьте всё и поезжайте служить». Мыслимо ли, при теперешних условиях, что-нибудь сделать? Ведь, под вами нет никакой почвы, вы один, без поддержки, а начинать новое дело без опыта предшественников, без собственного даже опыта, без надлежащего знания окружающих условий природы, при отсутствии всякой научной агрономической деятельности в крае, – одним словом, при чёрт знает каких условиях – по-моему, значит идти на верную гибель… Всё, конечно, может быть; я не знаю вас, ваших сил, повторяю: «могий вместити да вместит», но для меня была бы непосильна такая задача. Если я убедил вас, бросайте всё и поезжайте служить. Не убедил – забудьте мой слова, и дай Бог вам всего лучшего.
* * *Из соседей-крестьян я остановлюсь на двух деревнях – Садки и Успенка.
Крестьяне деревни Садки вышли на полный надел. Материальное благосостояние их, в сравнений с князевцами, процветало, не смотря на то, что поля их сравнительно были хуже князевских. Общий тон деревни поражал своею порядочностью, сплочённостью и единством действий. Они сами сознавали своё преимущество перед другими деревнями.
– Наше село дружное, работящее. Мы не любим скандальничать.
Свою порядочность они объясняли тем, что господа у них исстари были хорошие и жалели мужиков. Они принадлежали роду графов Зубовых. В деревне было две партии: богатые и бедные. Душевым наделом распоряжались бедняки, и всё устраивалось в интересах бедных. Зато богатые, образовав товарищество из сорока человек, держали в аренде, на шесть лет, соседнюю землю и вели там независимое от остальной деревни хозяйство. Дела их шли прекрасно. Земля, без всяких особенных улучшений, выхаживалась отлично и, если не было урожаев вроде немецких, то не было урожаев вроде князевских. Во всяком случае, на арендованных богатыми землях урожаи были несравненно выше, чем на душевых наделах.
– Как, же сравнить! – говорили садковские зажиточные крестьяне. – Разве мир может сравниться с нами? У нас человек к человеку подобран, у нас сила берёт, у нас сбруя, снасти, лошади – ты гляди что? – а у них немощь одна. У нас, один на другого глядя, завидуют друг дружке: один выехал пахать – глядь, и все тут, никому не охота отстать, быть хуже другого, а у них? Пока делёжка будет идти, время-то сева уйдёт, а у нас земля раз на все шесть лет делённая. На душевой земле у нас вдвое хуже против покупной родится.
– А зачем вы не назмите вашу товарищескую землю?
– Не рука. Своя была бы, стали бы назмить, а так, начнём назмить землю, выхаживать, а придёт новый срок, хозяин на землю-то прибавит.
– Вот, говорят, крестьянский банк устроят.
– Вот тогда ино дело будет.
– Только там обществом надо будет покупать.
– Обществом не придётся: мир велик человек – не сообразишь. Я, к примеру, богат, он – бедный: меня берёт сила, его нет, он будет гоношить по-своему, я по-своему. Я в силах платить, он не может, – грех и выйдет один… Нет, обществом не сообразишься.
– А, может быть, и без банка землю отберут от господ?
– Вот уже тридцать лет отбирают, а она всё господская. Пожалуй, надейся, коли не надоело.
В селе существует какая-то секта. Члены её посещают церковь и вообще ничем не отличаются от православных, кроме того разве, что носят белые рубахи. По субботам они собираются на моление, по очереди, друг у друга. Что там происходит, никто не знает, но говорят, что в конце моления тушатся свечи и начинается оргия. Сектанты энергично протестуют против этого. К секте принадлежат исключительно богатые. Возникла эта секта всего несколько лет тому назад. Члены секты в высшей степени трудолюбивы, деятельны, полны интереса к жизни. В этом отношении они составляют полную противоположность с остальными крестьянами, несомненно принадлежащими к православной церкви.