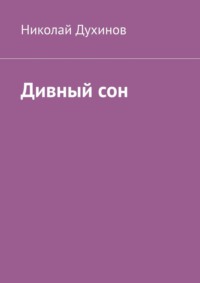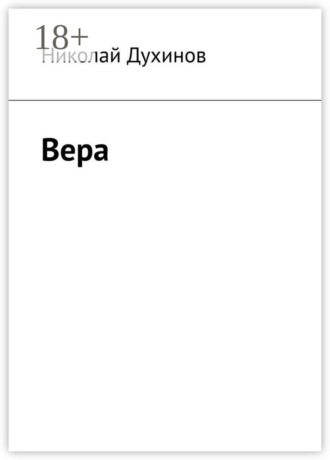
Вера
Вот и весь рассказ самого героя. Так же и о второй награде – ордене Славы третьей степени – он вспоминал с неохотой, выдавливая из себя короткие рубленые фразы. По рассказу Василия выходило, что накрыло гаубицу ответным огнём. Мина разорвалась рядом с орудием и уничтожила лучший орудийный расчёт дивизии.
Позже, в начале нулевых, Колька совершенно случайно узнал некоторые детали последнего боя деда. Его пригласили в качестве специалиста помочь наладить автоматику системы вентиляции на одном военном объекте – в здании архива Министерства обороны. Конечно, он знал и номер части деда, и когда того наградили. Почему не воспользоваться удачным стечением обстоятельств и не навести справки?
В архиве нашли наградной лист последней боевой награды Василия. Копию Кольке снять не удалось, но прочитанные им лаконичные строки из наградного листа врезались в память. Узнал он и о первой: «Чем ранее награждён (за какие отличия): Орден Красной Звезды За подавление основных средств противника и обеспечение продвижения пехоты». А про последнюю, после длинного списка уничтоженных в разное время блиндажей с вражеской пехотой, миномётной батареи, какого-то метательного аппарата, следовало краткое описание ноябрьского боя у безымянной высоты рядом с шоссе Витебск – Смоленск: «Под сильным артиллерийским, миномётным и пулемётным огнём, отлично оборудовав огневую позицию, огнём прямой наводкой отразил две контратаки 30 автоматчиков, поддержанных орудиями „Фердинанд“, пытавшихся овладеть шоссе и высотой…»
Никогда Василий не рассказывал об этом никому. Это его, личное. Его память и его боль. Страх и ужас боевого расчёта, преодолённые усилием воли, позволившей восьмерым молодым ребятам сначала на руках катить двух с половиной тонное орудие под огнём вперёд – на передовую позицию, тащить ящики с боекомплектом, окапывать орудие, а затем – стоять до конца.
Отлично оборудованная позиция лишь в первую атаку защитила расчёт, не выдав точное расположение орудия. Во вторую – их обнаружили. Делом времени оставалось для вражеской миномётной батареи нанести точный ответный удар. Безусловно, ребята знали, что их ждёт. Немецкий корректировщик туго знал своё дело. Мины ложились всё ближе и ближе с каждым залпом вражеской батареи. Они не дрогнули, не отступили. Последняя команда: «Беглым, огонь!» Последние четыре выстрела по последнему ориентиру. Пятый выстрел расчёт зарядить не успел…
Что мог он рассказать сопливым мальчишкам об этом? Рассказать про то, как его, единственного выжившего, придавленного лафетом собственного орудия, с двумя осколками в животе, выкапывали руками бойцы из прибывшего подкрепления? Рассказать про то, как лежал он, не потеряв сознания, корчась от страшной боли, в зимней каше растопленного снега, грязи и собственной крови? К чему подробности? Несложно представить себе последствия такого ранения. Что может быть страшнее осколочного в живот?
Ничего не рассказывал Василий Алексеевич ни про последний бой, ни про то, как выкапывали его, ни как несли, ни как в госпиталях полевых оперировали, ни как везли в глубокий тыл – в Челябинск. История, в деталях неоднократно с удовольствием повторённая многим, в том числе и Колькиным друзьям, начиналась со встречи в челябинском госпитале с будущей женой – Варенькой.
Обычная встреча, обычное знакомство для тех времён. Варя – тонюсенькая, словно тростиночка – в стайке таких же молоденьких девчушек возрастом от четырнадцати до восемнадцати лет зашла в сопровождении старшей медсестры в палату, где лежали десяток тяжелораненых и среди них – он.
Вася Шкуркин уже более месяца провёл на больничной койке с дренажом в животе, весь опутанный трубками с баночками, с несколькими капельницами рядом. Он сразу выделил её из всех девушек, смотревших на ребят с тоскливым ужасом и сочувствием. Несмотря на всю тяжесть своего положения, Вася и его товарищи по палате приняли новое пополнение медицинских сестёр госпиталя с радостным воодушевлением. А она, Варя, так же сразу обратила внимание на Василия.
– Что это у него? – волнительным шёпотом испуганно спросила она медсестру.
– А это, девочка, у меня самогонный аппарат! – ответил ей Василий вместо медсестры с весёлым смехом, под радостный гомон остальных раненых.
Она выхаживала его весь следующий год, пока он находился в госпитале, а после они начали встречаться – двадцатипятилетний инвалид и семнадцатилетняя девушка. Ничего такого не было между ними. Он мечтал, чтобы она вышла за него замуж, и не позволял никаких вольностей по отношению к невесте.
В сорок шестом году привёз бывший фронтовик молодую жену в Москву. Василий по направлению устроился на военный завод, где проработал до пенсии. Молодая семья жила в бараке на территории строящегося завода. Барак – замечательное название длинного деревянного каркасного одноэтажного строения из досок, прибитых к направляющим брусьям внахлёст, чтоб без щелей и не задувало снегом зимой и не заливало дождём летом. Жуткое строение, разумеется без воды и канализации, разделённое поперёк длинной части на несколько узких пеналов-комнат. В каждой комнате устроили небольшое окошко и дверь на улицу. Такое вот отдельное жильё молодой семьи инвалида войны – почти квартира, состоящая из тамбура и комнаты площадью в пятнадцать квадратных метров. Из удобств – печка-буржуйка для обогрева зимой и примус для приготовления и разогрева еды. Холодильник тоже присутствовал, но только в холодное время года – авоська, висящая за форточкой окна. Правда, можно ещё и в столовую заводскую ходить, где обычно все питались, но не всегда в столовой есть будешь, иногда хочется и семейного ужина в домашней обстановке.
В этом чудном жилище молодая семья обрела счастье и двух детей – дочурку и сынишку. В пятидесятом году барак сгорел. Большая удача, что никто не погиб в пожаре. Василий успел вывести жену и детей, спасти из огня документы с наградами да швейную машинку «Зингер» – самую главную ценность семьи. Вытаскивать остальное времени не осталось. Убедившись, что семья в безопасности, Вася кинулся помогать соседям. Несколько месяцев они и другие погорельцы жили в помещениях местного клуба за сценой, пока на месте сгоревшего барака отстраивался новый – улучшенной планировки и повышенного комфорта. В новом бараке соорудили утеплённые полы, поднятые над землёй на целых полметра, и каркас здания обшили с двух сторон шпунтованными строгаными досками от ящиков из-под оборудования и станков, что устанавливали в цехах Завода.
Василий – молодой симпатичный парень, отзывчивый и чуткий, приятный в общении, да и к тому же бывший фронтовик – как-то сам собой выдвинулся на новом месте работы. Его, смышлёного и ловкого, лишённого войной детской наивности, не по годам рассудительного и вместе с тем очень целеустремлённого и порой жёсткого мужика, заметили и начали выдвигать на руководящие должности. Вася каким-то внутренним чутьём умел найти подход к самому несговорчивому человеку. Если упёртый собеседник оказывался, как и он, бывшим фронтовиком, то любой, будь то даже самый сложный вопрос Василий решал на раз и два. Со стройкой Завода, да и потом, возникали проблемы с поставкой строительных материалов или какого-нибудь нужного Заводу оборудования и оснастки. Для решения таких проблем посылали Василия.
Приезжал Вася на строительную базу за кирпичом, например, а в конторе сидел злобный какой-нибудь Иван Иванович – волевой и принципиальный, не терпящий никаких слов поперёк, который по матушке посылает любого и может выгнать из своего кабинета да хоть министра. Вася, сидя скромно в приёмной с невозмутимым видом, с ухмылкой на лице слушал, как Иван Иванович этот, крича на посетителя в своём кабинете так, что и на Красной площади его, наверное, слышно, посылает далече-далече представителя очередной самой важной стройки столицы. И тот, с красным лицом и возмущёнными криками: «Я на вас жалобу подам!» – убегает вон из кабинета Ивана Ивановича.
– Кто там ещё? – с яростью в хриплом голосе приглашает Васю в кабинет Иван Иванович. – Ну чего встал-то как пень? – продолжает он, изучая проницательным взглядом молодого человека, стоящего в дверях. – Дверь закрой, парень. На ключ закрой. Ключ в двери. Давай, садись, – Иван Иванович встаёт из-за стола и, ловко орудуя костылём, скачет на оставшейся ноге к шкафу, открывает его и достаёт краюху хлеба да бутыль с прозрачной жидкостью. – Спирт-то не разучился ещё пить? Какой-то ты хилый и бледный на вид, – говорит он, доставая НЗ – банку тушёнки. – Давай уж… На, нож возьми. Открывай банку. Чего сидишь, как неродной? Рубай, парень. Рассказывай, где воевал-то?
После войны выжившие и демобилизовавшееся фронтовики с гордостью носили боевые награды. А потом в какой-то момент они сняли, не сговариваясь, ордена и медали и не надевали более, разве что на девятое мая, который уж сделали обычным рабочим днём. Не любили гордость фронтовиков чинуши партийные. Очень им не нравилось поведение героев. Не любили они и всех этих инвалидов-«самоваров» безногих и безруких, что по поездам на каталках и костылях ползали, гремя побрякушками своими бесполезными. Вот вам, герои, праздник новогодний по заявкам трудящихся:
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
УКАЗ
от 23 декабря 1947 года
Об объявлении 1 января нерабочим днём
1. Во изменение Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 г. считать день 9 мая – праздник победы (с маленькой буквы!) над Германией – рабочим днём.
2. День 1 января – новогодний праздник – считать нерабочим днём.
А вот вам и цена наград ваших, по вашей же просьбе коленопреклонённой:
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
УКАЗ
от 10 сентября 1947 года
О льготах и преимуществах, предоставляемых награждённым орденами и медалями СССР
Учитывая многочисленные предложения награждённых орденами и медалями СССР об отмене денежных выплат по орденам и медалям и некоторых других льгот, предоставляемых награждённым, и о направлении освобождающихся средств на восстановление и развитие народного хозяйства СССР, Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. Отменить с 1 января 1948 г.:
а) денежные выплаты по орденам и медалям СССР;
б) право бесплатного проезда награждённых орденами СССР по железнодорожным и водным путям сообщения;
в) право бесплатного проезда награждённых орденами и медалями СССР в трамвае во всех городах СССР;
г) льготный порядок оплаты, занимаемой награждёнными орденами СССР жилой площади в домах местных Советов.
2. Утратила силу. (Указ от 12 января 1951 г.)
3. Сохранить за награждёнными орденами Славы всех трёх степеней льготы и преимущества, установленные пп. «а», «б» и «в» ст. 7 Статута ордена Славы.
4. Обязать Министра финансов СССР выплачивать награждённым орденами и медалями СССР причитающиеся им денежные суммы за время до 1 января 1948 г. в установленном порядке.
5. Поручить Совету Министров СССР привести ранее изданные постановления и распоряжения Правительства СССР в соответствие с настоящим Указом.
6. Предложить Верховным Советам союзных республик в соответствии с настоящим Указом внести необходимые изменения в законодательство союзных республик.
(Ведомости Верховного Совета СССР. – 1947. – №41.)
Плевок в лицо! Иначе разве можно назвать такое? Да ничего, утёрлись герои и принялись жить дальше. Жизнь, она тяжкая: детей растить надо да подниматься, устраивая быт. Без наград, в обычной гражданской одежде, бывшие фронтовики узнавали друг друга сразу, с одного взгляда. Как такое получалось – то тайна, связавшая пролитой кровью их судьбы навечно.
Двумя боевыми орденами наградили Василия Алексеевича, к ним ещё полученный на фронте знак «Отличник-артиллерист», и всё. Остальные награды вручили ему после войны – юбилейные да медаль «Ветеран вооружённых сил». Кольку всегда волновал вопрос: «Как так? Два ордена почти что за год: один в начале боевого пути и один в конце. Неужели ни одной медалью боевой деда не наградили?» Лишь позднее от своего дядьки Николай узнал, что были у деда и фронтовые медали, да отдал он их все сыну для игры. Обычное дело для ветеранов, после войны молодых ещё людей, – отдали многие награды, потерявшие ценность, детям.
Видать, большой кровью достались деду Николая два ордена и знак «Отличник-артиллерист». Настолько большой, что дорожил ими Василий очень, не скрывая этого чувства никогда. Ещё знал Николай по рассказу матери, что однажды, находясь в сильном подпитии, поведал дед с болью, что на фронте подавали большое количество представлений его к орденам – более десятка, да не получил он ничего. То не доехал нарочный или не довёз, то сгорели с другими документами, а может, в каком-то кабинете кто-то важный и ответственный перечеркнул красным карандашом очередное представление Васи Шкуркина: «Недостоин!» Ещё один орден Василию Алексеевичу вручили в восемьдесят пятом, как и всем оставшимся к тому времени живыми ветеранам войны – орден Отечественной Войны первой степени.
Сняв награды в конце сороковых, Василий вновь надел их на девятое мая шестьдесят пятого года, но с особым нетерпением он ждал и готовился к юбилею Победы в семидесятом. Вся семья участвовала в приготовлениях. Заказали и сшили костюм специально для этого события. Все награды аккуратно пристегнули к пиджаку…
Увы, Василий встретил праздник на больничной койке. Седьмого мая с острым приступом аппендицита его срочно доставили в больницу. Операция проходила очень сложно: врачи никак не могли найти слепую кишку – все внутренности сдвинулись в результате ранения. Мама Николая рассказывала, как девятого мая она пришла навестить отца.
– Ну, принесла? – грозно спросил он, лишь только дочь зашла в палату.
– Да, папа, – молвила молодая женщина, стесняясь, доставая две чекушки из сумочки.
– Эх! Живём, ребята! – хлопнув в ладоши, радостно воскликнул Василий.
Сколько себя помнил Николай, Девятое мая в семье всегда проходило торжественно, искренне и радостно. Вся семья собиралась у деда и бабушки. К празднику готовились весь год. Гостей ждал роскошный стол, на котором чего только не было! Потом, после застолья, они шли гулять – смотреть салют. День Победы – главный праздник для семьи Василия, и даже когда его отменили, всё равно его отмечали каждый год, каждый раз.
Когда государство возглавил бывший фронтовик, праздник вернулся официально. Можно сколь угодно ёрничать и смеяться над дорогим Леонидом Ильичом, но вне всякого сомнения – он знал настоящую цену, уплаченную солдатами и офицерами в боях, как и цену, уплаченную надорвавшими здоровье на военных заводах, в госпиталях и на других работах в тылу женщинами и детьми фронтовиков. Вернулся праздник, вернулись льготы для уже немногих доживших ветеранов.
Василий Алексеевич всегда считал семью самым главным в жизни. Семью и любимую Вареньку – верную спутницу. Происходили между ними и размолвки, как в каждой семье, но всегда они оставались вместе. Оба очень сильные духом люди. Василий – крепкий человек, и жена ему под стать. В восемьдесят четвёртом году в жизни Василия Алексеевича случилась страшная беда – любимая заболела.
Жизнь складывалась тяжело. На долю поколения Василия и Варвары выпали суровые испытания: война, голод, тяжёлый труд и как следствие лишений – подорванное здоровье в самом цветущем возрасте, когда дети выросли и завели собственные семьи. После сорока Варвара Георгиевна серьёзно захворала. Болезни обычные – давление и сердце. Она не попустительствовала недугам, следила за собой и лечилась. Позже, после пятидесяти, последовала серия инсультов. Всего их произошло пять. Три – особенно тяжёлые, с параличом левой стороны тела, но каждый раз Варвара стойко преодолевала все трудности и полностью восстанавливалась. Сильная и мужественная женщина, она боролась и побеждала болезнь, но с последним заболеванием ей не суждено было совладать. Рак – страшный диагноз. Диагностировали его слишком поздно, и по уровню медицины середины восьмидесятых оказалось, что сделать ничего уже нельзя.
Она болела очень тяжело. Болезнь за три месяца высушила Вареньку, превратив статную красивую женщину в маленькую сморщенную старушку. Нет никаких сомнений в том, что во время болезни она страдала от непрекращающихся болей, но никто никогда не слышал ни одной жалобы или даже стона из её уст.
Если бы он только мог, если бы остались силы, то Василий носил бы её на руках. Но он – сам уже больной старик – понимал, что не способен ничем помочь любимой. Ему удалось лишь своей уверенностью поддерживать её силы. Василий до самого последнего вздоха Вареньки надеялся, что она останется с ним.
Она угасала и умерла в своей квартире, в окружении близких и любимых людей: мужа, детей и старших внуков. Она ушла, и нет слов, чтобы описать все оттенки горестных мук от неизбежного и непоправимого несчастья, что испытал Василий в тот миг, когда понял, что любимой больше нет рядом.
Василий держался как должно. Он мужественно перенёс похороны и поминки, но есть предел человеческой стойкости. Тот случай произошёл на глазах Николая и навсегда оставил в душе пример проявления настоящих чувств. Произошло это после сороковин, в день, когда Николай приехал к деду с родными, чтобы помочь разобраться в вещах бабушки…
Порядки в семье Василий установил весьма строгие. Не домострой, конечно, но, безусловно, глава семьи имел право решающего голоса и все должны были подчиняться ему. При этом личное имущество каждого домочадца считалось неприкосновенным. Никогда, ни при каких обстоятельствах никто из домашних не имел права вторгаться в личное пространство другого. Так в какой-то мере сложилось и в семье Николая. И когда он жил с родителями, и когда создал собственную семью. Коля не помнил, чтобы в детстве или юности родители позволяли себе копаться в его вещах. Лишь иногда отец или мама, дабы проверить порядок в ящиках стола или на полках шкафа, исключительно в воспитательных целях не то чтобы проводили инспекцию в его присутствии, а напоминали о необходимости содержать вещи в порядке. Когда мама забирала одежду Николая в стирку, то настоятельно просила проверить карманы на предмет нахождения там разного рода личных вещей и вытащить их. На обычные стенания Кольки: «Мам, ну посмотри сама», – та подходила к нему и требовала: «Нет уж, давай-ка сам!»
Конечно же, Василий Алексеевич не допускал и малой возможности для себя не то чтобы рыться в вещах жены или детей, но даже брать в руки без ведома. Он лишь приблизительно представлял состав того, что хранилось у Варвары.
В тот день Василий сидел посреди комнаты жены на стуле и наблюдал, как его дочь, сын и внуки, открыв шкаф, трюмо или прикроватную тумбочку Вареньки, достают оттуда её личные вещи, дабы определить их дальнейшую судьбу с его, Василия, согласия. Грустная, но неизбежная церемония. Трудно вообразить, что чувствовал он, глядя, например, на шкатулку, которую купил для Вареньки много лет назад, в первую поездку на отдых в Ригу. А маленькие золотые часики – подарок на двадцатилетие свадьбы? А милые безделушки, что преподносил он на дни рождения? Тонюсенькая серебряная цепочка – первый подарок любимой… Словно жизнь повернула вспять: на десять лет назад, на двадцать, на тридцать, и снова вернулась в маленькой брошке – последнем подарке на последний юбилей – пятьдесят пять лет! Но больше всего Василия потрясло совсем другое…
Всю жизнь Варвара Георгиевна увлекалась рукоделием. В юности увлечение так сильно захватило её, что Варя решила посвятить себя этому занятию. Быть может, если бы не война, а после непрекращающиеся семейные заботы и хлопоты по устройству хоть какого-нибудь уюта в бараках, где они прожили долгое время, она достигла бы значительного успеха и признания. Впрочем, успеха она всё же достигла. Обшивая не только собственную семью, но и делая вещи для множества знакомых и друзей, она заслужила безусловное уважение за свой талант.
В начале шестидесятых произошёл такой случай. Её подруга, соседка по дому, находясь на каком-то официальном торжестве, вызвала фурор среди присутствующих своим умопомрачительным вечерним платьем, что сшила ей Варвара. На празднике присутствовала одна дама – директор известного салона модной одежды на Кузнецком мосту. Дама добилась встречи с Варварой и несколько лет подряд упрашивала поступить к ним, но Василий Алексеевич выступил категорически против. Он убедил жену, что такая работа ей не подходит. В результате Варвара, окончив бухгалтерские курсы, устроилась в министерство, что курировало Завод.
Сколько Николай себя помнил, бабушка постоянно что-то для кого-то шила. В её комнате на столе всегда лежали выкройки и разной степени готовности вещи. Разбирая её имущество, Николай обнаружил огромное количество выкроек, сделанных на кальке или из бумаги и картона, а ещё он нашёл несколько альбомов разных времён – от совсем старых, с пожелтевшими листами, до достаточно свежих. В альбомах бабушка рисовала одежду всевозможных фасонов и назначений: от простеньких сарафанов до бальных и свадебных платьев.
Альбомы с бальными платьями больше заинтересовали Свету, по вполне понятной причине. Она и прежде, с раннего детства, навещая бабушку, любила рассматривать её наброски, просиживая за ними часами. В тот день, уверенно взяв у Николая стопку рисунков, она уж не выпускала их из рук. В общем-то, никто и не возражал тому, что они теперь принадлежат Свете. Альбомы не просто лежат до сих пор у неё где-нибудь в шкафу. С десяток платьев, сшитых в ателье по рисункам бабушки, Светка носит и сейчас. Мода только с виду меняется с каждым годом, на самом деле – лишь двигается по кругу.
Кольке запомнился ещё один случай, произошедший в год, когда он вступился за честь Таси. Тем летом бабушка восстанавливалась после последнего инсульта. Она почти преодолела последствия болезни, но, конечно же, двигалась ещё не очень ловко.
В один из летних дней ребята из двора Тима во главе со своим атаманом решили пойти в парк, на озеро: позагорать, покупаться и отдохнуть. Беда в том, что Колька забыл привезти из дома плавки. Бабушка легко исправила безалаберность внука. Она сняла с него мерку и за какие-нибудь тридцать минут сшила из подходящего материала необходимый аксессуар. Как же удивился Николай, когда на пляже оказалось, что ровно в таких же плавках щеголял Тим и ещё двое ребят из их дома…
Уж извините за столь многословное отступление, но без него трудно понять произошедшее. Материал для работ Варвара хранила в шкафу. Там, в отделении для верхней одежды, внизу лежало много тканей различного назначения, аккуратно свёрнутых и сложенных в приличную стопку. Вынимая рулоны материи, мама Николая обнаружила за ними, у самой стенки шкафа, спрятанные Варварой от мужа несколько бутылок. Бутылки с водкой и спиртом, разной степени заполненности, явно находились в шкафу достаточно давно.
Когда Василий увидел батарею бутылок с полувыдохшимся спиртным, то не смог более сдерживать себя и горько заплакал…
Через год, следующим летом, Коля сопровождал деда в поездке в Челябинск к родственникам. В Челябинске, в родном доме семьи Варвары, жила одинокая её младшая сестра Елизавета. Лиза, инвалид детства, страдала умственной неполноценностью. Её нельзя назвать сумасшедшей. Скорее, она производила впечатление слишком наивного, немного странного и не очень образованного человека. Несмотря на недостатки, она умудрилась заработать себе пенсию, не очень большую, но достаточную для ведения одинокой жизни и хозяйства.
Дом некогда располагался в самом центре Челябинска, а в пятидесятых годах, при массовой застройке центра города, его перевезли на окраину. Деревянный классический пятистенок, построенный дедом Варвары чуть ли не сто лет тому назад, несмотря на перипетии, связанные с его переносом на новое место, находился в достаточно хорошем состоянии. Дом принадлежал Варваре, а с её кончиной перешёл в собственность Василия. Основной целью поездки Николая и деда значился ремонт протекающих крыш дома и сарая. Конечно же, Василий Алексеевич не мог отремонтировать крышу. Все работы легли на плечи Николая. Несмотря на отсутствие опыта в кровельном деле, Колька справился почти на отлично.
Помимо неотложных хозяйственных дел, Василий Алексеевич провёл в Челябинске несколько личных встреч с родственниками жены. Череда довольно скучных походов в гости не оставила у Николая каких-то ярких воспоминаний.
– Я смотрю, заскучал ты совсем, – с ухмылкой сказал дед после очередного посещения дальних родственников Николая. И когда Колька забормотал стыдливо что-то невразумительное, дед продолжил: – Да мне и самому не хотелось идти к этим… Не люблю я их. Противные они и занудливые. Но не волнуйся, завтра поедем к моим старым друзьям. Уверяю, скучать не придётся!
Николай скептически пожал плечами. Он не ожидал ничего хорошего от нового похода в гости: «Опять заунывные разговоры. Скукота. И потом в кино, наверное, тащиться придётся со стариками – на какой-нибудь индийский фильм. Уф! Огород остаться копать, что ль?» Ох, как же он ошибался!
Пётр Елизарович с супругой Вероникой представляли собой примечательную и приятную пару. Уже немолодые, они производили впечатление таких жизнерадостных и приветливых людей, что удивлению Кольки, привыкшего к московской чопорности и снобизму, не было предела. Общение с ними далось Кольке легко и весело.