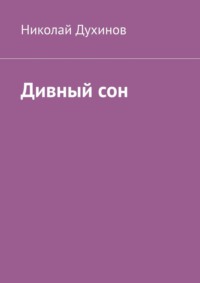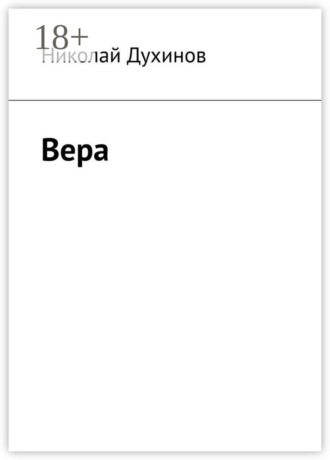
Вера
– Здравствуйте, Дмитриев. Это хорошо, что вы пришли, выполнив обещание. Честно говоря, мне казалось, что мужества у вас не хватит. Мы внимательно слушаем вас. Вам есть что сказать в своё оправдание?
– Простите меня, Светлана Игоревна. Я не прав и виноват. Я больше не буду так…
– Что же, – молвила директор, после небольшой паузы взявшая себя наконец в руки, и с упором на официальность обращения продолжила: – Ваше счастье, Дмитриев, – нашёлся защитник, который убедил нас в вашем искреннем раскаянии и поручился за вас. Вам следовало не доводить до такого и сразу обратиться к педагогам: к классному руководителю, ко мне или к Анне Петровне. Вы понимаете это?
– Да, Светлана Игоревна, понимаю.
– Хорошо. Что касается успеваемости: всё будет зависеть от того, как вы напишете итоговые годовые контрольные работы. В том случае, если вы напишете контрольные успешно, думаю, мы войдём в ваше положение и исправим, авансом, прошлые неудовлетворительные оценки. Но в любом случае очень рекомендую заниматься дополнительно. Никакого снисхождения не будет, напротив – будет самое пристальное внимание, так что если начнёте лениться, то пеняйте на себя. Вам всё понятно?
– Да.
– Отлично. А теперь идите домой и готовьтесь. Первая контрольная на следующей неделе, в среду. У вас не так уж много времени осталось на подготовку, Дмитриев.
С контрольными, напряжением всех сил, Тимофею удалось справиться довольно успешно. Позже ему пришлось выслушать серию внушений от недовольных педагогов, мямля извинения и уверения, что более подобного не случится. Покаяния перед всем классом больно били по самолюбию, но он же обещал Василию Алексеевичу и не мог его подвести. Итоговые оценки за шестой класс учителя скорректировали, и Тима перевели в седьмой.
Всё лето Тим провёл дома в непрерывных занятиях по дополнительным заданиям, которые на него навалили учителя. Взрослые люди не любят менять собственное мнение, и, увы, предвзятость недовольных учителей так и осталась, превратившись в дальнейшем в пристальное внимание к его персоне на уроках. Тима спрашивали каждый раз, на каждом классном занятии. Даже когда отвечал кто-нибудь другой, за ответом одноклассника следовало неизбежное:
– Дмитриев, что вы можете дополнить?
Или:
– Дмитриев, скажите, где Смирнова ошиблась? Выходите к доске и исправьте решение задачи.
Или, когда всё решено правильно:
– Дмитриев, какие другие решения есть для этой задачи?
Как он ни старался – оценка за ответ неизбежно понижалась. Даже когда придраться не к чему, то всё равно – четыре, ну а когда он ошибался хоть в чём-то, то – три. Он стойко сносил несправедливое отношение некоторых учителей, держа в памяти: «Надо вести себя достойно и спокойно. Я обещал Ему. Я не должен Его подвести. Я дал Слово!»
С остальными дисциплинами, особенно с новыми: физика, химия, география – ситуация складывалась зеркально. Их преподавали учителя, знавшие о приключившейся истории, но они относились к Тимофею так, как он того заслуживал. Даже более того: ему прощались мелкие огрехи и оценки не только не занижались, наоборот – завышались. Вот и получалась забавная мешанина в дневнике: химия – пять; физика – пять; география – пять; биология – пять; алгебра – три; геометрия – три с минусом; русский – три; литература – три; история – пять с плюсом. Переход Тимофея в девятый класс сопровождался открытой дискуссией педагогов школы. Коллектив учителей разделился. Одни из них выступали безусловно за, восхваляя таланты Тима, а другие – категорически против. В итоге первые пересилили, и Тим остался в школе до конца обучения, до десятого класса.
Весь седьмой класс Тиму пришлось доказывать свою состоятельность. Постоянные занятия привели к тому, что у него, как и в самом начале, когда Варвара начала помогать, на подготовку домашних заданий уходило всё меньше и меньше времени. Тим успевал за какой-нибудь час с небольшим выполнить все уроки, заданные на дом, и в контроле со стороны он уже не нуждался.
Довольно спорный способ изучения устного материала, подаренный соседями, Тим вывел на новый уровень. Ему хватало одного раза пробежать глазами текст, после чего он пересказывал прочитанный материал свободно, складно, без слов-паразитов, лёгким правильным языком, неизбежно развивая ответ собственными трактовками и выводами. Успехи устных ответов на уроках льстили самолюбию подростка, и он уделял оттачиванию мастерства декламации всё больше и больше времени. В повседневности это мастерство проявлялось в феерической способности вести дискуссию или спор непринуждённо, весело и убедительно. Почти никто не мог составить Тимофею конкуренцию. Николай – единственный из товарищей, кто спокойно бросал Тиму вызов в словесной дуэли. Но Колька – друг, а не соперник. С детства их споры представляли собой лишь упражнения, своеобразные битвы на словах со своим отражением, с альтер эго.
Пускай некоторых учителей Тиму не удалось переубедить. Но самое главное то, что он не обманул доверия, которое оказал ему Василий Алексеевич, вступившись за него. И тот решил поощрить Тима. Может, поощрить, а может, просто занять появившееся у подростка свободное время нужным и интересным делом.
Жил в доме один сосед, Геннадич – так его все звали. Вполне обычный, тихий и безобидный мужичок. Но беда Геннадича, как и многих его ровесников, состояла в пагубной привычке, захватившей всё сознание некогда умного и грамотного специалиста. Геннадич спивался, и, несмотря на усилия жены, спивался окончательно и бесповоротно.
Когда-то, в молодые годы, Геннадич увлекался мототехникой. Венец увлечения – подержанный мотороллер «Тула-200М» – Геннадич приобрёл, вернувшись из армии. На старой квартире он держал мотороллер в гараже соседа, почти весь досуг отдавая любимому увлечению. Но переехав на новую квартиру, он потерял удобное место для хранения мотороллера, и старый его двухколёсный друг прозябал на балконе, разобранный до мельчайших деталей: рама – отдельно, двигатель и коробка передач, развинченные на составные части, – в двух деревянных ящиках, ну и прочие части – какие где. Забитый хламом балкон со временем превратился в одну из причин вечных скандалов Геннадича со второй половиной. Он стойко сражался за свои права, но жена, наседая на него с непреклонной уверенностью в правоте, в какой-то момент наконец добилась обещания избавиться от этого мусора. Геннадич попытался продать мотороллер, но у него ничего не вышло. Кому нужна эта «Тула» – разобранная, ржавая, без документов, давно пропавших без следа? Вот Геннадич однажды и подарил Тиму свой мотороллер. Вернее, так всегда думал Тимофей. На самом же деле «Тулу» выкупил у Геннадича Василий Алексеевич за трёхлитровую банку спирта.
Сокровище! Четырнадцатилетний парень, ставший счастливым обладателем железного монстра, именно так отнёсся к мотороллеру – как к Сокровищу. Это не какой-нибудь мопед. Это серьёзная техника: заводится от электростартёра, четыре передачи, девять лошадей, двести кубиков, почти два метра длиной и весом в сто пятьдесят килограммов. На таком легко можно втроём с удобством ехать восемьдесят километров в час! А то, что он разобран на составные части, – так это даже интересней! К тому же мотороллер, выпущенный в начале шестидесятых, в середине восьмидесятых довольно редко встречался на дорогах. Вне всяких сомнений, Тула-200М» уже тогда, в эпоху «Явы» и «Чезета», почти превратилась в раритет.
Перетащив составные части мотороллера в квартиру, Тим отчётливо понял, что мама явно не одобрит приобретение. Раму – самую громоздкую деталь – с трудом удалось разместить на балконе, где она заняла почти всё свободное пространство. Ящики с частями двигателя и коробки передач, по степени важности, Тим расположил в своей комнате, расставив по углам, ну а остальное рассовал, где пришлось. Всё выглядело весьма пристойно, если не считать балкона, потерявшего все балконные функции. Мама поначалу отнеслась к увлечению сына довольно ровно, но в дальнейшем, когда Тим с друзьями занялся вплотную подготовительными работами по сборке мотороллера, потеряла лояльность к происходящему.
Подготовительные работы заключались в сортировке деталей в зависимости от назначения и чистке от старого масла, ржавчины и грязи в керосине. Мальчики старались сохранить квартиру в чистоте, но, увы, так и не достигли требуемого Юлей качества. Всё-таки квартира мало предназначена для подобных занятий – это не гараж и тем более не ремонтный бокс. За советом, что делать в сложившейся ситуации, Тим, Колька и присоединившейся к ним новый товарищ Лёха обратились к деду Николая, который помог в решении возникшей проблемы самым неожиданным для ребят образом.
– Да, ребятки, – говорил с усмешкой Василий, – тут вы правы: Квартира для такого дела мало предназначена. И Юля уже Варваре Георгиевне жаловалась…
– А как же быть, Василий Алексеевич? – спросил Лёха.
– Есть у меня хорошая идея, надеюсь, вам понравится. Был когда-то у нас на заводе мотоклуб. Он и сейчас есть, но давно уже хиреет. Даже, я бы сказал, захирел совсем. Раньше наши заводские ребята на соревнованиях выступали, первые места, между прочим, брали. Только сейчас мало кто интересуется этим у нас из молодых, а старики по возрасту не в состоянии, да многие уж на пенсию вышли. Жалко, конечно. Вот моё предложение: устрою я вам уголок в помещении мотоклуба, где можно спокойно заниматься мотороллером, да и помочь на заводе есть кому. А там, глядишь, может и возродите наш мотоклуб, если в охоту вам такое дело…
В назначенное время, ранним утром, трое друзей и с ними несколько товарищей из обоих дворов – всего с десяток ребятишек – приехали на завод. Первое посещение представляло собой экскурсию по предприятию. В конце экскурсии ребят отвели в мотоклуб.
Мотоклуб – некогда гордость завода, а ныне находящийся в печальном запустении – занимал отдельную небольшую территорию, не входящую в охранную зону военного производства и имевшую проход на предприятие через специальный пост охраны. Состоял он из небольшой площадки за собственным забором, двухэтажного неказистого старенького здания послевоенной постройки, бывшего некогда корпусом заводоуправления, такого же старого ангара – самого первого заводского цеха, двух ремонтных боксов для техники и пары сараев для складирования всякой нужной рухляди. Несмотря на запустение, хозяйство, которое предполагалось отдать в пользование молодому пополнению клуба, вызвало у самого пополнения небывалый энтузиазм.
В те времена, на пороге крушения советской системы руководство страны, спохватившись и узрев накатывающийся вал проблем, пыталось как-то усилить воспитательную работу среди молодёжи, особо не желающей становиться теми самыми строителями коммунизма, что так хотели создать из них престарелые лидеры государства. По этой причине, худо-бедно, государством выделялись средства на создание всякого рода спортивных секций, клубов по интересам и проектов ДОСААФ. В данном случае мотоклуб существовал. Потребовалось совсем немного усилий и желания со стороны руководства завода и, главное, наличие людей, готовых посвятить свободное время любимому увлечению молодости и передать его, словно по завещанию, пытливым мальчишкам с горящими от восторга глазами.
Для подростков мототехника – всегда вожделенная мечта. В советское время для ребят, живших в деревнях и небольших населённых пунктах, мопед, позже мотоцикл, представлял собой обычное средство передвижения и увлечение, а для городских парней – почти несбыточную мечту. Некоторым городским ребятам родители покупали мопеды и мотоциклы, но в условиях крупного советского города мототехнику негде держать: либо мопед хранился на даче или в деревне у родственников, либо в гараже, если таковой имелся в семье. В ином случае для хранения оставался только балкон, лоджия или, в самом экстравагантном варианте, лестничная площадка подъезда дома. Хранить мототехнику на улице – это всё равно что выкинуть её на помойку. Рано или поздно обязательно найдётся завистливый прохожий, который изгадит или испортит любимого двухколёсного друга.
В августе восемьдесят третьего года мотоклуб, получив свежее пополнение в лице ребят из дворов Тима и Лёхи, а также присоединившихся к ним сверстников из числа детей работников завода, начал триумфальное возрождение. Старт этому дал Василий Алексеевич, добившийся поддержки руководства предприятия, министерства и ДОСААФ.
Увы, жизнь не стоит на месте. Люди появляются на свет, взрослеют, живут и стареют. Василий Алексеевич, уже немолодой мужчина, всего через год после того как благодаря его усилиям заводской мотоклуб очнулся от многолетней спячки, окончательно вышел на пенсию. Он уволился, отдав родному предприятию почти всю жизнь, в возрасте шестидесяти пяти лет.
Василий Алексеевич вышел на пенсию через месяц после первого соревнования, в котором участвовали ребята из мотоклуба. В юниорской секции городского первенства по мотокроссу с большим отрывом от соперников, во всех без исключения заездах неожиданно для всех победил молодой пятнадцатилетний гонщик Тимофей Дмитриев. Третье место в упорной борьбе с соперниками завоевал Алексей Бродкин. Два призовых места в соревновании взяли молодые гонщики завода, и к ним ещё два места в десятке лучших отбили их товарищи по мотоклубу. Настоящий триумф! Василий Алексеевич ушёл с лёгким сердцем, понимая, что его последнему детищу – мотоклубу – ничего не угрожает.
Увлечение детства и юности: мотоспорт и восстановление старенького мотороллера – превращение кучи бесполезного ржавого хлама в сверкающий, словно только сошедший с конвейера, идеально воссозданный в исторической идентичности и полностью работоспособный раритет – закономерно выросло для Тимофея и Алексея в дело всей жизни. Свой успех они однозначно связывали с одним человеком. Василий Алексеевич со временем превратился в их сознании в кумира и объект поклонения, в символ и эталон настоящего мужчины, настоящего человека. Он превратился в Легенду…
В тот день, в середине октября две тысячи пятого года, как и все прошлые восемь лет со дня кончины Василия Алексеевича, трое друзей вечером собрались в квартире Тима, чтобы почтить память и вспомнить человека, подарившего им судьбу.
Да простит взыскательный читатель некоторый пафос, с которым автор позволил себе писать так о вполне обычном человеке, каких в нашей стране миллионы. Василий Алексеевич прожил долгую жизнь, полную радостей и горестей, как и многие его сверстники. Жизнь, в сущности, трагическую, как трагично время, в которое он жил. Впрочем, как трагичны и жизни всех без исключения людей, с которыми сводила его судьба. Но он жил, любя жизнь и любя людей вокруг. Быть может, дело в этом? По прошествии многих лет после кончины память о нём жива и поныне. Жива в сердцах людей, знавших его, в их рассказах, что с каждым годом с неумолимой необратимостью превращаются в светлый эпос уже не только о человеке, а о Герое, о Легенде.
Что же касается истории жизни Василия Алексеевича, то по понятным причинам основной её автор – Николай, любимый внук. Ведь большинство историй о собственном деде Коля знал не понаслышке и из первых уст: из воспоминаний родственников, друзей и рассказов самого Василия Алексеевича. Полностью историю жизни Василия привести не получится. По своему объёму эта повесть достойна отдельной книги, но самое важное вполне можно пересказать.
Глава 4. Легенда
Крестьянский сын, ровесник революции, Василий Алексеевич всю взрослую жизнь прожил в городах и большую её часть – в Москве. Получилось это благодаря его родному дяде – Фёдору Ивановичу.
Василий происходил из зажиточной крестьянской семьи. Хотя стоит отметить, что и соседи вовсе не бедствовали. Пожалуй, для всей деревни характеристика «зажиточная» вполне подходит, как и для остальных рязанских деревень бывшей Предтеченской волости. Мать, как и он, родилась в той же деревне, а вот отец – пришлый.
Отец Василия Алексеевича совсем юным сбежал из столицы, прячась от преследования полиции. Дело, по которому к нему проявила интерес полиция, было с нехорошим криминальным душком, и о его сути семейная история стыдливо умалчивает. Молодой Лёша, скрываясь в рязанской деревушке, изменил фамилию на довольно смешную и неблагозвучную – Шкуркин. Осев в деревне, он завёл семью, женившись на местной девушке Ольге, которая подарила ему в самые тяжёлые для страны годы восьмерых детей. До взрослого возраста дожили лишь трое сыновей и две дочери. Вася – средний сын.
Семья Ольги на фоне далеко не бедных соседей выделялась достатком. Семья вела не только сельскохозяйственную деятельность, но и владела мануфактурой – совсем маленьким заводиком, производящим иголки и булавки. До революции они держали значительные средства золотом в государственном банке. Вспоминая, бабушка сетовала каждый раз: «Зачем нужна эта революция, раз мы и так хорошо жили?» Ольга Ивановна прожила очень долгий век. Всю жизнь она горбатилась в местном колхозе за трудодни. Родное государство рабочих и крестьян щедро наградило её, обеспечив сытую старость на пенсии, выплачивая аж девятнадцать рублей в месяц.
Василий не думал уезжать из родной деревни. Он чувствовал себя очень комфортно в родном гнезде, но решение за него принял дядя. Как-то раз, Василию тогда уже исполнилось четырнадцать, дядя поймал его за какой-то шалостью и, сурово отчитав, приказал явиться в контору на следующий день рано утром. Василий даже и не догадывался о том, что его ждёт.
Утром следующего дня Фёдор Иванович, выписав нужные бумаги, выдал Васе немного денег, вручил билет на поезд до Москвы и бумажку с адресом сестры отца, напутствовав строго и неоспоримо: «Чтобы я больше тебя в деревне не видел!» Родной дядька выставил Василия из деревни, как раньше он то же проделал со всеми своими ещё неженатыми и незамужними детьми, а после и с младшими, да почти со всеми молодыми ребятами – детьми родственников и свояков. Он выписывал им документы, давал деньги и отправлял по адресам близких и дальних родственников, обосновавшихся в Москве. «Нечего вам тут делать!» – так говорил молодой родне недавно выбранный, а точнее назначенный, председатель колхоза.
Жизнь в семье московской тётки складывалась не сладко. Вася находился в доме родичей на положении прислуги. Он мыл полы, стирал, убирался, ходил за покупками и стоял в очередях. Бестолковая жизнь бедного родственника продолжалась вплоть до призыва в Красную армию в тридцать девятом году. Василий попал в артиллерийскую часть, которая базировалась в Средней Азии, на границе с Монголией. Служба началась с курьёза.
В то время в армии уделяли большое внимание политическому воспитанию молодых бойцов как верных борцов за справедливое и неизбежное торжество коммунистических идей во всём мире. Политинформации, с организованным чтением газет для всего личного состава, проводились регулярно и занимали много времени. На очередной политинформации, во время чтения передовицы одной из армейских газет докладчик озвучил новость, превратившую довольно скучное мероприятие в весёлое, наполненное шутками и подначками собрание. Старшего брата Василия, Владимира, призванного в армию двумя годами ранее, участника финской кампании, наградили орденом Красной Звезды. Так и написали в заметке: «…красноармеец Шкуркин В. А. за мужество и героизм в борьбе с белофиннами награждён Орденом…»
Политрук части, не скрывая весёлого настроения, вызванного этой новостью, повторял на все лады ещё очень долгое время, лишь завидя Василия: «Ну ты, Вася, дал! Два месяца как в армии, а уже орденоносец!», «Где наш герой-орденоносец?» и так далее.
Васе нравилась служба. Он много рассказывал о первых месяцах в армии Кольке и его друзьям.
– Дедовщина? Конечно, была, как же без неё? – ухмылялся Василий Алексеевич, рассказывая о начале военной карьеры. – Отдали меня, подшефного, старослужащему. Так принято было у нас. Он за мной ухаживал, будто за малой деточкой: подворотнички мне пришивал, сапоги чистил, следил, чтобы я опрятно выглядел, устав воинской службы вслух вечерами читал, словно сказку на ночь. А как же вы думали? Ведь если что не так со мной – ему сразу взыскание от командира: наряд вне очереди, а то и сразу два. Ну а если в порядке со мной всё, то в увольнительную нас обоих на сутки, а увольнительная – настоящий праздник. Эх, а какие девчонки приветливые жили в городке, где мы стояли! Просто загляденье, а не девочки – каждая словно спелая вишенка. Конечно же, я на службе старался! Совершенно невозможно старшего товарища подвести!
Для Кольки, наслушавшегося от демобилизовавшихся товарищей всяких рассказов нехороших про неуставные порядки, царящие в советской армии с шестидесятых годов, истории деда о его службе в качестве молодого казались удивительными байками, так непохожими на сформировавшиеся у него представления об армии.
Приятная для Васи служба закончилась 22 июня 1941 года. Его часть не бросили сразу во фронтовое пекло. Война началась и шла, а они всё стояли и стояли почти на том же месте дислокации. Полностью укомплектованная личным составом и самым новейшим по тому времени вооружением, вышколенная и обученная ведению боевых действий в постоянных учениях и тренировках, с офицерами и сержантами, имевшими боевой опыт, дивизия стояла в глубоком тылу. Дивизия стояла, и он вместе с ней.
Он – командир первого орудия второй батареи стадвадцатидвухмиллиметровых дивизионных гаубиц – лучшего орудийного расчёта в батарее, лучшей батареи не только родной дивизии, а всего округа. В то время, когда под Москвой гибли в полном составе почти безоружные и необученные отряды московского ополчения. В то время, когда одуревшие от страха высшие военачальники кидали в мясорубку битвы под Москвой три с половиной тысячи молоденьких будущих офицеров, подольских курсантов, которые погибли почти все в октябрьских боях под Малоярославцем. В то время, когда у разъезда Дубосеково четвёртая рота второго батальона 1075-го стрелкового полка в составе ста сорока человек приняла бой и, потеряв более сотни бойцов, дала основу для будущего мифа о двадцати восьми панфиловцах, как и другие их боевые товарищи в боях середины ноября сорок первого под Волоколамском, да и в других местах, ныне вовсе забытых. В это время полностью боеспособная часть Василия находилась, что называется, в резерве.
Год, другой шли тяжёлые бои на фронте, полные трагизма неудач и горечи тяжёлых побед. Потеряв в первые месяцы войны всю прославляемую ранее военную мощь: почти все танки, самолёты и артиллерию, но самое главное – миллионы солдат и офицеров, расплачиваясь страшными потерями на фронтах и с невозможным напряжением сил строя в глубоком тылу новые военные заводы руками матерей, жён и детей бьющихся за гранью человеческих возможностей фронтовиков, советское высшее командование держало за Уралом последний, как они считали, резерв. Для чего и почему? Сложно ответить. Пусть про это пишут историки, пусть расскажут, по какой такой важной причине лучший в округе орудийный расчёт вместе со своей частью простоял почти два года в глубоком тылу…
На фронт Василий попал только весной сорок третьего года. Он никогда не рассказывал о войне. Не осталось у него и боевых товарищей-однополчан. Большинство из тех, с кем он воевал плечом к плечу, погибли на фронте или умерли от ран вскоре после Победы. Конечно же, он пытался разыскать фронтовых друзей. Но по адресам товарищей, что помнил с их слов, он никого не находил. Василий несколько раз посещал встречи фронтовиков в День Победы, но увы! Однажды молодой фронтовик махнул рукой и прекратил поиски. Он прекратил, а его повзрослевшая дочка – нет. Снова и снова, каждый год в День Победы она ранним утром приезжала на место встречи фронтовиков с самодельным плакатом и стояла до самого вечера. Сначала она приходила в сквер у Большого театра, а после – ко входу в парк имени Горького. Несколько лет подряд, и всё безрезультатно. Но однажды всё же повезло: она встретила человека, воевавшего в дивизии отца. Правда, сослуживец поступил в часть значительно позже, после того как Василия Алексеевича тяжело ранило. Они встречались из года в год на День Победы, пока тот старенький дедушка был ещё жив. От него-то Василий и узнал о печальной судьбе многих товарищей.
Война для Василия Алексеевича продолжалась до конца сорок третьего. Два боевых ордена он носил на груди. Напрасно ёрничал в тридцать девятом политрук части. Именно орден Красной Звезды вручили Василию первой наградой, всего через месяц с небольшим после того как он попал на фронт. Николаю удалось уговорить деда рассказать о первой награде. Рассказ Василия Алексеевича, скупой на детали, вовсе не касался сути произошедшего. Он лишь обмолвился, после длительных уговоров Кольки, что намечалось наступление и перед ним всё командование батареи собрали на совещание на местности. Он же опоздал по причине медвежьей болезни:
– Спешил я очень. Знал, что если опоздаю – по шапке надают, но скрючило живот так, что чуть ли не под каждым кустом присаживаться пришлось. Они в лощине собрались. Я бежал со всех ног, взобрался на пригорок, их уж видел, и тут свист мины. Я вниз упал, голову руками накрыл. Взрыв – прямое попадание. Всех положило на месте. Наступление назначено, несколько часов оставалось до начала. Пришлось мне – старшему – принять командование над батареей.