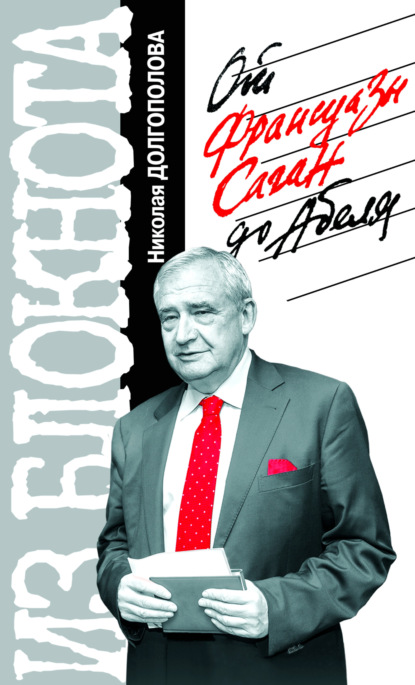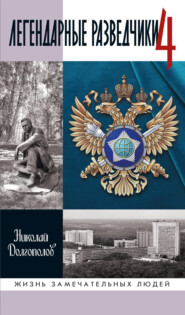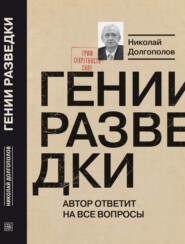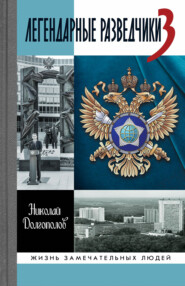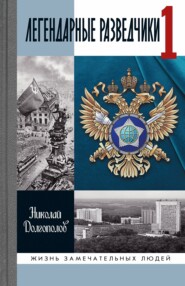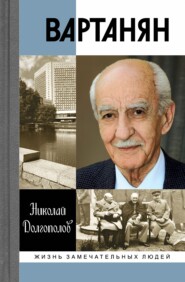По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Из блокнота Николая Долгополова. От Франсуазы Саган до Абеля
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Бесполезная работа по зашкаливавшему восхвалению страны. Сплошные дети и детки людей с громкими фамилиями. Иногда АПН жаловала своим появлением даже дочь генсека Галина Брежнева, за которой всегда следовала толпа прихлебателей.
Тоска – неимоверная. Профессиональное ничегонеделание. Длиннющие перекуры в коридорах с обсуждением, кто куда может поехать и какой пост займет, вернувшись оттуда.
И когда мне предложили попробовать написать статью в настоящую газету под названием «Комсомольская правда», я ухватился за предложение как утопающий за соломинку.
Статья моя была по-апээновски бездарна. Но и сейчас мне читать ее не стыдно. Написал, как умел, как учили, как требовалось. Ни единого живого слова. Но эта заметка стала первой. Она – как пробитая брешь в плотной, враждебной обороне, как шанс на побег из кромешной журналистской жути. Милая моя ласточка, вырвавшаяся на широкий читательский простор.
С гордостью привожу ее заштампованную и неуклюжую, опубликованную в «Комсомольской правде» 25 ноября 1973 года без единой поправки. Надо же было с чего-то начинать, и я начал:
«Это и есть дружба
Индийско-советское общество культурных связей недавно отметило свое двадцатилетие. У него около 1000 отделений по всей Индии. В течение многих лет его работой руководит известный государственный и общественный деятель К. П. Ш. Менон, гостивший на днях в Москве.
Несмотря на занятость, г-н Менон любезно согласился встретиться с корреспондентом “Комсомольской правды”.
– До 1962 года я девять лет был послом Республики Индии в СССР, – говорит г-н Менон, – и, может быть, поэтому каждое мое возвращение в Москву для меня как бы возвращение домой. Не считал, сколько раз был в СССР после 1962 года, наверное, раз десять, а то и больше. Был свидетелем многих важнейших событий в вашей стране. Я имел честь участвовать в празднествах, посвященных 50-летию Великого Октября, 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, совсем недавно был на Всемирном конгрессе миролюбивых сил.
Мне, сами понимаете, трудно говорить от имени индийской молодежи, ибо я уже давно немолод, но лично я восхищаюсь усилиями советских юношей и девушек в их борьбе за мир и свободу. У меня много друзей среди советских комсомольцев, особенно в 26-й московской школе, где я бывал несколько раз в музее Р. Тагора.
– Вы даже представить себе не можете, – говорит г-н Менон, – с каким нетерпением ожидают у нас в Индии визита Л. И. Брежнева, руководителя великой державы, всегда приходившей на помощь индийскому народу. Визит Л. И. Брежнева будет способствовать дальнейшему укреплению индийско-советской дружбы.
В заключение наш гость просит передать привет и наилучшие пожелания советской молодежи, читателям “Комсомольской правды”».
Корни
Специальный корреспондент
Я не знаю ни единого журналиста, который гордился бы этим званием так, как мой отец.
Михаил Николаевич Долгополов – Мих. Долгополов – работал в «Комсомолке» с 1927-го по 1938-й, а потом до самого ухода в 1977-м в «Известиях». Страшно подумать, но когда в 1935-м «КП» выпустила полосу, посвященную первому своему десятилетию, папа уже официально значился среди ветеранов-основателей. Может, нормальная журналистика и не дала дуба благодаря именно тому, что вопреки всему держится на традициях, которые закладывались еще в 1930-х?
Это с того времени нахальное: «Мы, из “Комсомольской правды”, – первые, мы – лучшие, мы – самые-самые». Тогда «Комсомолка» была притягательным центром: Маяковский, Уткин, Алтаузен, Светлов, Безыменский, Жаров работали здесь в штате и вне его. И все вкалывали будто проклятые, чтобы сказать Слово, которое всегда доходило до умов и сердец. Была в этих ребятах дикая вера. Они еще не ведали, что ошибались, и потому гордо вели за собою. И теперь – им никто не судья.
Невероятный вихрь, который мог подняться лишь в ту революционную смуту, закрутил и отца, подбросил немыслимым изломом судьбы к армейским вершинам. У нас дома мыкались по сундукам буденовка со звездой и солдатский ремень: красноармеец 1-го стрелкового полка Долгополов за три года сделал, как сегодня бы сказали, фантастическую карьеру. Пошел в армию – Красную – добровольцем. Я, признаться, могу оценить порыв сына лишенца. Но понять, зачем так решительно перевернул судьбу, – нет, пусть уж останется при нем, совсем это не из нашей семейной оперы.
Даже не стану упоминать имя полководца Гражданской войны, под начало которого попал молодой боец. Для меня этот вскоре убитый чуть не своими же герой – олицетворение безудержной смуты, прокатившейся по России. Но служил же отец, служил.
К концу 1923-го он был уже начотдела по учету бронемашин и танков Управления бронесил РККА. Носил сколько-то «шпал» и занимал должность, соответствующую генеральской. Есть фотография, на которой отец стоит на Красной площади при всей форме неподалеку от возвышающихся – чистая правда! – на машине (мавзолея, естественно, еще не построили) Калинина, Буденного и, извините, Троцкого.
Видимо, поэтому в знак военных красноармейских заслуг ему, сыну не тех, оказали невиданную милость: предложили вступить в партию и учиться в военной академии. Учиться хотелось, ведь позади были Московская гимназия и лишь три курса Плехановского, из которого выгнали за буржуйское происхождение. А вот в партию – нет, не тянуло.
Из всего нашего долгополовского клана, здорово выбитого матросом Кузьмой в начале 1920-х и затем негодяем Гитлером, этот негласный семейный запрет примыкания к партии нарушил один я. Был с детства идейным, верил, стремился. Конечная цель меня воодушевляла. Наградой явились беспрерывные даже в застойные времена передвижения по миру в качестве специального корреспондента «Комсомолки» и пять с лишним лет собкорства во Франции.
Отец же так и остался стопроцентно беспартийным. Даже став журналистом, к тому же – сотрудником отдела литературы, он не вступил в очерченный привилегиями и обязанностями круг. В затянувшуюся эпоху соцреализма это выглядело невероятной аномалией.
Когда в начале второй половины 1920-х посадили младшего брата, отца чуть не выгнали из «Комсомолки», но за него встал горой главный редактор Тарас Костров, и от журналиста – брата осужденного – отцепились. Костров ушел рано – убил его туберкулез.
А вот как выжил мой отец в 1938-м, когда корреспондентов газеты стали брать одного за другим? Вспоминал, что арестованных начальников всегда вывозили с шестого этажа на главном, издательском лифте. Если на издательском, то навсегда, на расстрел. Если на дальнем, комсомольско-правдинском, значит, могло и повезти: тюрьма или ссылка. Ерунда вроде бы, но всегда почему-то сбывалось. После спуска на комсомольско-правдинском лифте некоторые через несколько лет возвращались и даже снова принимались в редакцию, как, например, проживший долгую жизнь Евгений Рябчиков, открывший стране пограничника Карацупу и его верного пса Ингуса, совместно отловивших несколько сотен нарушителей границы. Или ходил к нам домой милейший человек, чей репрессированный отец, журналист «КП» Святозар Бабушкин, отработал на лесоповале, выжил, был освобожден, но погиб на корабле: при погрузке связка здоровенных бревен рухнула на маленькую группу возвращавшихся ссыльных.
Об арестованных в редакции не говорили ни хорошо, ни плохо. Воспринимали как неизбежность и даже смутно верили в подспудную вину товарищей. До чего же убийственное было время! Жалели только генерального секретаря комсомола Косарева. Считали: уж его-то, вроде бы любимца, а может, и наследника Сталина, пронесет. И когда 28 ноября 1938-го все-таки не пронесло, поняли: очередь за ними. Ведь арестовывал сам Берия.
Однажды утреннее появление в редакции отца вызвало шок: «Миша, ведь тебя должны были взять еще вчера. Приказали стол опечатать». Так и проработал несколько недель под испуганными взглядами в опустевшем кабинете – в мое время там был отдел новостей, – не решаясь сорвать пломбы. Народ в редакции ежился, общался неохотно.
Бесстрашно вел себя только ближайший друг, знаменитый репортер Миша Розенфельд: вечерами, как и прежде, они с отцом не пропускали ни единой премьеры. И даже подарил в те дни папе и его тогдашней жене свою книгу о полярниках «Ледяные ночи» с откровенным: «Миху и Надежде с пожеланием горячих ночей от того, кому остались только ночи ледяные». Все остальные ждали неминуемого. Потому что знали о товарищеских отношениях Мих. Долгополова с генеральным комсомольским секретарем товарищем Александром Косаревым.
Несколько раз Косарев просил организовать концерты для комсомольцев – делегатов съездов, конференций. Отец никогда не отказывал, созывал знаменитостей и сам выступал в роли конферансье в дуэте с Григорием Яроном или Владимиром Хенкиным – гремевшими в ту пору актерами. Был случай, вел с ним концерт и сам Косарев. Даже объявил отцу благодарность.
Все-таки, может, и благодаря Косареву, порой жутко ругавшему своих журналистов, однако твердо за каждого заподозренного стоявшего, чистки и аресты коснулись «Комсомолки» позже остальных, уже в 1938-м, когда волна безжалостных расстрелов чуть спала.
Возможно, отца спасла его профессиональная увлеченность. Не старался пробиться в начальники: я за всю свою полувековую журналистскую жизнь не встречал человека, который бы так гордился должностью специального корреспондента. Да и писал он не о политике, а всегда об искусстве.
И тут он знал всех: Станиславский, Немирович-Данченко, Горький, Качалов, Москвин, Мейерхольд… «Комсомолка» по части культуры «вставляла фитиль», как тогда говорили, остальным. А уж балет, оперетта, цирк были совсем родными и близкими. Может, решили не трогать чудака-журналиста, который был знаком со всеми поголовно и которого, в свою очередь, безоговорочно признавала вся театральная Москва?
Отзвуки этого признания успел захватить и я. Мы с отцом как по маслу проходили на премьеры всех театров, демонстративно не показывая пропуска в ложу дирекции. По билетам папа, наверное, ходил в последний раз где-то до революции. Седовласый, высокий – 192 сантиметра, всегда очень хорошо и аккуратно одетый, в начищенных мною до блеска остроносых ботинках, он небрежно кивал администратору на меня и маму: «Это со мной!» Люди знали: идет Мих! И, раздевшись всегда в директорском кабинете, мы, вернее отец, попадали в окружение главрежа, артистов, знаменитостей. Наперебой начинались разговоры, сплетни, рассказы… Только записывай. И папа открывал свою синенькую пухленькую записную книжечку и записывал, записывал неровным, неразборчивым почерком.
Лишь раз на моей памяти нас не пропустили вот так, сразу – в «Ромэн», обитавший в ту пору еще рядом с Пушкинской напротив Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Цыгане проявили излишнюю бдительность. Отец был искренне и без всякой рисовки поражен: «Разве вы меня не знаете?» В антракте к нам чуть не подбежал расстроенный художественный руководитель театра Михаил Сидоркин: «Вы уж простите, Михаил Николаевич, моего администратора. Только приступил». Отец ответил, как обычно, корректно, но даже не улыбнулся: «Ничего страшного. Но теперь – пусть знает».
Оборвав военную карьеру и демобилизовавшись из армии, папа пошел в кино. Снимался в массовках, сыграл несколько ролей и даже одну главную. Кино нужны были интеллигентные молодые люди. Он лихо гарцевал на лошадях, которых любил до конца жизни, галантно целовал, становясь на одно колено, руки киношным красоткам, курил сигары и пил шампанское из бокалов на высоких ножках. Образ абсолютно не соответствовал реальному облику: ненавидел табак и если пил, то лишь изредка – красное сухое.
Что касается красоток разных возрастов и профессий, то в кино все было правильно, они до конца его дней отвечали ему взаимностью, и это несказанно огорчало маму, гораздо папы моложе, из простой семьи, мужа, несмотря ни на что, боготворившую. Я путался в симпатичных женских лицах и на всю жизнь запомнившихся фамилиях. Знаменитая дама – дирижер, народные балерина и драматическая актриса-орденоносец, молодая красавица – кинорежиссер, какая-то неведомо как к нам залетевшая и почему-то несколько подзадержавшаяся артистка из Франции, в конце жизни – здоровеннейшая модельерша-гренадер – прямо в лейб-гвардию…
Немного о Маяковском и Булгакове
Бывший директор бывшего музея Маяковского рассказывал мне: «Однажды к нам пожаловали известнейший советский поэт и ваш папа. И вся разница между ними была в том, что поэт Владимира Владимировича читал, ваш отец – знал».
Чистая правда. Чуть не с первого дня работы в «Комсомолке» Миха Долгополова «прикрепили» к Владимиру Владимировичу. Это означало, что новичку доверяли общаться с постоянным автором и даже корреспондентом «Комсомольской правды» Маяковским.
Отец волновался. Только взяли в штат, и сразу – к Маяковскому. Неожиданно сошлись. Довольно разборчивый, порой капризный в общении, Маяковский отца принял. Наверное, было в них нечто общее и кроме высокого роста. Может, происхождение.
Пишу все со слов отца и цитирую по его книги «Звездное ожерелье». Когда поэт чувствовал себя неважно и не мог прийти в редакцию, сразу же звонил, предупреждал. Волновался, нет ли для него чего срочного. Бывало, просил принести пришедшие в его адрес письма, взять новое стихотворение. И отец, бросив все дела, не было ничего важнее общения с Маяковским, спешил в приют агитатора, горлана-главаря. От редакции, находившейся тогда в самом центре, до ставшей знаменитой комнаты-лодочки ходьбы максимум минут пять. «Комната крошечная, трудно было представить, как огромный Маяковский в ней умещался. Зайдешь на минутку по его звонку, непременно усадит, предложит чаю, бутерброд. Расспросит, что нового в театрах. Что готовит Госкино и “Межрабпомфильм”», – писал отец.
Мих брал стихи, отдавал в машбюро. А потом, когда строки-лесенки были напечатаны и сверстаны, доставлял их поэту. Маяковский – автор строгий. Вычитывал дотошно, иногда вносил правку. И только тогда – в печать.
Первым делом после прихода в редакцию на Лубянском проезде В. В. отправлялся в отдел писем. Там для него был устроен персональный ящичек, который никогда не пустовал. Прочитывал все письма. Некоторые сразу выбрасывал. На другие отвечал. Самые для себя ценные, в которых могли содержаться и темы для новых стихов, сразу же откладывал. Что-то записывал в блокнот.
Редакция занимала половину третьего этажа: направо по длиннющему коридору – «Комсомолка», налево – газета «Беднота». Маяковский любил вышагивать по коридору с толстой тростью, крючком зацепленной на согнутой левой руке. И, отец знал точно, его, сосредоточенного, в такие моменты обычно нахмуренного, лучше было не тревожить. Особенно когда доставал из широченных штанин блокнот – «не первой свежести», как шутили некоторые остряки, Маяковского не принимавшие. И добавляли: «Как и стихи». А что, вы думали, будто поэта любили все поголовно?
В углу рта появлялась папироса. Обычно приветливый и первым здоровавшийся, в минуты вдохновения никого не замечал, казался полностью отрешенным, погружался в рифмы. Несколько раз журналисты, в такой момент к нему подходившие, нарывались на язвительные замечания, даже грубость. Быстро все поняли, вопросами Владимиру Владимировичу не докучали.
А потом стихи ложились на стол Иосифу Уткину. Редакция публиковала их под постоянными рубриками – «“Комсомольская правда” помогла» или «По следам наших выступлений». Часто поэт советовался с ответственным секретарем Михаилом Ивановичем Чаровым. Беседы продолжались минут по пятнадцать. Если Маяковский шел к Михаилу Ивановичу, это значило, что у него возникали некоторые сомнения: публиковать или не публиковать, да и нужна ли тема? Выйдя от ответсека, Владимир Владимирович сообщал о совместном решении.
Папины рассказы о Маяковском часто отличались от общепринятых.
В день выдачи гонорара, отец утверждал: всегда и всем одинаково скромного, Владимир Владимирович обязательно появлялся в редакции. И сразу – в бухгалтерию. Там его ждали с некоторым трепетом. Мог получить и даже поблагодарить. А мог и обидеться: считал – недоплатили. В бухгалтерии никак не хотели понять, почему надо платить Маяковскому за каждую его строчку-лесенку столько же, сколько, к примеру, за стихотворения Уткина или Светлова, написанные традиционным четырехстишием. И время от времени возникал конфликт. Поэт шел к ответственному секретарю. Тот приказывал пересчитать строки. И в следующий раз гонорар выплачивался полностью. Но иногда снова следовало непонимание, и тогда начиналось…
Отец постеснялся написать об этом в мемуарах, но мне говорил, что Владимир Владимирович втолковывал комсомольско-правдинскому молодняку: не надо быть рвачом, а за свое надо биться, и без стеснения. Заработал – значит твое. Папа эту истину усвоил. По наследству это понимание передалось и мне.
«Свои стихи Маяковский обычно диктовал только одной машинистке В., – писал отец в своей книге. – Она была большой ценительницей поэзии, первой читательницей его стихов. Ее мнение и вкусы были для Владимира Владимировича своеобразным оселком, на котором он оттачивал свое перо. Если машинистка скажет: “Что-то здесь непонятное у вас, Владимир Владимирович, нехорошо звучит, надо проще, яснее”… – Маяковский надолго задумывался… Сам выкручивал из валика машинки продиктованный лист и начинал расхаживать по длинному коридору редакции. Доделывал, исправлял стихи огрызком мягкого карандаша. И снова возвращался в машбюро. Диктовал, вопросительно поглядывая на В.».