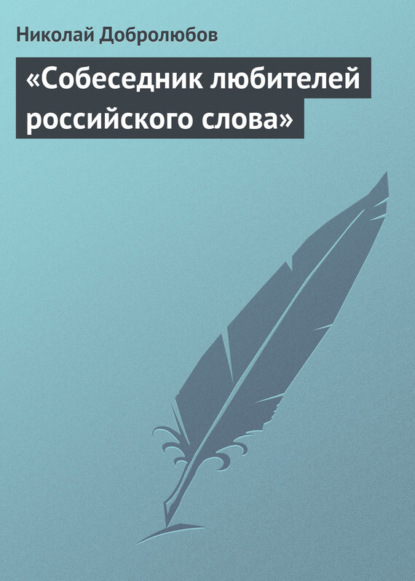По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
«Собеседник любителей российского слова»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Молодой человек тогдашнего времени при малейшей возможности отправлялся в вояж и прямо направлял путь свой в Париж. В дороге он ограничивал свою наблюдательность трактирами, честолюбие его удовлетворялось названиями сиятельства и светлости от трактирной прислуги; любознательность не шла далее покроя платья. В самом Париже изучал он модные лавки, гулянья, лореток и даже спектакли – для того чтобы знакомиться с актрисами. Возвращаясь в отечество, он исполнялся горестию, что должен со слугами объясняться не по-французски и что нельзя между невеждами вести образованной парижской жизни. С полным презрением ко всему родному, с совершенным отсутствием серьезного образования, эти люди были уверены, что они обо всем могут судить очень дельно, и потому говорили обо всем решительным образом, пренебрегая все то, что видят дома, а решения свои считая выше всякой апелляции, потому что были в Париже. Так «Собеседник» описывает русских путешественников конца прошедшего века в статьях своих: «О воспитании»[172 - «Соб.», ч. II, ст. II.], «Просвещенный путешественник»[173 - «Соб.», ч. III, ст. XVIII.] и «Путешествующие»[174 - «Соб.», ч. XI, ст. IX.]. К этому можно прибавить характерную заметку мизантропа из «Записной книжки». «Молодой путешественник, – говорит он, – спешит в Париж, чтобы перенять разные моды и со вкусом одеваться, в Рим – чтобы посмотреть на хорошие картины, в Лондон – чтобы побывать на конском ристании и на драке петухов; но поговорите с ним о нравах, законах и обычаях народных, он скажет вам, что во Франции носят короткие кафтаны, в Англии едят пудинг, в Италии – макароны»[175 - «Соб.», ч. XIII, стр. 37.].
Таким образом, не мудрено поверить, что в обществе царствовали величайшее легкомыслие, пустота и полное невежество в отношении ко всем вопросам науки и литературы. Просвещенный путешественник говорит, что он не крестьянин, чтобы ему интересоваться успехами сельского хозяйства и задачами политической экономии; что он не будет составителем календарей, чтобы ему заниматься математикой и физикой; что он не секретарь, чтобы тратить время на изучение прав народных. При господстве такого образа мыслей легко могло произойти то, что утверждает мизантроп: что если два человека с талантами в обширном городе встречаются, то так друг другу обрадуются, как двое русских, которые бы в первый раз встретились в Китае. О невежестве встречаем довольно свидетельств в «Собеседнике». Эти свидетельства нужно разделить на два рода: одни относятся к тем, которые не хотели знать литературы и науки, другие – к тем, которые сами пускались в писательство, но тоже умели доказывать свое невежество.
В отношении к первому роду невежд мы находим такого рода данные. Множество было людей, которые ни о чем больше говорить даже не умели, как только о собаках;[176 - «Соб.», ч. I, ст, XX.] другие, имея претензию на высшую образованность, посвящали все свое время танцам, клавикордам или скрипке и разговорам о театре;[177 - «Соб.», ч. II, стр. 18.] третьи заботились о том, «чтоб издавать наряды своим соотечественникам» и забавлять компанию разговорами, не заботясь о том, правду или нет говорить придется[178 - «Соб.», ч. III, стр. 175, 183.]. Таким образом, когда дело доходило до серьезных вопросов, то подобные господа решительно терялись. В XI-й части «Собеседника» помещено письмо одного священника, который говорит: «Недавно в немалом благородном собрании предложен был, между прочим, высокоблагородному важный вопрос: что есть бог? – и по многим прениям многие сего общества члены такие определения сей задаче изыскивали, что не без сожаления можно было приметить, сколь много подобных сим найдется мудрецов, за то одно не знающих святости христианского закона, понеже никакого о нем понятия не имеют»[179 - «Соб.», ч. XI, стр. 157.]. От этого бессилия перед вопросами, требующими серьезного размышления и положительных знаний, развился в то время и остался, кажется, надолго в употреблении у полузнаек особенный род остроумия, который хорошо очерчен в стихах г. X. X.[180 - «Соб.», ч. III, стр. 115 («Модное остроумие»)[62 - Стихотворение «Модное остроумие» (1776) принадлежит Г. Р. Державину.].]:
Не мыслить ни о чем и презирать сомненье;
На все давать тотчас свободное решенье;
Не много разуметь, о многом говорить;
Быть дерзку, но уметь продерзостями льстить;
Красивой пустошью плодиться в разговорах;
И другу и врагу являть приятство в взорах;
Блистать учтивостью, но чтя, пренебрегать;
Смеяться дуракам и им же потакать;
Любить по прибыли, по случаю дружиться;
Душою подличать, а внешностью гордиться;
Казаться богачом, и жить на счет других;
С осанкой важничать в безделицах самих.
Для острого словца шутить и над законом,
Не уважать отцом, ни матерью, ни троном;
И, словом, лишь умом в поверхности блистать,
В познаниях одни только цветы срывать;
Тот узел рассекать, что развязать не знаем, —
Вот остроумием что часто мы считаем.
Но у кого недоставало душевной наглости и для того, чтобы хоть так отделываться от вопросов, тот просто не допускал их в свою голову. А делалось это очень просто. Прибегали для того к карточной игре[181 - «Соб.». ч. XIII, стр. 23, 25.], к сплетням[182 - «Соб.», ч. III, стр. 143, 145; ч. VI, стр. 183.], к вину[183 - «Соб.», ч. IV, стр. 129.]. Иные от праздности придумывали еще лучшее занятие. Например, в «Картинах моей родни» тетушка для развлечения принимается ругать слуг, а муж ее, опасаясь, чтобы после того, как она всех перебранит, и ему не досталось, помогает супруге нападать и «продолжает всячески гнев ее на слуг, спасительный для него»[184 - «Соб.», ч. XII, стр. 20.]. Некоторые от нечего делать занимались гаданьем на картах[185 - «Соб.», ч. IX, стр. 242–246.], придавая, впрочем, ему серьезное значение. Если еще и теперь можно встретить верующих этому гаданью, то в то время их, конечно, было несравненно больше, судя по образчикам тогдашнего суеверия в других родах. Тогда, например, не верили врачебной науке и считали грехом лечиться: об этом говорит «Собеседник». В четвертой части находим рассказ о человеке, который ожесточен был против лекарств и еще более утвержден в своем предубеждении отцом игуменом на Перерве, куда он ездил молиться богу, – «его преподобие имел такое мнение, что всякий доктор должен быть неминуемо колдун и что весь корпус медиков есть не что иное, как сатанино сонмище, попущенное гневом божиим на пагубу человеческого рода»[186 - «Соб.», ч. IV, стр. 130.].
Общество, столь мало или столь превратно развитое умственно и нравственно, не могло, разумеется, отличаться сочувствием к литературе, – и это не раз замечено было в «Собеседнике», как дело весьма постыдное. В «Вечеринке» является один господин, который на вопрос, читал ли он «Душеньку», отвечал: «Не читал и не видал». – «Как – не видали?» – «Я думал, что ее когда-нибудь сыграют». – «Да это не драма, а сказка в стихах». – «А мне сказывали, что это комедия». – «Надобно знать, – прибавляет автор, – что господин этот выдает себя за человека просвещенного, за любителя наук и художеств»[187 - «Соб.», ч. IX, стр. 245.]. В письме к Капнисту сказано прямо, что «публика наша еще не очень охотно читает российские стихотворения (63):[39 - Письмо к В. В. Капнисту от имени издателей «Собеседника» было написано О. П. Козодавлевым (см.: Сухомлинов М. И. История Российской академии, вып. 6. СПб., 1882, с. 340–341).] ««Душенька» и многие другие сочинения в стихах лежат в книжных лавках непроданы, тогда как многие переведенные романы печатаются четвертым тиснением. Посему стихотворцы наши не могут еще без покровителей надеяться на одобрение публики»[188 - «Соб.», ч. I, стр. 75.]. В последней книжке «Собеседника» описан один любитель чтения, который заставляет своего дворецкого читать себе книги, а сам в это время спит, по прочтении же отмечает своей рукой на книге: прочтена. «Зачем же вы это подписываете?» – спрашивают его. «А чтобы в другой раз не читать книги», – наивно отвечает он[189 - «Соб.», ч. XVI, ст. X.].
Но, выставляя на посмеяние подобных читателей, «Собеседник» не оставляет в покое и писак, которые пускались в литературу, особенно тех, которые писали по-русски французским складом. «Собеседник» сам иногда помещал у себя для смеху подобные произведения; но дорого стоила авторам их честь попасть в этот журнал. Над ними долго нещадно смеялись, разбирая по ниточке уродливые фразы их. Особенно досталось двум авторам; Любослову, который поместил в «Собеседник» свою критику[190 - «Соб.», ч. II, ст. XI.] и на первую часть его, мелочную, правда, но большею частию справедливую, и потом «Начертание о российском языке»[191 - «Соб.», ч. VII, ст. XV.], и еще автору одного письма к сочинителю «Былей и небылиц»[40 - Автором письма был граф С. П. Румянцев (см.: Русский архив, 1869, № 4, с. 850).], приложившему при этом письме и свое предисловие к «Истории Петра Великого»[192 - Ibid., ст. XIX.]. Первого осмеяли за мелочную придирчивость и за напыщенность выражения, второго – за то, что, «пишут по-русски, думая по-французски» и написал свое предисловие совершенно по-французски, только русскими словами. За это особенно нападает «Собеседник», и дело это действительно было важно для литературы. Даже Карамзин жаловался, как известно, на то, что русскому писателю негде взять образца для своего языка, потому что все образованные люди говорят по-французски[41 - Об этом Н. М. Карамзин писал в «Вестнике Европы» (1802, № 14) в статье «Отчего в России мало авторских талантов?» (см.: Карамзин Н. М. Соч. в 2-х томах, т. 2. Л., 1984, с. 122).]. Обычай этот, усиливаемый французским воспитанием и, в свою очередь, поддерживавший его жалкое влияние, был особенно распространен в то время, и нельзя не отдать должной справедливости издателям «Собеседника» за старание противодействовать этому злу. Осмеивая неуместное употребление французских фраз в обществе, они тем сильнее осмеивали тех, которые с подобною привычкой принимались писать по-русски. Об одном из подобных сочинений «здравомыслящий человек» говорит: «Мне кажется, все сие написано по-французски русскими словами; если вам угодно, я переведу все сие сочинение на французский язык, и, возвратя оное в первобытное состояние, оно более смысла иметь будет, нежели теперь в русских словах оно содержит. Автор же этот, хоть верхом или инако во французском шаре летать будет, пока по-русски не выучится, русским сочинителем не будет»[193 - «Соб.», ч. IX, стр. 12–13.].
Плохим стихотворцам тоже доставалось от «Собеседника», особенно в эпиграммах. Вот одна из них:
Глупонов написал и прозу и стихи,
Чтоб всякому читать за тяжкие грехи.
Хоть грешников и есть на свете очень много,
Но их наказывать не должно слишком строго[194 - «Соб.», ч. XI, стр. 173.].
На плохих рифмотворцев нападает и Капнист в своей сатире, сожалея, что можно прекратить злодейства страхом наказаний, но никак нельзя стихотворцев заставить «без смысла не греметь», —
Не ставить на подряд за деньги гнусных од
И рылом не мутить Кастальских чистых вод.
А что подобных писак было и тогда очень довольно, свидетельствует «Искреннее сожаление об участи издателей «Собеседника», в котором сказано: «Присылаемые к вам разноманерные пакеты, запечатанные то пуговкою, то полушкою, правда, наполнены стихотворениями; но по скольку добрых стихов на сто худых? Я уверен, что не находится тут ниже по шести на сто указных процентов»[195 - «Соб.», ч. III, стр. 152.]. Письмо сочинено, очевидно, в редакции, и потому его уверенность можно принять за положительное показание.
«Собеседник» открывает нам еще одно странное явление тогдашней литературы. Были люди, которые нанимали других, чтобы написали для них сочинения, которые они потом издавали под своим именем. Этот обычай, как видно, тоже принесен из Франции, где он получил освящение от знаменитого Ришелье. Факт этот рассказывается в статье: «Счастливое излечение зараженного болезнию сочинять»[196 - «Соб.», ч. X, ст, X.]. Статья незначительна сама по себе; содерягание ее взято из одного анекдота, помещенного еще в «Письмовнике» Курганова (64). Он состоит в том, что двое молодых людей вздумали уверять своего приятеля, что он слеп, и для того среди темной ночи, когда он спал, подняли спор об одном слове, которого будто бы не могли разобрать в одной тетради. Проснувшись от шума, он снросил, о чем они спорят, и они попросили его разобрать, что тут написано. Он сказал, что без огня не видит; они начали смеяться над ним и уверяли, что теперь день. Таким образом он уверился, что ослеп. Разница между рассказом «Письмовника» и «Собеседника» та, что там друзья решаются настращать приятеля за богохульство, в котором он упражнялся с вечера, а здесь за то, что он оскорбляет божество Талии, осмеливаясь писать комедии по заказу одного господчика, который, побывав в Париже (как видно, это было в глазах издателей необходимое условие глупости), слыл между дворянами великим умником, да и от мещан тоже хотел получить дань поклонения своему гению.
Мы рассмотрели большую часть нравоучительных статей «Собеседника», в которых являются сколько-нибудь живые личности, сколько-нибудь действительная жизнь. При этом мы не брали во внимание всем известных произведений Державина, Фонвизина, Богдановича и пр., которые могут еще дополнить картину тогдашних нравов, представленную в «Собеседнике». Нельзя не видеть, что в этих статьях более выводится на сцену дурная сторона нравов, и за это нельзя осуждать «Собеседник». Еще в наше время испытал неудачу в создании идеальных русских лиц писатель, которому равного, конечно, не представит прошедшее столетие в нашей литературе[42 - Имеются в виду герои (Костанжогло, Уленька и др.) второго тома «Мертвых душ» Н. В. Гоголя.]. А между тем наше время уже далеко не то, что тогдашнее. Тогда, как видим из «Собеседника» же, старинные предрассудки, невежество, грубость сердца, суеверие, боярская спесь упорно еще боролись против просвещения, насильно вторгавшегося в русскую жизнь. Но остановить распространение света они не могли, и молодое поколение жадно бросилось перенимать французский ум, французские нравы и переняло, разумеется, настолько, насколько можно перенимать ум и нравы. Все было искажено, все перешло в одни пошлые, заученные формы без души, потому что все внимание обращали только на внешность, не думая о том, что под нею скрывается. Да и самая внешность эта была не понята и, поразив сначала удивлением непривычных людей, скоро потом переходила к нам в чудовищных искажениях. Так, французская свобода обращения в переложении на наши нравы сделалась семейным развратом, французская веселость – шутовством, их легкомыслие и беззаботность – презрением ко всяким серьезным занятиям, их насмешки над предрассудками – кощунством, тем более отвратительным, что оно у нас не имело никакого внутреннего основания в личных убеждениях. Словом, что у француза было естественно, чем он был по своей природе, тем русский хотел сделаться чрез подражание и, таким образом, считая правилом для себя то, что было только невольным движением подвижной природы француза, разумеется, впадал в крайности и достоинство обращал в недостаток, а недостаток – в отвратительный порок. Если, остепенившись потом, образованный по-тогдашнему русский принимался за дело, за службу, то выходило еще хуже. Из всего французского учения он понимал, конечно, легче всего то, что уничтожало предрассудки, которым он прежде верил, но взамен этих предрассудков философия того времени не давала ему никаких принципов, к которым бы мог привязаться, которые бы мог полюбить сердцем и мыслию человек, так мало приготовленный к философским отвлеченностям, как были тогда французившиеся русские. Плоды многолетних, тяжелых размышлений, идеи, добытые вековыми горькими опытами и разочарованиями, пролетали чрез головы наших господчиков в несколько дней и, не переваренные, часто не понятые или понятые навыворот, оставляли только в сердце пустоту, а в голове – несколько новых фраз, которые при первом же случае и пускались в оборот, без убеждения и без сознания. Таким образом, они оставались совершенно мертвым капиталом для своих владельцев, не сообщая им убеждений чести и добра, а только освобождая их от страха, в котором держали их прежние верования. Нечего говорить о том, каков должен был сделаться в жизни человек, потерявший всякий страх перед каким-нибудь судом внешним и не имеющий благородства внутреннего. Самый грубый, самый гадкий эгоизм делался пружиною всех действий, и – распложались люди такого рода, какие описаны в стихах «Модное остроумие». Все это горькое переходное время тяжело отразилось на русском обществе, и нельзя не отдать чести «Собеседнику» по крайней мере за то, что он понял нелепость этого положения и старался выводить на общее посмеяние как упорное старинное невежество, так и пустоцвет французской цивилизации, столь дурно усвоенной у нас тогдашними молодыми людьми. Если не прежде всех, то сильнее всех восстал он на употребление французских фраз в русском разговоре, на французское воспитание и на обольщение одною внешностию образования; первый заговорил он с такою энергиею о человеколюбии и об уважении достоинства человека, осмеивая жестокость, грубость, презрение к человечеству. Не много предшественников имел он и в нападениях своих на женский разврат и безумную расточительность. Нельзя не согласиться, что стремления издателей «Собеседника» были честны и благородны, во всем издании нельзя не видеть печати просвещенного вкуса и бескорыстного желания добра, которые всегда отличали княгиню Дашкову в ее ученой и литературной деятельности.
Что касается до исполнения, то оно, конечно, не имеет тех достоинств, каких привыкли мы ныне требовать от литературных произведений. Прежде всего не понравится нам язык тогдашний, неустановленный, с формами старинными и простонародными, с галлицизмами и славянизмами и сбивчивой орфографией (65). Касательно этого обстоятельства есть замечания в самом «Собеседнике». Любословы критиковали неправильности языка, а в предисловии к этим критикам в то же время издатели (вероятно, сама Екатерина) говорили: «Один из издателей нижайше просит, чтоб дозволено ему было и не всегда исправные свои сочинения в «Собеседнике» помещать, так как он ни терпенья, ни времени не имеет свои сочинения переправлять, а притом и не хочет никого тяготить скукою поправлять его против грамматики преступления»[197 - «Соб.», ч. II, стр. 103.]. В самом деле, хотя императрица прекрасно изучила русский язык, но все-таки это не был природный язык ее, и она никогда не могла привыкнуть к сбивчивой его грамматике, почему и признавалась открыто, что грамматики совсем не знает (66)[198 - «Соб.», ч. VII, стр. 137.].
В статьях других авторов тоже встречаются нерусские обороты, странные ныне окончания и т. п.; но сравнительно с общей массой литературных произведений того времени статьи «Собеседника» большею частию были написаны удивительно чистым и легким языком. Дурным изложением отличаются только статьи, над которыми сам же «Собеседник» смеется. Таковы – одно письмо к автору «Былей и небылиц», «Начертание» Любослова. «Начертание» это, впрочем, смешно только напыщенностию длинных периодов во вступлении и заключении; из самого же изложения дела видно, что автор его серьезно занимался исследованиями филологическими. Так, он приводит более сотни слов, сходных в русском и латинском языках, и доказывает, что оба эти языка произошли от одного корня, что резко отличает его от тогдашних филологов, которые были помешаны на заимствованиях одного языка из другого и часто производили всё от славянского. В дальнейшем изложении, впрочем, и Любослов приближается к тому же, доказывая, что славянский древнее латинского, потому что в латинском есть suadeo как одно слово, а у нас оно является в своих корнях – с + вет, равно как слово donee = до + неле, solidus = со + лит (как бы слитой), и пр., и потому, что у нас есть первоначальные формы слов, которые в латинском являются в форме уже распространенной, например, око = oculus, небо = nebula, грач = graculus и пр. На этих немногих словах Любослов основывает свое мнение о древности славянского языка, простирающейся далее двух тысяч лет[199 - «Соб.», ч. VII, ст. XV.]. В критике своей Любослов делает много верных заметок, например, восстает против употребления окончания глаголов на ти вместо тъ, против неправильных ударений в стихах, против неверной расстановки слов, против подобных фраз «избол глаза», «отверзив двери», «ты пишешь в сказках поучений», «отроча рождеи» и пр. Заметим, что Державин, впоследствии исправляя свои стихотворения, принял во внимание некоторые из этих замечаний (67).
Кроме этих произведений, в «Собеседнике» были еще следующие статьи, относящиеся к языку: «Сумнительные предложения одного невежды, желающего приобресть просвещение»[43 - Статья принадлежит П. С. Батурину (см. публикацию Б. Л. Модзалевского «Записки П. С. Батурина». – Голос минувшего, 1918, № 1–2, с. 65).], где он делает несколько заметок на «Фелицу» и на некоторые другие стихотворения, помещенные в I части «Собеседника». В подстрочных примечаниях к его критике Державин и Богданович представили свои опровержения, которые оставили автора критики совершенно в дураках. Например, он замечает, что нельзя сказать: нежить чувства. Державин отвечает: «Если нет у г. Невежды прекрасной женщины, которая бы приятными своими объятиями нежила его осязание, то не благоволит ли он приказать себя кому хорошенько ожечь или высечь. Когда сие ему сделает хотя небольшую боль, то вероятнее всех ученых доказательств из собственного своего опыта познает он, что оскорблять чувства, следовательно, и нежить, – можно»[200 - «Соб.», ч. IV, стр. 13.]. Вероятно, испуганный таким тоном, невежда более не являлся в «Собеседник» с своими сомнениями. По поводу предисловия к «Истории Петра Великого» написано прошение к гг. издателям, чтобы они не отягощали публику сочинениями, которые писаны языком неизвестным; в прошении есть и разбор некоторых фраз, не согласных с духом русского языка[201 - «Соб.», ч. VIII, ст. IV.]. В той же книжке «Собеседника» помещено письмо[44 - Автор письма – Екатерина II.], представляющее набор каких-то слов без смысла, в виде пародии на сочинения Любослова[202 - Ibid., ст. X.]. В последней книжке последней статьей помещено мнение о разделении российских согласных букв в рассуждении правописания з и с[203 - «Соб.», ч. XVI, ст. XII.]. Здесь решено то, что ныне и принято, т. е. чтобы пред твердыми писать з, а пред мягкими с. Только странно, что здесь твердые (б, д) называются мягкими, а мягкие (п, т), наоборот, твердыми. Есть еще в I части маленькая заметка о правописании слова драма.
Более значительны статьи Фонвизина: «Опыт российского сословника»[204 - «Соб.», ч. I, ст. XXIX; ч. IV, ст. XII; ч. X, ст. VIII.], с ответом на критику его против Любослова[205 - «Соб.», ч. III, ст. XI.], и «О древнем и новом стихотворении» Богдановича[206 - «Соб.», ч. II, ст. XVIII; ч. III, ст. II; ч. V, ст. III; ч. VIII, ст. II.]. Эти произведения, впрочем, так известны, что о них нет нужды говорить здесь, тем более что статьи Фонвизина заключают только определения слов, а статьи Богдановича состоят почти из одних выписок стихов Ломоносова.
Из произведений, имеющих предметом своим литературу, можно еще остановиться на письме Именотворителя[207 - «Соб.», ч. XIII, ст. II.]. Автор доказывает здесь важность имен в повестях особенно чувствительных. «Одно имя Моннимии и Аемониды, – говорит он, – в изобильные слезы нежную красавицу или сладкосердного молодца повергнет». Если же «сочинитель без вкуса станет описывать злосчастнейшие приключения, но называет героев своих Брандышевыми, Брандаусовыми и Клонтубасовыми, то впечатление теряется, и хотя никто оспорить не может, что Брандаусов и Клонтубасов имеют столько же права быть несчастными, как какого бы имени христианин ни был»[208 - «Соб.», ч, XIII, стр. 10.].
Для избежания этого неудобства Именотворитель предлагает свои услуги, так как он набрал до семисот французо-русских имен для романов да для ученых сочинений триста имен, содержащих каждое не менее тринадцати букв, чрез что в читателе возбуждаются доверенность и уважение. Много имен также собрано и для стихов, и притом они так остроумно сложены, что, по требованию стиха, можно и выпустить или прибавить слог совершенно незаметно. Важность имен доказывается здесь, между прочим, и тем, что есть много комедий, в которых всю соль составляют имена, изображающие собою характер лиц.
Таким образом, еще в 1784 году находим мы насмешки над тем, против чего принуждена была вооружаться наша критика в 30-х годах текущего столетия и что от времени до времени и теперь еще появляется в некоторых рассказах и комедиях. И в этом случае «Собеседник» далеко опередил свое время.
Но, рассматривая до сих пор светлую сторону «Собеседника», мы еще не видели недостатков, составляющих его темную сторону. Недостатки эти происходили от не установившихся еще убеждений в самих писателях, от некоторого стеснения обществом, которое было еще не приготовлено понимать их чистые стремления, и от недостатка последовательности самим себе. Вообще в характере тогдашней литературы была какая-то двойственность, какая-то нетвердость в однажды начатом пути. Изобразив глупца, автор считал обязанностью рядом с ним поставить и умного, который бы объяснял и поправлял глупости первого; осмеяв ябеду, считали нужным заметить, что, собственно, судьи полезны и даже необходимы, но только честные судьи, и т. п. Видно, что и публика еще требовала назиданий, да и автор не надеялся на свои силы и хотел рассуждениями дополнить то, что опустил при изображении характера. Подобных рассуждений, оговорок, восклицаний много есть и в «Собеседнике». Есть целые статьи, предлинные и прескучные, дидактического направления. Иногда они облекались даже в аллегорическую форму, в которой, разумеется, становились еще скучнее. Таковы две статьи: «Египетская повесть»[209 - «Соб.», ч. II, ст. IV; ч. VI, ст. II; ч. X, ст. II.] и «Новейшее путешествие во сновидении»[210 - «Соб.», ч. XIII, ст. X; ч. XIV, ст. II; ч. XV, ст. II; ч. XVI; ст. VII.] В. Левшина. Первая рассказывает путешествие царевича Нинея, внука царицы Идеи (в которой нетрудно узнать Екатерину), в разные страны, для того чтобы отыскать, где обитают божества Правды, Человеколюбия, Мужества и Мудрости. Путешествие описано очень неискусно, и даже если в нем были какие-нибудь современные намеки, то теперь нет возможности понять их. «Египетская повесть» сама опасается, чтобы не навести на читателей египетской скуки, и нужно сказать, опасение ее сбывается совершенно.
«Новейшее путешествие» описывает нравы лунных жителей и содержит пространные размышления об эфире, о силе тяготения и пр. В авторе видно желание доказать преимущество патриархального, не мудрствующего о жизни народа – пред нами, зараженными новейшим просвещением. В изложении довольно ясно проскальзывают непонятые идеи Руссо. Один старик рассказывает Нарсиму-путешественнику о своей жизни и сообщает ему свои понятия, которые Нарсиму и самому автору кажутся совершеннейшими. «Мы веруем во всевышнее существо, – говорит старик, – любим друг друга, занимаемся земледелием и скотоводством; прочие же науки, которые стали было выдумывать люди, не любящие трудов, отвержены. Кто пустится в разные выдумки, тому мы не даем есть, и голод всегда заставляет его образумиться. Законов никаких мы не имеем, потому что естественный довольно тверд в душах наших; природа же наша, старанием правителей семейств, осталась еще в той первобытной чистоте, в какой развернулась в первом человеке». Затем, для параллели, идет рассказ о земле, на которую путешествовал один из лунных жителей, Квалбоко. Сущность рассказа состоит в том, что все на земле дурно, что различие между дикими народами и просвещенными маловажно: «дикие производят то наглостию, что просвещенные делают искусством».
После этого следуют еще два отрывка из путешествия, не имеющие никакой связи. В одном говорится о египетских божествах и гиероглифах, в другом описываются путешествие Квалбоко по России и его восторг и изумление при виде необыкновенно разумного и благодетельного устройства этого государства под державою премудрой монархини.
Обыкновенными дидактическими рассуждениями наполнены статьи: «Утро», «Полдень» М. X., «Сокращенный катехизис честного человека», «Об истинном благополучии», «Письмо из Карасубазара», «Письмо о великодушных чувствованиях» Богдановича, «Письмо отца и сына», сообщенное Яковом Дол., «Подражание английскому «Зрителю»«, «Некоторые рассуждения о смехе»; отчасти также статьи: «Приятное путешествие» К – ва, «Путешествующие» и др. (68). Сюда же можно бы отнести «поучение» Фонвизина;[45 - Речь идет о «Поучении, говоренном в Духов день иереем Василием», помещенном в ч. VII «Собеседника».] но оно, по своему выражению, может скорее быть названо юмористическим произведением. Не относим сюда также и речи Княжнина, сказанной им в Академии художеств, равно как и статьи «О системе мира», которая имеет свое достоинство в дельном изложении ученого предмета.
Мы не будем ничего выписывать из дидактических статей, потому что нового в них ничего нет; те же самые стремления, какие мы уже показали, выражаются и здесь, только нравоучительным тоном, то в рассуждениях о необходимости добродетели, то в похвалах добрым людям, которые, однако же, очень редко являются в действии живыми, то в обращениях к совести, к небесам, к Минерве российской и пр. Все эти статьи очень скучны; лучше других «Рассуждение об истинном благополучии» и «Подражание английскому «Зрителю»«. Совершенно пусты, но любопытны по изложению статьи: «Письмо Иоанна Приимкова» и «От архангелогородской кумы». В последнем особенно интересна попытка подделаться под простонародный язык[211 - «Соб.», ч. XII, ст. X.].
Иногда в рассуждениях авторов попадаются довольно странные мысли, обличающие еще не совершенно просветленный взгляд или отречение от своих личных убеждений по каким-нибудь житейским расчетам. Так, например, одна статья удивляется тому, что итальянцы подражают французам, и считает это преступлением с их стороны потому, что Италиия владела некогда всем светом[212 - «Соб.», ч. X, стр. 125.], как будто бы сила оружия и пространство империи условливают и высшую образованность… Или: один отец побуждает сыновей служить – зачем же? затем, что иначе «дети отдаваемых нами рекрут будут нашим детям командиры»[213 - «Соб.», ч. IV, стр. 135.]. Дальше этого не простирался просвещенный разум чадолюбивого родителя. А между тем автор выставляет его человеком, достойным уважения и подражания. В «Письме из Карасубазара» старый служивый толкует о дисциплине и, между прочим, открывает в ней вот какие свойства: «Она вливает в душу воина храбрость и мужество, воспламеняет ее любовью к отечеству, растрогивает в ней страсти и побуждения к делам великим и честным, а к низким дает омерзение», и пр.[214 - «Соб.». ч. VII, стр. 13.]. Конечно, таких вещей нехитрому уму не выдумать и ввек.
Но что особенно замечательно, так это постоянное выражение глубокого благоговения к «августейшей наук покровительнице российской Минерве, милосердной монархине», императрице Екатерине. Нет почти ни одного произведения, в котором бы как-нибудь, кстати или некстати – все равно, – не выразились чувства благоговения к государыне. В особенности сатирики отличались этим, и даже чем острее, чем резче была сатира, тем с большим чувством говорилось в ней о благодеяниях, изливаемых на народ императрицей, как будто бы автор хотел этим отстранить от себя всякий упрек в свободоязычии и старался заранее показать, что он предпринимает обличать пороки единственно по желанию добра обществу. Вероятно, в то время находились тоже люди, способные перетолковывать все в дурную сторону, как перетолковали, например, вопросы Фонвизина…
Но верноподданнические чувства в прозе все еще не так сильно выражались, как в стихах. До сих пор мы очень мало говорили о стихотворной части «Собеседника», и, кажется, нам не придется много говорить о ней. Это потому, что одна половина стихотворений, принадлежащая Державину, Княжнину, Капнисту, Богдановичу, так общеизвестна и столько раз была разобрана, что здесь и нечего сказать нового. Другая же половина, принадлежащая неизвестным пиитам, не отличается ничем особенным, что бы могло надолго остановить на себе внимание читателей.
В библиографических заметках перечислены все произведения, принадлежащие известным поэтам и напечатанные в «Собеседнике». Здесь же можем только указать на то, что и тут выбор стихотворений обличает светлый взгляд издателя. «Фелица», как известно, напечатана без ведома Державина княгинею Дашковой), – и она осталась одним из замечательнейших стихотворений во всем издании. Потом из «С.-Петербургского вестника» перепечатаны были лучшие произведения его же: «На смерть князя Мещерского», «Соседу», «На новый 1781 год» и др., а не были перепечатаны, например, «Песнь Петру Великому» или «Песенка отсутствующего мужа». У Капниста издатели просили его сатиры, для напечатания в «Собеседнике» в исправленном виде, особым письмом, напечатанным в первой же книжке журнала[215 - «Соб.», ч. I, ст. XIV.]. Из стихотворений Княжнина перепечатаны из «Вестника» стансы «К богу», по теплоте чувства и по чисто христианскому взгляду на бога, единственно как на высочайшую любовь, стоящие гораздо выше знаменитой оды Державина[46 - Имеется в виду ода Г. Р. Державина «Бог» (1784).]. Что касается до Богдановича, то он был, кажется, присяжным участником журнала и до последней книжки помещал в нем всевозможный вздор. «Душенькой» своей он приобрел такую славу, что с радостью брали всё, выходившее из-под пера его, и он под большей частью стихотворений своих выписывал всеми буквами: Ипполит Богданович. Два его стихотворения были в первой книжке «Собеседника» без подписи; но и тут Богданович не удержался и показал, кто он, как только осмелилась критика коснуться в них некоторых выражений.
Из писателей менее известных, помещавших свои стихи в «Собеседнике», особенного внимания заслуживает Козодавлев, по легкости своего стиха. Полным его именем подписано здесь только одно стихотворение «На смерть князя Голицына»[216 - «Соб.», ч. VII, ст. XIV.], да буквами О. К. подписано «Послание к татарскому мурзе» (Державину)[217 - «Соб.», ч. VIII, ст. I.]. Но ему можно приписать достоверно еще стихотворения: «Клелии»[218 - «Соб.», ч. VI, ст. VI.], «К другу»[219 - Ibid., ст. VII.], из которых последнее подписано: автор «Приятного путешествия» и стихов «Клелии»; «Приятное» же «путешествие» подписано: К – в. Ему же принадлежит, по всей вероятности, «Письмо к Ломоносову, в котором он называет Державина своим другом и говорит, что писал к нему послание[220 - «Соб.», ч. XIII, ст. XI.], Ему же принадлежит, может быть, и шуточная пьеса «Сновидение», которая напоминает его по стиху и в которой гоже говорится о «Клелии»[221 - «Соб.», ч. XVI, ст. IX.].
Вот одна строфа из его оды «На смерть Голицына». В ней он так хвалит умершего:
Коварства он терпеть не мог
И ввек не осквернялся лестью,
К себе во всех делах был строг,
Наполнен был единой честью,
Несчастных жребий облегчал
И никого не мог обидеть,
Желал людей в блаженстве видеть
И милосердием дышал.
В стихах «К мурзе» есть место, замечательное по поэтическому представлению предмета, и потому выпишем его здесь. Козодавлев убеждает Державина писать стихи, не слушая невежд, которые, может быть, уверяют, что люди дельные стихов не сочиняют:
О стихотворстве мысль оттуда их идет,
Где в вечной мрачности невежество живет.
Есть остров в море, проклятый небесами,
Заросший вес кругом дремучими лесами,
Таким образом, не мудрено поверить, что в обществе царствовали величайшее легкомыслие, пустота и полное невежество в отношении ко всем вопросам науки и литературы. Просвещенный путешественник говорит, что он не крестьянин, чтобы ему интересоваться успехами сельского хозяйства и задачами политической экономии; что он не будет составителем календарей, чтобы ему заниматься математикой и физикой; что он не секретарь, чтобы тратить время на изучение прав народных. При господстве такого образа мыслей легко могло произойти то, что утверждает мизантроп: что если два человека с талантами в обширном городе встречаются, то так друг другу обрадуются, как двое русских, которые бы в первый раз встретились в Китае. О невежестве встречаем довольно свидетельств в «Собеседнике». Эти свидетельства нужно разделить на два рода: одни относятся к тем, которые не хотели знать литературы и науки, другие – к тем, которые сами пускались в писательство, но тоже умели доказывать свое невежество.
В отношении к первому роду невежд мы находим такого рода данные. Множество было людей, которые ни о чем больше говорить даже не умели, как только о собаках;[176 - «Соб.», ч. I, ст, XX.] другие, имея претензию на высшую образованность, посвящали все свое время танцам, клавикордам или скрипке и разговорам о театре;[177 - «Соб.», ч. II, стр. 18.] третьи заботились о том, «чтоб издавать наряды своим соотечественникам» и забавлять компанию разговорами, не заботясь о том, правду или нет говорить придется[178 - «Соб.», ч. III, стр. 175, 183.]. Таким образом, когда дело доходило до серьезных вопросов, то подобные господа решительно терялись. В XI-й части «Собеседника» помещено письмо одного священника, который говорит: «Недавно в немалом благородном собрании предложен был, между прочим, высокоблагородному важный вопрос: что есть бог? – и по многим прениям многие сего общества члены такие определения сей задаче изыскивали, что не без сожаления можно было приметить, сколь много подобных сим найдется мудрецов, за то одно не знающих святости христианского закона, понеже никакого о нем понятия не имеют»[179 - «Соб.», ч. XI, стр. 157.]. От этого бессилия перед вопросами, требующими серьезного размышления и положительных знаний, развился в то время и остался, кажется, надолго в употреблении у полузнаек особенный род остроумия, который хорошо очерчен в стихах г. X. X.[180 - «Соб.», ч. III, стр. 115 («Модное остроумие»)[62 - Стихотворение «Модное остроумие» (1776) принадлежит Г. Р. Державину.].]:
Не мыслить ни о чем и презирать сомненье;
На все давать тотчас свободное решенье;
Не много разуметь, о многом говорить;
Быть дерзку, но уметь продерзостями льстить;
Красивой пустошью плодиться в разговорах;
И другу и врагу являть приятство в взорах;
Блистать учтивостью, но чтя, пренебрегать;
Смеяться дуракам и им же потакать;
Любить по прибыли, по случаю дружиться;
Душою подличать, а внешностью гордиться;
Казаться богачом, и жить на счет других;
С осанкой важничать в безделицах самих.
Для острого словца шутить и над законом,
Не уважать отцом, ни матерью, ни троном;
И, словом, лишь умом в поверхности блистать,
В познаниях одни только цветы срывать;
Тот узел рассекать, что развязать не знаем, —
Вот остроумием что часто мы считаем.
Но у кого недоставало душевной наглости и для того, чтобы хоть так отделываться от вопросов, тот просто не допускал их в свою голову. А делалось это очень просто. Прибегали для того к карточной игре[181 - «Соб.». ч. XIII, стр. 23, 25.], к сплетням[182 - «Соб.», ч. III, стр. 143, 145; ч. VI, стр. 183.], к вину[183 - «Соб.», ч. IV, стр. 129.]. Иные от праздности придумывали еще лучшее занятие. Например, в «Картинах моей родни» тетушка для развлечения принимается ругать слуг, а муж ее, опасаясь, чтобы после того, как она всех перебранит, и ему не досталось, помогает супруге нападать и «продолжает всячески гнев ее на слуг, спасительный для него»[184 - «Соб.», ч. XII, стр. 20.]. Некоторые от нечего делать занимались гаданьем на картах[185 - «Соб.», ч. IX, стр. 242–246.], придавая, впрочем, ему серьезное значение. Если еще и теперь можно встретить верующих этому гаданью, то в то время их, конечно, было несравненно больше, судя по образчикам тогдашнего суеверия в других родах. Тогда, например, не верили врачебной науке и считали грехом лечиться: об этом говорит «Собеседник». В четвертой части находим рассказ о человеке, который ожесточен был против лекарств и еще более утвержден в своем предубеждении отцом игуменом на Перерве, куда он ездил молиться богу, – «его преподобие имел такое мнение, что всякий доктор должен быть неминуемо колдун и что весь корпус медиков есть не что иное, как сатанино сонмище, попущенное гневом божиим на пагубу человеческого рода»[186 - «Соб.», ч. IV, стр. 130.].
Общество, столь мало или столь превратно развитое умственно и нравственно, не могло, разумеется, отличаться сочувствием к литературе, – и это не раз замечено было в «Собеседнике», как дело весьма постыдное. В «Вечеринке» является один господин, который на вопрос, читал ли он «Душеньку», отвечал: «Не читал и не видал». – «Как – не видали?» – «Я думал, что ее когда-нибудь сыграют». – «Да это не драма, а сказка в стихах». – «А мне сказывали, что это комедия». – «Надобно знать, – прибавляет автор, – что господин этот выдает себя за человека просвещенного, за любителя наук и художеств»[187 - «Соб.», ч. IX, стр. 245.]. В письме к Капнисту сказано прямо, что «публика наша еще не очень охотно читает российские стихотворения (63):[39 - Письмо к В. В. Капнисту от имени издателей «Собеседника» было написано О. П. Козодавлевым (см.: Сухомлинов М. И. История Российской академии, вып. 6. СПб., 1882, с. 340–341).] ««Душенька» и многие другие сочинения в стихах лежат в книжных лавках непроданы, тогда как многие переведенные романы печатаются четвертым тиснением. Посему стихотворцы наши не могут еще без покровителей надеяться на одобрение публики»[188 - «Соб.», ч. I, стр. 75.]. В последней книжке «Собеседника» описан один любитель чтения, который заставляет своего дворецкого читать себе книги, а сам в это время спит, по прочтении же отмечает своей рукой на книге: прочтена. «Зачем же вы это подписываете?» – спрашивают его. «А чтобы в другой раз не читать книги», – наивно отвечает он[189 - «Соб.», ч. XVI, ст. X.].
Но, выставляя на посмеяние подобных читателей, «Собеседник» не оставляет в покое и писак, которые пускались в литературу, особенно тех, которые писали по-русски французским складом. «Собеседник» сам иногда помещал у себя для смеху подобные произведения; но дорого стоила авторам их честь попасть в этот журнал. Над ними долго нещадно смеялись, разбирая по ниточке уродливые фразы их. Особенно досталось двум авторам; Любослову, который поместил в «Собеседник» свою критику[190 - «Соб.», ч. II, ст. XI.] и на первую часть его, мелочную, правда, но большею частию справедливую, и потом «Начертание о российском языке»[191 - «Соб.», ч. VII, ст. XV.], и еще автору одного письма к сочинителю «Былей и небылиц»[40 - Автором письма был граф С. П. Румянцев (см.: Русский архив, 1869, № 4, с. 850).], приложившему при этом письме и свое предисловие к «Истории Петра Великого»[192 - Ibid., ст. XIX.]. Первого осмеяли за мелочную придирчивость и за напыщенность выражения, второго – за то, что, «пишут по-русски, думая по-французски» и написал свое предисловие совершенно по-французски, только русскими словами. За это особенно нападает «Собеседник», и дело это действительно было важно для литературы. Даже Карамзин жаловался, как известно, на то, что русскому писателю негде взять образца для своего языка, потому что все образованные люди говорят по-французски[41 - Об этом Н. М. Карамзин писал в «Вестнике Европы» (1802, № 14) в статье «Отчего в России мало авторских талантов?» (см.: Карамзин Н. М. Соч. в 2-х томах, т. 2. Л., 1984, с. 122).]. Обычай этот, усиливаемый французским воспитанием и, в свою очередь, поддерживавший его жалкое влияние, был особенно распространен в то время, и нельзя не отдать должной справедливости издателям «Собеседника» за старание противодействовать этому злу. Осмеивая неуместное употребление французских фраз в обществе, они тем сильнее осмеивали тех, которые с подобною привычкой принимались писать по-русски. Об одном из подобных сочинений «здравомыслящий человек» говорит: «Мне кажется, все сие написано по-французски русскими словами; если вам угодно, я переведу все сие сочинение на французский язык, и, возвратя оное в первобытное состояние, оно более смысла иметь будет, нежели теперь в русских словах оно содержит. Автор же этот, хоть верхом или инако во французском шаре летать будет, пока по-русски не выучится, русским сочинителем не будет»[193 - «Соб.», ч. IX, стр. 12–13.].
Плохим стихотворцам тоже доставалось от «Собеседника», особенно в эпиграммах. Вот одна из них:
Глупонов написал и прозу и стихи,
Чтоб всякому читать за тяжкие грехи.
Хоть грешников и есть на свете очень много,
Но их наказывать не должно слишком строго[194 - «Соб.», ч. XI, стр. 173.].
На плохих рифмотворцев нападает и Капнист в своей сатире, сожалея, что можно прекратить злодейства страхом наказаний, но никак нельзя стихотворцев заставить «без смысла не греметь», —
Не ставить на подряд за деньги гнусных од
И рылом не мутить Кастальских чистых вод.
А что подобных писак было и тогда очень довольно, свидетельствует «Искреннее сожаление об участи издателей «Собеседника», в котором сказано: «Присылаемые к вам разноманерные пакеты, запечатанные то пуговкою, то полушкою, правда, наполнены стихотворениями; но по скольку добрых стихов на сто худых? Я уверен, что не находится тут ниже по шести на сто указных процентов»[195 - «Соб.», ч. III, стр. 152.]. Письмо сочинено, очевидно, в редакции, и потому его уверенность можно принять за положительное показание.
«Собеседник» открывает нам еще одно странное явление тогдашней литературы. Были люди, которые нанимали других, чтобы написали для них сочинения, которые они потом издавали под своим именем. Этот обычай, как видно, тоже принесен из Франции, где он получил освящение от знаменитого Ришелье. Факт этот рассказывается в статье: «Счастливое излечение зараженного болезнию сочинять»[196 - «Соб.», ч. X, ст, X.]. Статья незначительна сама по себе; содерягание ее взято из одного анекдота, помещенного еще в «Письмовнике» Курганова (64). Он состоит в том, что двое молодых людей вздумали уверять своего приятеля, что он слеп, и для того среди темной ночи, когда он спал, подняли спор об одном слове, которого будто бы не могли разобрать в одной тетради. Проснувшись от шума, он снросил, о чем они спорят, и они попросили его разобрать, что тут написано. Он сказал, что без огня не видит; они начали смеяться над ним и уверяли, что теперь день. Таким образом он уверился, что ослеп. Разница между рассказом «Письмовника» и «Собеседника» та, что там друзья решаются настращать приятеля за богохульство, в котором он упражнялся с вечера, а здесь за то, что он оскорбляет божество Талии, осмеливаясь писать комедии по заказу одного господчика, который, побывав в Париже (как видно, это было в глазах издателей необходимое условие глупости), слыл между дворянами великим умником, да и от мещан тоже хотел получить дань поклонения своему гению.
Мы рассмотрели большую часть нравоучительных статей «Собеседника», в которых являются сколько-нибудь живые личности, сколько-нибудь действительная жизнь. При этом мы не брали во внимание всем известных произведений Державина, Фонвизина, Богдановича и пр., которые могут еще дополнить картину тогдашних нравов, представленную в «Собеседнике». Нельзя не видеть, что в этих статьях более выводится на сцену дурная сторона нравов, и за это нельзя осуждать «Собеседник». Еще в наше время испытал неудачу в создании идеальных русских лиц писатель, которому равного, конечно, не представит прошедшее столетие в нашей литературе[42 - Имеются в виду герои (Костанжогло, Уленька и др.) второго тома «Мертвых душ» Н. В. Гоголя.]. А между тем наше время уже далеко не то, что тогдашнее. Тогда, как видим из «Собеседника» же, старинные предрассудки, невежество, грубость сердца, суеверие, боярская спесь упорно еще боролись против просвещения, насильно вторгавшегося в русскую жизнь. Но остановить распространение света они не могли, и молодое поколение жадно бросилось перенимать французский ум, французские нравы и переняло, разумеется, настолько, насколько можно перенимать ум и нравы. Все было искажено, все перешло в одни пошлые, заученные формы без души, потому что все внимание обращали только на внешность, не думая о том, что под нею скрывается. Да и самая внешность эта была не понята и, поразив сначала удивлением непривычных людей, скоро потом переходила к нам в чудовищных искажениях. Так, французская свобода обращения в переложении на наши нравы сделалась семейным развратом, французская веселость – шутовством, их легкомыслие и беззаботность – презрением ко всяким серьезным занятиям, их насмешки над предрассудками – кощунством, тем более отвратительным, что оно у нас не имело никакого внутреннего основания в личных убеждениях. Словом, что у француза было естественно, чем он был по своей природе, тем русский хотел сделаться чрез подражание и, таким образом, считая правилом для себя то, что было только невольным движением подвижной природы француза, разумеется, впадал в крайности и достоинство обращал в недостаток, а недостаток – в отвратительный порок. Если, остепенившись потом, образованный по-тогдашнему русский принимался за дело, за службу, то выходило еще хуже. Из всего французского учения он понимал, конечно, легче всего то, что уничтожало предрассудки, которым он прежде верил, но взамен этих предрассудков философия того времени не давала ему никаких принципов, к которым бы мог привязаться, которые бы мог полюбить сердцем и мыслию человек, так мало приготовленный к философским отвлеченностям, как были тогда французившиеся русские. Плоды многолетних, тяжелых размышлений, идеи, добытые вековыми горькими опытами и разочарованиями, пролетали чрез головы наших господчиков в несколько дней и, не переваренные, часто не понятые или понятые навыворот, оставляли только в сердце пустоту, а в голове – несколько новых фраз, которые при первом же случае и пускались в оборот, без убеждения и без сознания. Таким образом, они оставались совершенно мертвым капиталом для своих владельцев, не сообщая им убеждений чести и добра, а только освобождая их от страха, в котором держали их прежние верования. Нечего говорить о том, каков должен был сделаться в жизни человек, потерявший всякий страх перед каким-нибудь судом внешним и не имеющий благородства внутреннего. Самый грубый, самый гадкий эгоизм делался пружиною всех действий, и – распложались люди такого рода, какие описаны в стихах «Модное остроумие». Все это горькое переходное время тяжело отразилось на русском обществе, и нельзя не отдать чести «Собеседнику» по крайней мере за то, что он понял нелепость этого положения и старался выводить на общее посмеяние как упорное старинное невежество, так и пустоцвет французской цивилизации, столь дурно усвоенной у нас тогдашними молодыми людьми. Если не прежде всех, то сильнее всех восстал он на употребление французских фраз в русском разговоре, на французское воспитание и на обольщение одною внешностию образования; первый заговорил он с такою энергиею о человеколюбии и об уважении достоинства человека, осмеивая жестокость, грубость, презрение к человечеству. Не много предшественников имел он и в нападениях своих на женский разврат и безумную расточительность. Нельзя не согласиться, что стремления издателей «Собеседника» были честны и благородны, во всем издании нельзя не видеть печати просвещенного вкуса и бескорыстного желания добра, которые всегда отличали княгиню Дашкову в ее ученой и литературной деятельности.
Что касается до исполнения, то оно, конечно, не имеет тех достоинств, каких привыкли мы ныне требовать от литературных произведений. Прежде всего не понравится нам язык тогдашний, неустановленный, с формами старинными и простонародными, с галлицизмами и славянизмами и сбивчивой орфографией (65). Касательно этого обстоятельства есть замечания в самом «Собеседнике». Любословы критиковали неправильности языка, а в предисловии к этим критикам в то же время издатели (вероятно, сама Екатерина) говорили: «Один из издателей нижайше просит, чтоб дозволено ему было и не всегда исправные свои сочинения в «Собеседнике» помещать, так как он ни терпенья, ни времени не имеет свои сочинения переправлять, а притом и не хочет никого тяготить скукою поправлять его против грамматики преступления»[197 - «Соб.», ч. II, стр. 103.]. В самом деле, хотя императрица прекрасно изучила русский язык, но все-таки это не был природный язык ее, и она никогда не могла привыкнуть к сбивчивой его грамматике, почему и признавалась открыто, что грамматики совсем не знает (66)[198 - «Соб.», ч. VII, стр. 137.].
В статьях других авторов тоже встречаются нерусские обороты, странные ныне окончания и т. п.; но сравнительно с общей массой литературных произведений того времени статьи «Собеседника» большею частию были написаны удивительно чистым и легким языком. Дурным изложением отличаются только статьи, над которыми сам же «Собеседник» смеется. Таковы – одно письмо к автору «Былей и небылиц», «Начертание» Любослова. «Начертание» это, впрочем, смешно только напыщенностию длинных периодов во вступлении и заключении; из самого же изложения дела видно, что автор его серьезно занимался исследованиями филологическими. Так, он приводит более сотни слов, сходных в русском и латинском языках, и доказывает, что оба эти языка произошли от одного корня, что резко отличает его от тогдашних филологов, которые были помешаны на заимствованиях одного языка из другого и часто производили всё от славянского. В дальнейшем изложении, впрочем, и Любослов приближается к тому же, доказывая, что славянский древнее латинского, потому что в латинском есть suadeo как одно слово, а у нас оно является в своих корнях – с + вет, равно как слово donee = до + неле, solidus = со + лит (как бы слитой), и пр., и потому, что у нас есть первоначальные формы слов, которые в латинском являются в форме уже распространенной, например, око = oculus, небо = nebula, грач = graculus и пр. На этих немногих словах Любослов основывает свое мнение о древности славянского языка, простирающейся далее двух тысяч лет[199 - «Соб.», ч. VII, ст. XV.]. В критике своей Любослов делает много верных заметок, например, восстает против употребления окончания глаголов на ти вместо тъ, против неправильных ударений в стихах, против неверной расстановки слов, против подобных фраз «избол глаза», «отверзив двери», «ты пишешь в сказках поучений», «отроча рождеи» и пр. Заметим, что Державин, впоследствии исправляя свои стихотворения, принял во внимание некоторые из этих замечаний (67).
Кроме этих произведений, в «Собеседнике» были еще следующие статьи, относящиеся к языку: «Сумнительные предложения одного невежды, желающего приобресть просвещение»[43 - Статья принадлежит П. С. Батурину (см. публикацию Б. Л. Модзалевского «Записки П. С. Батурина». – Голос минувшего, 1918, № 1–2, с. 65).], где он делает несколько заметок на «Фелицу» и на некоторые другие стихотворения, помещенные в I части «Собеседника». В подстрочных примечаниях к его критике Державин и Богданович представили свои опровержения, которые оставили автора критики совершенно в дураках. Например, он замечает, что нельзя сказать: нежить чувства. Державин отвечает: «Если нет у г. Невежды прекрасной женщины, которая бы приятными своими объятиями нежила его осязание, то не благоволит ли он приказать себя кому хорошенько ожечь или высечь. Когда сие ему сделает хотя небольшую боль, то вероятнее всех ученых доказательств из собственного своего опыта познает он, что оскорблять чувства, следовательно, и нежить, – можно»[200 - «Соб.», ч. IV, стр. 13.]. Вероятно, испуганный таким тоном, невежда более не являлся в «Собеседник» с своими сомнениями. По поводу предисловия к «Истории Петра Великого» написано прошение к гг. издателям, чтобы они не отягощали публику сочинениями, которые писаны языком неизвестным; в прошении есть и разбор некоторых фраз, не согласных с духом русского языка[201 - «Соб.», ч. VIII, ст. IV.]. В той же книжке «Собеседника» помещено письмо[44 - Автор письма – Екатерина II.], представляющее набор каких-то слов без смысла, в виде пародии на сочинения Любослова[202 - Ibid., ст. X.]. В последней книжке последней статьей помещено мнение о разделении российских согласных букв в рассуждении правописания з и с[203 - «Соб.», ч. XVI, ст. XII.]. Здесь решено то, что ныне и принято, т. е. чтобы пред твердыми писать з, а пред мягкими с. Только странно, что здесь твердые (б, д) называются мягкими, а мягкие (п, т), наоборот, твердыми. Есть еще в I части маленькая заметка о правописании слова драма.
Более значительны статьи Фонвизина: «Опыт российского сословника»[204 - «Соб.», ч. I, ст. XXIX; ч. IV, ст. XII; ч. X, ст. VIII.], с ответом на критику его против Любослова[205 - «Соб.», ч. III, ст. XI.], и «О древнем и новом стихотворении» Богдановича[206 - «Соб.», ч. II, ст. XVIII; ч. III, ст. II; ч. V, ст. III; ч. VIII, ст. II.]. Эти произведения, впрочем, так известны, что о них нет нужды говорить здесь, тем более что статьи Фонвизина заключают только определения слов, а статьи Богдановича состоят почти из одних выписок стихов Ломоносова.
Из произведений, имеющих предметом своим литературу, можно еще остановиться на письме Именотворителя[207 - «Соб.», ч. XIII, ст. II.]. Автор доказывает здесь важность имен в повестях особенно чувствительных. «Одно имя Моннимии и Аемониды, – говорит он, – в изобильные слезы нежную красавицу или сладкосердного молодца повергнет». Если же «сочинитель без вкуса станет описывать злосчастнейшие приключения, но называет героев своих Брандышевыми, Брандаусовыми и Клонтубасовыми, то впечатление теряется, и хотя никто оспорить не может, что Брандаусов и Клонтубасов имеют столько же права быть несчастными, как какого бы имени христианин ни был»[208 - «Соб.», ч, XIII, стр. 10.].
Для избежания этого неудобства Именотворитель предлагает свои услуги, так как он набрал до семисот французо-русских имен для романов да для ученых сочинений триста имен, содержащих каждое не менее тринадцати букв, чрез что в читателе возбуждаются доверенность и уважение. Много имен также собрано и для стихов, и притом они так остроумно сложены, что, по требованию стиха, можно и выпустить или прибавить слог совершенно незаметно. Важность имен доказывается здесь, между прочим, и тем, что есть много комедий, в которых всю соль составляют имена, изображающие собою характер лиц.
Таким образом, еще в 1784 году находим мы насмешки над тем, против чего принуждена была вооружаться наша критика в 30-х годах текущего столетия и что от времени до времени и теперь еще появляется в некоторых рассказах и комедиях. И в этом случае «Собеседник» далеко опередил свое время.
Но, рассматривая до сих пор светлую сторону «Собеседника», мы еще не видели недостатков, составляющих его темную сторону. Недостатки эти происходили от не установившихся еще убеждений в самих писателях, от некоторого стеснения обществом, которое было еще не приготовлено понимать их чистые стремления, и от недостатка последовательности самим себе. Вообще в характере тогдашней литературы была какая-то двойственность, какая-то нетвердость в однажды начатом пути. Изобразив глупца, автор считал обязанностью рядом с ним поставить и умного, который бы объяснял и поправлял глупости первого; осмеяв ябеду, считали нужным заметить, что, собственно, судьи полезны и даже необходимы, но только честные судьи, и т. п. Видно, что и публика еще требовала назиданий, да и автор не надеялся на свои силы и хотел рассуждениями дополнить то, что опустил при изображении характера. Подобных рассуждений, оговорок, восклицаний много есть и в «Собеседнике». Есть целые статьи, предлинные и прескучные, дидактического направления. Иногда они облекались даже в аллегорическую форму, в которой, разумеется, становились еще скучнее. Таковы две статьи: «Египетская повесть»[209 - «Соб.», ч. II, ст. IV; ч. VI, ст. II; ч. X, ст. II.] и «Новейшее путешествие во сновидении»[210 - «Соб.», ч. XIII, ст. X; ч. XIV, ст. II; ч. XV, ст. II; ч. XVI; ст. VII.] В. Левшина. Первая рассказывает путешествие царевича Нинея, внука царицы Идеи (в которой нетрудно узнать Екатерину), в разные страны, для того чтобы отыскать, где обитают божества Правды, Человеколюбия, Мужества и Мудрости. Путешествие описано очень неискусно, и даже если в нем были какие-нибудь современные намеки, то теперь нет возможности понять их. «Египетская повесть» сама опасается, чтобы не навести на читателей египетской скуки, и нужно сказать, опасение ее сбывается совершенно.
«Новейшее путешествие» описывает нравы лунных жителей и содержит пространные размышления об эфире, о силе тяготения и пр. В авторе видно желание доказать преимущество патриархального, не мудрствующего о жизни народа – пред нами, зараженными новейшим просвещением. В изложении довольно ясно проскальзывают непонятые идеи Руссо. Один старик рассказывает Нарсиму-путешественнику о своей жизни и сообщает ему свои понятия, которые Нарсиму и самому автору кажутся совершеннейшими. «Мы веруем во всевышнее существо, – говорит старик, – любим друг друга, занимаемся земледелием и скотоводством; прочие же науки, которые стали было выдумывать люди, не любящие трудов, отвержены. Кто пустится в разные выдумки, тому мы не даем есть, и голод всегда заставляет его образумиться. Законов никаких мы не имеем, потому что естественный довольно тверд в душах наших; природа же наша, старанием правителей семейств, осталась еще в той первобытной чистоте, в какой развернулась в первом человеке». Затем, для параллели, идет рассказ о земле, на которую путешествовал один из лунных жителей, Квалбоко. Сущность рассказа состоит в том, что все на земле дурно, что различие между дикими народами и просвещенными маловажно: «дикие производят то наглостию, что просвещенные делают искусством».
После этого следуют еще два отрывка из путешествия, не имеющие никакой связи. В одном говорится о египетских божествах и гиероглифах, в другом описываются путешествие Квалбоко по России и его восторг и изумление при виде необыкновенно разумного и благодетельного устройства этого государства под державою премудрой монархини.
Обыкновенными дидактическими рассуждениями наполнены статьи: «Утро», «Полдень» М. X., «Сокращенный катехизис честного человека», «Об истинном благополучии», «Письмо из Карасубазара», «Письмо о великодушных чувствованиях» Богдановича, «Письмо отца и сына», сообщенное Яковом Дол., «Подражание английскому «Зрителю»«, «Некоторые рассуждения о смехе»; отчасти также статьи: «Приятное путешествие» К – ва, «Путешествующие» и др. (68). Сюда же можно бы отнести «поучение» Фонвизина;[45 - Речь идет о «Поучении, говоренном в Духов день иереем Василием», помещенном в ч. VII «Собеседника».] но оно, по своему выражению, может скорее быть названо юмористическим произведением. Не относим сюда также и речи Княжнина, сказанной им в Академии художеств, равно как и статьи «О системе мира», которая имеет свое достоинство в дельном изложении ученого предмета.
Мы не будем ничего выписывать из дидактических статей, потому что нового в них ничего нет; те же самые стремления, какие мы уже показали, выражаются и здесь, только нравоучительным тоном, то в рассуждениях о необходимости добродетели, то в похвалах добрым людям, которые, однако же, очень редко являются в действии живыми, то в обращениях к совести, к небесам, к Минерве российской и пр. Все эти статьи очень скучны; лучше других «Рассуждение об истинном благополучии» и «Подражание английскому «Зрителю»«. Совершенно пусты, но любопытны по изложению статьи: «Письмо Иоанна Приимкова» и «От архангелогородской кумы». В последнем особенно интересна попытка подделаться под простонародный язык[211 - «Соб.», ч. XII, ст. X.].
Иногда в рассуждениях авторов попадаются довольно странные мысли, обличающие еще не совершенно просветленный взгляд или отречение от своих личных убеждений по каким-нибудь житейским расчетам. Так, например, одна статья удивляется тому, что итальянцы подражают французам, и считает это преступлением с их стороны потому, что Италиия владела некогда всем светом[212 - «Соб.», ч. X, стр. 125.], как будто бы сила оружия и пространство империи условливают и высшую образованность… Или: один отец побуждает сыновей служить – зачем же? затем, что иначе «дети отдаваемых нами рекрут будут нашим детям командиры»[213 - «Соб.», ч. IV, стр. 135.]. Дальше этого не простирался просвещенный разум чадолюбивого родителя. А между тем автор выставляет его человеком, достойным уважения и подражания. В «Письме из Карасубазара» старый служивый толкует о дисциплине и, между прочим, открывает в ней вот какие свойства: «Она вливает в душу воина храбрость и мужество, воспламеняет ее любовью к отечеству, растрогивает в ней страсти и побуждения к делам великим и честным, а к низким дает омерзение», и пр.[214 - «Соб.». ч. VII, стр. 13.]. Конечно, таких вещей нехитрому уму не выдумать и ввек.
Но что особенно замечательно, так это постоянное выражение глубокого благоговения к «августейшей наук покровительнице российской Минерве, милосердной монархине», императрице Екатерине. Нет почти ни одного произведения, в котором бы как-нибудь, кстати или некстати – все равно, – не выразились чувства благоговения к государыне. В особенности сатирики отличались этим, и даже чем острее, чем резче была сатира, тем с большим чувством говорилось в ней о благодеяниях, изливаемых на народ императрицей, как будто бы автор хотел этим отстранить от себя всякий упрек в свободоязычии и старался заранее показать, что он предпринимает обличать пороки единственно по желанию добра обществу. Вероятно, в то время находились тоже люди, способные перетолковывать все в дурную сторону, как перетолковали, например, вопросы Фонвизина…
Но верноподданнические чувства в прозе все еще не так сильно выражались, как в стихах. До сих пор мы очень мало говорили о стихотворной части «Собеседника», и, кажется, нам не придется много говорить о ней. Это потому, что одна половина стихотворений, принадлежащая Державину, Княжнину, Капнисту, Богдановичу, так общеизвестна и столько раз была разобрана, что здесь и нечего сказать нового. Другая же половина, принадлежащая неизвестным пиитам, не отличается ничем особенным, что бы могло надолго остановить на себе внимание читателей.
В библиографических заметках перечислены все произведения, принадлежащие известным поэтам и напечатанные в «Собеседнике». Здесь же можем только указать на то, что и тут выбор стихотворений обличает светлый взгляд издателя. «Фелица», как известно, напечатана без ведома Державина княгинею Дашковой), – и она осталась одним из замечательнейших стихотворений во всем издании. Потом из «С.-Петербургского вестника» перепечатаны были лучшие произведения его же: «На смерть князя Мещерского», «Соседу», «На новый 1781 год» и др., а не были перепечатаны, например, «Песнь Петру Великому» или «Песенка отсутствующего мужа». У Капниста издатели просили его сатиры, для напечатания в «Собеседнике» в исправленном виде, особым письмом, напечатанным в первой же книжке журнала[215 - «Соб.», ч. I, ст. XIV.]. Из стихотворений Княжнина перепечатаны из «Вестника» стансы «К богу», по теплоте чувства и по чисто христианскому взгляду на бога, единственно как на высочайшую любовь, стоящие гораздо выше знаменитой оды Державина[46 - Имеется в виду ода Г. Р. Державина «Бог» (1784).]. Что касается до Богдановича, то он был, кажется, присяжным участником журнала и до последней книжки помещал в нем всевозможный вздор. «Душенькой» своей он приобрел такую славу, что с радостью брали всё, выходившее из-под пера его, и он под большей частью стихотворений своих выписывал всеми буквами: Ипполит Богданович. Два его стихотворения были в первой книжке «Собеседника» без подписи; но и тут Богданович не удержался и показал, кто он, как только осмелилась критика коснуться в них некоторых выражений.
Из писателей менее известных, помещавших свои стихи в «Собеседнике», особенного внимания заслуживает Козодавлев, по легкости своего стиха. Полным его именем подписано здесь только одно стихотворение «На смерть князя Голицына»[216 - «Соб.», ч. VII, ст. XIV.], да буквами О. К. подписано «Послание к татарскому мурзе» (Державину)[217 - «Соб.», ч. VIII, ст. I.]. Но ему можно приписать достоверно еще стихотворения: «Клелии»[218 - «Соб.», ч. VI, ст. VI.], «К другу»[219 - Ibid., ст. VII.], из которых последнее подписано: автор «Приятного путешествия» и стихов «Клелии»; «Приятное» же «путешествие» подписано: К – в. Ему же принадлежит, по всей вероятности, «Письмо к Ломоносову, в котором он называет Державина своим другом и говорит, что писал к нему послание[220 - «Соб.», ч. XIII, ст. XI.], Ему же принадлежит, может быть, и шуточная пьеса «Сновидение», которая напоминает его по стиху и в которой гоже говорится о «Клелии»[221 - «Соб.», ч. XVI, ст. IX.].
Вот одна строфа из его оды «На смерть Голицына». В ней он так хвалит умершего:
Коварства он терпеть не мог
И ввек не осквернялся лестью,
К себе во всех делах был строг,
Наполнен был единой честью,
Несчастных жребий облегчал
И никого не мог обидеть,
Желал людей в блаженстве видеть
И милосердием дышал.
В стихах «К мурзе» есть место, замечательное по поэтическому представлению предмета, и потому выпишем его здесь. Козодавлев убеждает Державина писать стихи, не слушая невежд, которые, может быть, уверяют, что люди дельные стихов не сочиняют:
О стихотворстве мысль оттуда их идет,
Где в вечной мрачности невежество живет.
Есть остров в море, проклятый небесами,
Заросший вес кругом дремучими лесами,