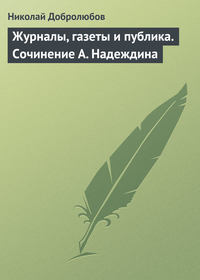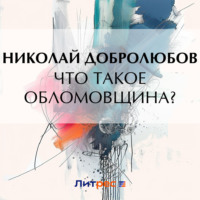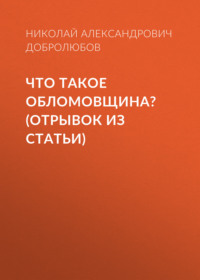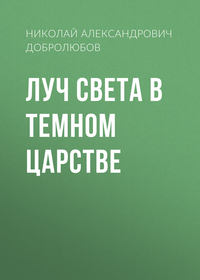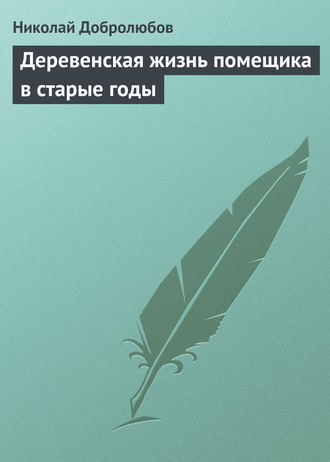
Деревенская жизнь помещика в старые годы
«Но, – замечает г. Аксаков в своих записках, – для того чтобы могли случиться такие строгие и возмутительные наказания, надобно было самой барыне нечаянно наткнуться, так сказать, на виноватого или виноватую. А как это бывало очень редко, то все вокруг нее утопало в беспутстве, потому что она ничего не знала и очень не любила, чтоб говорили ей о чем-нибудь подобном»
(стр. 314) Привычка ничем не стеснять себя, ничего не делать для общества, а, напротив, требовать, чтобы другие всё делали для нее, постоянно выражается во всех поступках Прасковьи Ивановны; гостями своими она забавляется, как ей вздумается, или ругает их в глаза, если захочет; от родных своих она требует повиновения и никогда не встречает противоречия, даже в самых важных случаях. Так, Алексея Степаныча Багрова, гостившего у ней, она не хотела отпустить к умирающей матери, сказавши, что «вздор! она еще не так слаба»; – и Алексей Степаныч не смел ее ослушаться, пробыл у нее лишнее время и не застал в живых матери. Так, она не захотела, чтобы дети обедали с большими, и Софья Николаевна, никогда не обедавшая врозь с своим милым Сережей, не смела даже заикнуться о том, чтобы посадить детей за общий стол. Неограниченный произвол с одной стороны и полное безгласие – с другой развивались в ужасающих размерах среди этой беззаботной, пышной жизни на трудовые крестьянские гроши. Даже в тех поступках, которые происходили просто от радушия, веселости, от доброты сердца, наконец, – и в них этот грубый произвол, это незнание меры своеволию в обхождении с людьми, которых и за людей не считали, выглядывает подобно безобразному пятну на хорошей картине. В воспоминаниях г. Аксакова находим мы, между прочим, изображение сцен такого рода. Между гостями Прасковьи Ивановны бывал часто Александр Михайлович Карамзин, которого все называли богатырем за его огромный рост и необыкновенную силу. «Однажды, в припадке веселости, схватил он толстую и высокую Дарью Васильевну (приживалку Прасковьи Ивановны) и начал метать ею, как ружьем, солдатский артикул. Отчаянный крик испуганной старухи, у которой свалился платок и волосник с головы и седые косы растрепались по плечам, поднял из-за карт всех гостей, и долго общий хохот раздавался по всему дому» (стр. 426). Эти добрые, благородные люди, гости Прасковьи Ивановны, могли смеяться, смотря на такую сцену! Да отчего же им было и не смеяться, когда они тысячу раз видали сцены гораздо посерьезнее? «Но мне жалко было бедную Дарью Васильевну», – прибавь ляет г. Аксаков, и, разумеется, как всегда, непосредственное чувство ребенка, еще чистого и неиспорченного, служит и здесь горькою уликою взрослым.
Другая из личностей, упоминаемая г. Аксаковым и относящаяся к тому же разряду, о котором мы говорили выше, есть богатый помещик Д., употребивший свое богатство очень хорошо: на оранжереи, мраморы, статуи, оркестр, удивительных заморских свиней, величиною с корову, и т. п. Мать Сережи отозвалась о Д., что он человек добрый. То же самое говорил о нем и один из крестьян, который, между прочим, вот что рассказывал о нем:
«Когда умерла одна из свиней (которых было две у Д.), – то-то горе-то у нас было, – говорил мужик. – Барин у нас, дай ему бог много лет здравствовать, добрый, милостивый, до всякого скота жалостливый, так печаловался, что уехал из Никольского: уж и мы ему не взмилились. Оно и точно так: нас-то у него много, а чушек-то всего было две, и те из-за моря, а мы – доморощина. А добрый был барин, уж сказать нельзя, какой добрый; да и затейник! У нас на выезде из села было два колодца: вода преотменная, родниковая, холодная. Мужички, выезжая на поле, вавсегда ею пользовались. Так он приказал над каждым колодцем по деревянной девке поставить, как есть – одетые в кумачные сарафаны, подпоясаны золотым позументом, только босые; одной ногой стоит на колодце, а другую подняла, ровно прыгнуть хочет. Ну, всяк, кто ни едет, и конный, и пеший, остановится и заглядится. Только крестьяне-то воду из колодцев брать перестали: говорят, что непригоже!» (стр. 474).
Видите, как прихотливая затея тогдашнего богатого помещика, затея самая невинная и добродушная, выказывает, однако, полное неуважение обычаев, взглядов и нужд его крестьян. Ему нет нужды, что его деревянные нимфы лишают крестьян воды; зато проезжие останавливаются и дивятся! Это такая же невинная штучка, как выкидывание артикула посредством Дарьи Васильевны. В этом же роде были и затеи старика Багрова, когда он был в хорошем расположении духа. Он после ужина заставлял, например, двух слуг своих, Мазана и Танайченка, драться на кулачки: и бороться. При этом он сам, смеха ради, их поддразнивал до того, что они не шутя начинали колотить друг друга и даже вцеплялись друг другу в волосы. Такая забава действительно не должна была казаться дикою и безнравственною тому человеку, в котором считалось большою милостью, когда он, будучи в хорошем расположении духа, позволил мужику «жениться, не дожидаясь зимнего времени, и не на той девке, которую назначил сам» («Сем. хр.», стр. 43).
Само собою разумеется, что многое из того, что нам кажется теперь бесчеловечным и безнравственным, происходило и от общей тому времени недостаточности здравых понятий обо всем на свете. Сближение с Европою для многих важных бояр послужило только средством получать из-за границы более предметов, служащих к роскошной жизни, а роскошь бым» причиною многих безнравственных поступков. Князь Щербатов, в своем сочинении «О повреждении нравов в России»{14}, главною причиною всего зла полагает сластолюбие[6]. Приводимые им примеры сильно свидетельствуют в пользу его мнения. Но ясно, что сластолюбие могло быть только ближайшею причиною развращения. Остается вопрос: откуда бралось такое сластолюбие, и главное – откуда получало оно средства для удовлетворения своих прихотей? Человек, обязанный приобретать средства для жизни своими трудами, не скоро может предаться влияниям «сластолюбия». Напротив, человек, получающий огромные доходы без всяких с своей стороны усилий, – естественно предается всем излишествам, всякой роскоши, зная, что на него работают другие и что благодаря этим другим средства его неистощимы. Конец концов – вся причина опять сводится к тому же главному источнику всех бывших у нас внутренних бедствий – крепостному владению людьми. Оно-то и внушало владельцу его беспечность, его лень, спесь и презрение к тем, которые были осуждены служить для его прихотей. Общему будто бы непониманию человеческого достоинства в тот век – приписать поступки, подобные вышеприведенным, нельзя. Правда, что в то время и вообще нравы были грубее; но вспомним только, что голос евангельского учения о братской любви к человечеству раздался в нашем отечестве за восемьсот лет пред тем… Что в век Екатерины достоинство и право человека понимались уже очень ясно, доказательством может служить ее Наказ{15}. Мало того, даже в литературе раздавались голоса против неуважения человеческих нрав. В «Живописце» есть одна статья, называющая безрассудством мнение о какой-то неблагорожденности крестьян и приписывающая его именно помещичьему положению и привычкам. Мы приведем эту статью («Живой.», ч. I, стр. 137).
Безрассуд болен мнением, что крестьяне не суть человека, но крестьяне; а что такое крестьяне, о том знает он только потому, что они крепостные его рабы. Он с ними точно так и поступает, собирая с них тяжкую дань, называемую оброк. Никогда с ними не только что не говорит ни слова, но и не удостаивает их наклонения своей головы, когда они, по восточному обыкновению, пред ним по земле распростираются. Он тогда думает: «Я господин, они мои рабы; они для того и сотворены, чтобы, претерпевая всякие нужды, и день и ночь работать и исполнять мою волю исправным платежом оброка; они, памятуя мое и свое состояние, должны трепетать моего взора». В дополнение к сему прибавляет он, что точно о крестьянах сказано: «В поте лица твоего снеси хлеб твой». Бедные крестьяне любить его как отца не смеют, но, почитая в нем своего тирана, его трепещут. Они работают день и ночь, но со всем тем едва-едва имеют дневное пропитание, затем, что насилу могут платить господские поборы. Они и думать не смеют, что у них есть что-нибудь собственное; но говорят: «Это не мое, но божие и господское!» Всевышний благословляет их труды, а Безрассуд обирает их! Безрассудный! разве не знаешь ты, что между твоими рабами и человеками гораздо более сходства, нежели между тобою и человеком? Вообрази рабов твоих состояние: оно и без отягощения тягостно. Когда ж ты гнушаешься теми, которые для удовольствования страстей твоих трудятся почти без отдохновения, то подумай, как должны гнушаться тобою истинные человеки!
Заключением этой статьи служит «Рецепт», в котором Безрассуду предписывается как средство для излечения от безрассудства – упражнение в рассматривании костей господских и крестьянских до тех пор, пока он найдет между ними различие («Живоп.», ч. I, стр. 140).
Что подобные «безрассудства» не вымышлены «Живописцем», а действительно существовали, очевидно из фактов, уже представленных нами, и множества других, которые мы могли бы представить из записок современников. Данилов, например, рассказывает один случай из своего отрочества («Записки Данилова», М., 1842, стр. 42–44), фактически доказывающий, как смотрели иные помещики на крестьян. Данилов был одно время в деревне у родственницы своей, какой-то вдовы, у которой был племянник Ванюша. Раз этот племянник затащил Данилова и еще одного «молодого слугу» тихонько обивать яблоки. Но как те не хотели приниматься за это, то он один управился с яблонью. Тетушке донесли о таком поступке; она велела призвать виновных и, в страх племяннику, велела «поднять слугу на козел, и секли его очень долгое время немилостиво». Племяннику же сделали выговор. О той же вдове Данилов рассказывает, что она, каждый день решительно, призывала во время обеда кухарку и тут же, в столовой, приказывала сечь ее: «И потуда секут, и кухарка кричит, пока не перестанет вдова щи кушать; это так уж введено было во всегдашнее обыкновение, видно, для хорошего аппетита» (стр. 43). В таких развлечениях нельзя не видеть той самой мысли, какую подметил «Живописец» у Безрассуда.
Интересно видеть, как произвол и грубость в обращении с своими подвластными переходили в старину у помещиков и в их собственные семейные отношения. Степан Михайлович, привыкший, чтобы его трепетали в поле, на гумне, на мельнице, не мог уже не требовать страха и трепета и от домашних. Свою Арину Васильевну он таскал за косы так, что она по целому году с пластырем на голове ходила. Дочери боялись и почитали его как своего господина, а не как отца. Отсутствие живых семейных связей и тупая покорность перед силой очень ярко выразилась в семействе Багровых после смерти дедушки. Описание сцен, последовавших за смертью Степана Михайловича, принадлежит к числу самых живых и интересных страниц «Детских годов» г. Аксакова. Любопытно, как относятся теперь мать и старшие сестры к Алексею Степановичу и к невестке, которую прежде столько преследовали. Старуха мать не смеет сесть за стол, пока не явится младший сын, ставший теперь хозяином в доме. Напрасно невестка ее упрашивает не дожидаться; старуха отвечает: «Нет, нет, невестынька: по-нашему не так, а всяк сверчок знай свой шесток». Когда сын входит, она встает и идет к нему навстречу с поклоном, а сестры даже падают в ноги брату с вытьем и просьбами – не оставить их. Потом с теми же униженными просьбами обращаются к невестке, как хозяйке в доме. Сцены эти могут некоторым нравиться, как живой памятник патриархальных отношений домочадцев к владыке дома. Но мы, признаемся, не видим в них ничего, кроме чрезвычайной неразвитости и спутанности нравственных понятий и кроме привычки – быть под началом, при отсутствии всяких духовных связей любви и истинного уважения. Интересно, как выражается за обедом печаль по только что умершем главе семейства. «За столом все принялись так кушать, – говорит г. Аксаков, – что я с удивлением смотрел на всех». Между прочим, одна из дочерей покойника, разливая уху и накладывая всем груды икры и печенок, просила покушать их в память того, что батюшка-то любил их. И при этом слезы капали у ней в тарелку. Несмотря на то, она, как и другие, кушала с удивительным аппетитом. После обеда же все отправились спать и проспали до вечернего чая. В девятый день опять был обед, и тут уже все были спокойны, пока не подали блинов. Но как только явились на стол блины, все принялись кушать их со слезами и даже с рыданиями. Это выражение любви посмертное. А вот что было при жизни. Во время житья в Багрове, уже после смерти дедушки, Сережа зашел в один амбар, отделенный для тетушки Татьяны Степановны, оставшейся незамужнею и жившей при родителях. Там увидел он сундучки, ларчики, ящики, посуду, даже бутылки с новыми пробками и, наконец, кадушку с колотым сахаром. Он обратился за объяснением такого странного явления к своей няне Параше, и та, увлеченная благородным негодованием, объяснила, что барышня все это потихоньку натаскала у покойного дедушки, а бабушка ей потакала. Такова была семейная нравственность, таковы отношения между людьми, в сущности не злыми и но бесчестными. Г-н Аксаков замечает (в «Семейной хронике»), что вообще, несмотря на свой трепет пред Степаном Михайловичем, и жена и дочери пользовались всяким удобным случаем надуть его и постоянно с ним хитрили. Этого, разумеется, и следовало ожидать от людей, которые связываются между собою единственно узами страха и из которых один привык своевольно распоряжаться, а другие – бессловесно и неразумно трепетать пред его волей.
Впрочем, и эти покорные существа имели свою сферу, в которой являлись уже сами распорядительницами. Во владении бабушки Арины Васильевны находился свой особый мир деревенских девок и девчонок. Г-н Аксаков рассказывает одну из сцен бабушкина управления, которой ему привелось быть свидетелем. После смерти мужа Арина Васильевна, уже ослабевшая и отставшая от хозяйства, занималась главным образом пряжей козьего пуха. Множество девочек, сидя вокруг нее, должны были выбирать волосья из клочков козьего пуха. Если выбрано было нечисто, то бабушка бранилась. Один раз бабушка сидела таким образом за пряжей и весело разговаривала с внучком, следовательно, была в самом шелковом расположении духа, когда одна девочка подала ей свой клочок пуху, уже раз возвращенный назад. «Бабушка посмотрела на свет и, увидя, что есть волосья, схватила одной рукою девочку за волосы, а другою вытащила из-под подушек ременную плетку и начала хлестать бедную девочку» (стр. 269). Внучек был возмущен этим зрелищем и убежал от него; но для бабушки это была обыкновенная семейная расправа: на то уж и плетка лежала под подушками. Это даже не было, собственно, назначено для дворовых и крестьянских девчонок; справедливость требует сказать, что и с родными детьми такие потасовки были тогда не в редкость. Руки, привыкшие к размашистому управлению, требовали и в семействе такой же деятельности, как на господском дворе и запашке. Не только у таких людей, как старики Багровы, но и у более кротких господ воспитание детей шло постоянно с помощью собственноручной расправы. Болотов, например, рассказывает о своей матери, что она была весьма кроткая и разумная женщина. О ее кротости, даже трусости свидетельствуют многие обстоятельства в записках Болотова. Когда, например, один сосед подал на нее в суд жалобу, что к ней в именье убежала когда-то его крепостная баба и вышла там замуж за крепостного Болотовых мужика, то мать Болотова крайне перепугалась, собрала домашнее совещание, и, убедившись, что соседа требование правое, что он свою бабу требовать назад во всякое время и по всем законам может, помещица решилась стараться только об одном: склонить соседа к миру, хотя бы и с большими уступками с ее стороны. Другое обстоятельство: Болотова свихнула себе ногу оттого, что очень скоро побежала и как-то второпях неловко повернула ногу при вести о приезде в дом ее брата, который известен был крутым своим нравом. И эта столь боязливая и нерешительная женщина находила, однако же, силы собственноручно наказывать сына. «Нередко случалось, – говорит Болотов (стр. 105), – что она, поставив меня в ногах у своей кровати, предпринимала меня всячески тазать и иногда продолжала тазанье таковое с целый час времени». Как она обращалась с своими людьми, Болотов не упоминает; но об этом можно догадываться из его же слов, что «ее легко было подвигнуть на гнев, и в сем случае должны были все молчать и повиноваться ее воле». Подобных лиц и случаев можно было бы привести множество из разных сочинений, относящихся к тогдашнему быту; но предмет этот так общеизвестен, что распространяться о нем, кажется, нет надобности.
Таким воспитанием поддерживалось, конечно, продолжение старого порядка и в следующих поколениях, и, таким образом, прогресс нравственных понятий был весьма сомнителен. С течением времени исчезла мало-помалу прежняя грубость, самовольство выражалось уже в других, менее оскорбительных формах; но вовсе не выражаться оно не могло. О сочувствии к простому народу, о любви к нему, о понимании его нужд и интересов не могло быть и речи. Сильнейшее доказательство этого находим мы в матери Сережи, Софье Николаевне. Ей было легче других помещиков проникнуться любовью к бедным земледельцам. Ее дедушка был уральский казак, а мать из купеческого звания; преследуемая мачехой, она сама в годы нежной юности испытала всю тяжесть принудительной работы; ее природный ум был ясен и крепок; образование было выше, чем у других. Но и она в отношении к своим слугам и крестьянам не могла стать на ту высоту, какая ныне требуется от человека истинно просвещенного. Она не делала и не говорила ничего дурного прислуге, припоминает г. Аксаков; при всем том ее не любили. Без сомнения, прислуга видела в ней этот величавый, безмолвно подавляющий взгляд, с которым она относилась ко всему окружающему. Она запретила своим детям всякое сношение с прислугой в Багрове и Чурасове. Положим, что она была права, полагая, что багровская и чурасовская дворня ничему не может научить детей, кроме худого. Но ведь не запретила же она детям разговаривать с двоюродными их сестрицами, которые объяснили Сереже, что они беспрестанно лгут и во всем обманывают родителей, что без этого нельзя и пр. Тут, значит, кроме детской нравственности, были и другие соображения. Но это еще не важно; есть другие обстоятельства, более значительные. Узнав, что няня Сережи, Параша, сказала ему что-то нехорошее про тетушек (которых Софья Николаевна сама не любила), мать его, хотя и знала, что все сказанное справедливо, тем не менее погрозила, если впредь что-нибудь подобное услышит, сослать Парашу в деревню за скотиной ходить, разлучивши с мужем. Мы оставляем в стороне внутреннее побуждение такой угрозы: это могло быть и неудовольствие на то, что прислуга смеет рассуждать о господах, и самолюбивое желание выставить себя ангелом, не позволяющим другим бранить врагов своих, и материнская боязнь за сына, чтобы он не проникся враждой к своим родным. Может быть, все это вместе участвовало в негодовании на Парашу. Но каково проявление этого негодования? «Я, дескать, сошлю тебя в дальнюю деревню за скотиной ходить, а не за сыном моим!» Не правда ли, что здесь довольно сильно обнаруживается, как трудно человеку не принять некоторых нехороших замашек, оградить себя от некоторых излишеств, к которым его положение дает ему повод и даже как будто некоторое право! Самое отстранение Софьи Николаевны от дел хозяйства и от крестьян происходит, очевидно, не от сознания ложности своего положения в отношении к ним, не от робкой застенчивости, думающей: что я им такое? Это вовсе не простодушие Сережи, который, увидев, как в Парашине мужики кланяются его отцу и приветствуют его, спрашивает с изумлением: «За что это они так нас любят? Что мы им сделали?» Нет, тут скрывалось совсем другое чувство. Когда Алексея Степаныча ввели во владение отцовским имением, он вместе с женой и детьми должен был, по обычаю, выйти к крестьянам. Но Софья Николаевна никак не хотела согласиться на это, несмотря на все упрашиванья мужа и старухи свекрови, которую она должна была теперь заменить в хозяйстве. Крестьяне были очень недовольны, что не видят молодой барыни, и Алексей Степаныч должен был им сказать, что она нездорова. Узнав об этом, она приняла выговаривать мужу за то, что он солгал, так что он принужден был ответить ей: «Совестно было сказать, что ты не хочешь быть их барыней и не хочешь их видеть; в чем же они перед тобой виноваты?» Потом на вопрос сына, отчего она не вышла к крестьянам, мать отвечала, что от этого бабушке и тетушке было бы грустно. «Притом же я терпеть не могу… ну, да ты еще мал, и понять меня не можешь». Последние слова заставили сына долго ломать голову над тем, чего мать терпеть не может? Неужели добрых крестьян, которые сами говорят, что их так любят? (стр. 263). Предположения мальчика были справедливы только отчасти: скорее нужно думать, что Софья Николаевна, не терпевшая всякой лжи, не могла терпеть народных изъявлений восторга и любви от людей, для которых она ничего не сделала, которых не знала и с которыми нимало не могла симпатизировать. Нам грустно за искажение естественных человеческих отношений, когда мы думаем обо всех, принимавших участие в этом случае. Жаль видеть бедную женщину, смутно сознающую ложность отношений, в которые она поставлена к неизвестным ей людям. Выйти ей и принять привет крестьян? Да чем же она его заслужила? Что она для них такое? И что же делать, когда она не может, не лицемеря, показать им свое сочувствие, потому что в сердце у нее живого сочувствия к ним нет и не может быть? Не выйти? Но тут опять встречают ее ложные отношения, от которых становится еще более грустно. Муж ее говорит: «Разве они виноваты перед тобой, что ты не хочешь быть их барыней?» То есть, по его понятию, барыня дается мужикам как бы в награду за хорошее поведение. Сами мужики едва ли не разделяют этой мысли: они так смиренны, так привыкли к своему положению, что их желания действительно не простираются далее господской милости. При таком положении дела действительно все здравые понятия перепутываются, даже в душе самой неиспорченной. Маленький Сережа признается, что уже не спрашивал в это время, за что их так любят крестьяне: «Я убедился, что это непременно так быть должно» (стр. 261).
Взгляд Софьи Николаевны на крестьян объясняется аристократическим складом всех ее убеждений и чувств. Она любит изящное, доброе и благородное, но мысль поискать всего этого между крестьянами не приходит ей в голову. Ей сильно препятствует здесь то ложное положение, в котором стоит она к этому народу. Она, конечно, не стоит на степени развития Простаковой, которая, узнавши, что Палашка лежит больная и бредит, восклицает с негодованием: «Лежит, бестия, – бредит! как будто благородная!» Но все-таки и Софья Николаевна не могла еще дойти до понятия о том благородстве, которое равно свойственно и помещику и крестьянину и которое нередко может быть в совершенно обратном отношении к общественному положению лица. Она желала бы вовсе не знать о существовании крестьян, которых положение вовсе ее не занимает. Проезжая через Парашино и видя крестьянские запасы хлеба, Алексей Степаныч, по чувству ли хозяина или просто по доброте сердца, восклицает: «Вот так крестьяне! молодцы! Сердце, глядя на них, радуется». Но Софья Николаевна не только не радуется, а даже не обращает внимания на слова мужа. Проезжая мимо хлебов, Багров опять жалеет, что не успеют мужички убраться; жена его и тут слушает его без малейшего участия. Маленький сын прибегает к ней с восторженными рассказами о том, что он видел на поле, как крестьяне пашут, сеют, косят: она не только без участия, но даже с неудовольствием слушает его рассказы… Сыну хочется идти вместе с отцом посмотреть на заимку пруда: она его не пускает, потому что «нечего ему делать в толпе мужиков и не для чего слушать их грубые и непристойные шутки прибаутки и брань между собою». Муж напрасно старается уверить ее, что ничего подобного не бывает (стр. 365–366). В ее присутствии багровские дворовые девушки должны отказаться от своих песен и с сожалением говорят ее сыну: «Матушка ваша не любит наших деревенских песен» (стр. 391). Словом, полное отчуждение от простого быта крестьян, высокомерное пренебрежение к нему выражается почти в каждом поступке Софьи Николаевны, хотя она не позволяет себе никаких жестокостей и грубостей.
Отчего же такое отчуждение в ней именно? У нее должно быть все-таки больше развито чувство любви и уважения к человечеству, нежели, например, хоть в стариках Багровых; почему же они не чуждаются крестьян, а она чуждается? Если мы вдумаемся в сущность этого явления, то неизбежно должны, кажется, прийти к заключению, вовсе не отрадному. Какие точки соприкосновения с крестьянами видим мы в старинном быту помещиков? Во-первых – корысть. Хозяйственные распоряжения неизбежно сближали помещика, живущего в деревне, с крестьянами, которые должны исполнять его распоряжения с соблюдением его выгод. Вторым обстоятельством, сближавшим помещиков с крестьянами, были тогда – равно низкая степень образованности тех и других. Нравы большинства помещиков того времени были грубы и невежественны, как мы уже видели из множества примеров; следовательно, нечего было опасаться, чтобы какое-нибудь жесткое выражение или грубый поступок не оскорбил нравственного чувства господина. Куролесовы, Багровы и тому подобные потому не боялись сближаться с своими крепостными людьми, что не видели в себе нравственной разницы с ними. Притом же, входя в хозяйственные сношения с крестьянами и даже пускаясь в интимности с домашней прислугой, они знали, что ни к чему себя этим не обязывают. Они знали, что все-таки эти люди находятся в их руках. Куролесов, кутивший с пьяной ватагой всяких сорванцов, тем не менее пробовал свои «кошечки» на том из них, кто ему не нравился. Дочь Багрова, Татьяна Степановна, ничуть не считала неловким бить свою Матрешку, верную хранительницу ее заповедного амбара со всеми его секретами. Дело очень естественное: помощь, услуги, сообщничество этих людей – все считалось обязательным; они не могли и не смели не сделать так, как это им приказано; следовательно, принимая услуги их, поверяя им свои нужды, господин все-таки не терял своих прав: мог их наказывать, ссылать, сечь, сколько его душе угодно было. При таких понятиях отчего же было и не сходиться с крестьянами и дворовыми, отчего не сближаться с ними по наружности? Ведь существенное-то расстояние все-таки оставалось и не могло быть забыто ни тем, ни другим… Этих-то воззрений не могла, конечно, понять Софья Николаевна; а до других она не могла еще возвыситься и потому остановилась на распутье – на пренебрежении к простому народу и к простому быту.